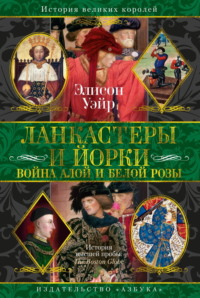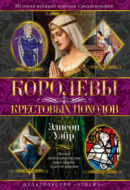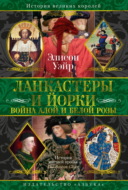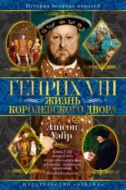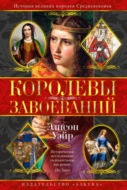Czytaj książkę: «Ланкастеры и Йорки. Война Алой и Белой розы», strona 2
В XV веке предпринимались отдельные попытки упорядочить законы о престолонаследии, однако верховные юридические органы, опасаясь мести со стороны заинтересованных вельмож, неоднократно отказывались вынести ясное и недвусмысленное суждение по этому вопросу, ссылаясь на то обстоятельство, что здесь нельзя принять решение с опорой на общее право.
Войны Алой и Белой розы в первую очередь были конфликтами между крупными магнатами-феодалами. Класс вельможных магнатов-феодалов формировался из небольшого числа герцогов, обыкновенно состоявших в родстве с королевским домом, маркизов и графов, а также множества баронов, рыцарей и мелкопоместных дворян. Этим людям принадлежала бóльшая часть земельных угодий королевства, они обладали самым сильным влиянием в своих поместьях, где их уважали и нередко боялись.
Джон Рассел, архиепископ Линкольнский, в восьмидесятые годы XV века занимавший пост лорда-канцлера, видел в английской аристократии неколебимую скалу, гордо возвышающуюся посреди бушующего моря. Именно на аристократию была возложена ответственность за управление Англией. Аристократия ожидала от короны чинов, званий, титулов и наград за службу, будь то в политике, на поле брани, в административном аппарате королевского двора, на дипломатическом поприще или в местных органах управления.
Титул и положение решали всё. Во время войн Алой и Белой розы опытные, испытанные командиры подчинялись мальчикам-подросткам просто потому, что те были особами королевской крови. Чем выше титул, тем богаче был лорд. Крупный феодал, такой как, например, герцог Йоркский, имел годовой доход более трех тысяч фунтов5. Барон мог рассчитывать на получение годового дохода примерно в 700 фунтов, а рыцарь – от 40 до 200 фунтов. Строительство такого укрепленного замка, как, например, Кейстер в графстве Норфолк, обходилось примерно в шесть тысяч фунтов.
Начиная с XIV века число крупных вельмож-феодалов уменьшалось. Войны, эпидемии, междоусобицы и турниры привели к тому, что многие мужские линии прекратили свое существование. Титулы часто передавались через вступающих в брак наследниц, получаемые путем брака состояния в результате росли. Хотя к XV веку крупных вельмож-феодалов и насчитывалось меньше, чем раньше, они имели куда более обширные земли и были значительно богаче, нежели когда-либо прежде. К этому времени оставалось очень немного старинных англо-нормандских фамилий, но главные семейства этой эпохи: Монтегю из Солсбери, Кортни из Девона, Перси из Нортумберленда, а также Невиллы, Фицаланы, Бошаны, Стаффорды и Мортимеры – происходили от баронов и рыцарей и были почти неотличимы от представителей этой группы, из которой они зачастую выбирали девиц себе в жены. Многие рыцарские семейства, например Типтфоты и Бонвиллы, обладали крупными земельными угодьями и влиянием, а в XV веке удостоились звания пэров. Кроме того, они старались приумножить свои богатства, породнившись путем брака с семьями состоятельных купцов.
К середине века многие из крупных вельмож-феодалов накопили значительные богатства, вкладывая деньги в торговлю, а брачные союзы заключали благоразумно с целью увеличить свои поместья и усилить свое влияние. Так, по словам лорда – главного судьи Фортескью, сложился тип «слишком могущественного королевского подданного», которому присягало на верность огромное войско «держателей» – арендаторов господской земли – и челядинцев, безусловно преданных своему господину и по первому требованию являвшихся за него воевать. Действительно, престиж аристократа в этот период стал оцениваться по размеру его личной армии и его «свиты», то есть тех, кто обязался служить ему по договору.
К эпохе царствования Генриха VI (1442–1461) феодализм уступил место строю, часто описываемому как «бастардный феодализм». Представители всех классов общества извлекли финансовую прибыль из Столетней войны с Францией, а вернувшись домой, некоторые потратили эти деньги на то, чтобы обзавестись землей и стать родоначальниками новых помещичьих семей. Впрочем, их выживание зависело от возможности получить доход, позволяющий вести приличествующий помещику образ жизни, и многие из них отдавались под покровительство какого-либо могущественного вельможи, но не как феодальные вассалы, которые приносили своему лорду клятву верности и в обмен на его покровительство исполняли при нем, когда это требовалось, обязанности рыцарей, а как служители-челядинцы, одетые в его «ливрею» и заключавшие с ним договор. Этот договор, или двусторонний контракт, связывал феодала с челядинцем на условленный срок, иногда пожизненно. Челядинец вступал в свиту своего лорда, облачался в его «ливрею», то есть одежду его геральдических цветов, украшенную его эмблемой, и отныне сопровождал его в военных кампаниях. В свою очередь, лорд обеспечивал служителю «доброе попечение», то есть защиту от врагов и выплату дохода, который получил известность как «денежный феод». Кроме того, челядинец мог рассчитывать на вознаграждение за выполненную службу, зачастую довольно внушительное, в форме земельных наделов и прибыльных должностей.
Опираясь на подобную систему, богатые вельможи-феодалы могли сплотить вокруг себя свиты, которые составляли весьма устрашающее войско. Не будь подобных частных армий, войны Алой и Белой розы были бы невозможны.
Личная верность не играла особой роли в этих новых отношениях лорда и его служителя-челядинца. Лорд мог повелевать большой свитой лишь в том случае, если он был богат, влиятелен и легко добивался поставленных целей. Эгоизм, алчность и перспективы возвыситься стали определяющими для членов феодальных «ливрейных свит», решающими побудительными мотивами, «ибо, – как писал Фортескью, – люди последуют за тем, кто будет лучше содержать и вознаграждать их».
«Бастардный феодализм» зародился в XIII веке, однако его развитие обусловили упадок классического феодализма, Столетняя война, а также экономические и социальные последствия «черной смерти». К концу XIV века правительство было уже серьезно обеспокоено влиянием этой тенденции на отправление правосудия на местном уровне и издало законы, ограничивающие ношение ливрей. Впрочем, до царствования Генриха VI аристократов более занимали войны с Францией, чем создание политической опоры дома. Однако к 1450 году глубоко встревоженные власти осознали, что «бастардный феодализм» представляет собой угрозу не только миру на местах, но и стабильности самого центрального правительства. Частные армии аристократов фактически облагали сельские районы данью, требуя взяток, вымогая деньги и не гнушаясь насилием, и нарушали закон и порядок, запугивая местное население и угрожая ему всяческими карами, часто при поддержке знатных лордов, которые наняли их и в обязанности которых входило поддерживать мир в стране от имени короля. Это подрывало доверие к судебной системе. У англичан возникало ощущение, что справедливости в суде всегда добьются только те, кто сможет заплатить довольно за «правильное решение».
Фортескью предупреждал об «опасностях, которые представляют для короля чрезмерно могущественные подданные. Разумеется, не может быть для монарха пагубы большей, чем иметь подданного, во всем сравнимого с ним самим». Ряд крупных феодалов «по своему богатству и силе уже уподобился королю», а это не предвещало ничего хорошего миру в королевстве.
Некоторые владетельные феодалы были образованными, утонченными людьми, добросовестно исполнявшими свои обязанности. Как и вся их каста, они представляли себе идеальную структуру власти в виде треугольника с монархом на вершине и не сомневались в своем освященном веками праве поступать как главные монаршие советники. Французский хронист XIV века Жан Фруассар восхвалял английскую аристократию за ее необычайную «вежливость, любезность и отсутствие холодности и чванности», но на деле в XV веке так бывало далеко не всегда. Среди английских аристократов встречалось немало грубых, склонных к насилию людей, которые едва могли скрыть свою жестокость и низменные инстинкты за внешними атрибутами рыцарства. Находились среди них и те, кто, подобно Джону Типтофту, графу Вустерскому, заслужил печальную славу садистов.
Многие аристократы были лишены чувства политической ответственности. Они часто враждовали друг с другом или, руководствуясь мелкими клановыми интересами, становились на противоположные позиции и ни о чем не могли договориться. Те, кто обладал наивысшей властью в стране, нередко отличались продажностью, алчностью и пристрастностью во мнениях, проявляли жестокость и безжалостность, состязались между собой за покровительство короля, ревниво оберегали собственные интересы и были мало озабочены судьбами более слабых и не столь знатных. «Высшие чиновники в королевстве обирали народ до нитки и совершили множество злодеяний», – писал один хронист в пятидесятые годы XV века.
Самые влиятельные феодалы без зазрения совести пользовались щедростью такого слабого короля, как Генрих VI, и потому захватывали столько коронных земель, почетных должностей и выгодных постов, сколько могли, и богатели по мере того, как корона все более и более погрязала в долгах. Не ощущая сильной руки, способной положить конец такому произволу, эти феодалы буквально вышли из-под контроля и представляли собой еще одну угрозу безопасности королевской власти.
XV век был эпохой разительных перемен, затронувших все слои общества. Средние классы постепенно становились все более процветающими и влиятельными, а некоторые их члены даже бросали вызов издавна укоренившимся обычаям и вступали в браки с представителями помещичьего и рыцарского сословия, в то время как другие с помощью прибыли, полученной от торговых предприятий, обеспечивали себе уровень жизни, который прежде был дозволен только людям благородного происхождения. В то же время знать начала баловаться торговлей, а герцоги Саффолкские были всего-навсего потомками купца родом из города Халла (Гулля). Низшие классы, вдохновляемые учениями лоллардов, все чаще подвергали сомнению существующий порядок. Эти перемены обусловили рост анархических настроений в обществе и одновременно недоверия к власти и закону.
С начала царствования Генриха VI жалобы на коррупцию, беспорядки, мятежи и злоупотребления судебной властью стали раздаваться все чаще. К пятидесятым годам XV века ситуация в стране ухудшилась настолько, что все слои общества стали требовать от правительства решительных мер, долженствующих положить конец творящимся безобразиям. Закон и порядок рухнули, а от преступности буквально не было спасенья. Многих солдат, вернувшихся с войны из Франции, родина встретила неласково. Обездоленные, привыкшие к насилию и избавленные от необходимости подчиняться воинской дисциплине, они часто выбирали поприще разбоя и злодеяний. Некоторых из них богатые лорды нанимали запугивать своих врагов, нападать на них и даже убивать, причем эти их враги часто принадлежали к сословию мелкопоместного дворянства-джентри и не могли защититься от вооруженных бандитов, взятых на службу теми, кто стоял выше них на социальной лестнице.
Вину за воцарившийся по всей стране хаос можно возложить непосредственно на Генриха VI, в обязанности которого входило контролировать своих вельможных феодалов и добиваться соблюдения закона и порядка. Но король, отнюдь не пытаясь избавить своих подданных от претерпеваемых ими бесчисленных бедствий, ничего не предпринимал. Мировых судей, вершивших правосудие от его имени, и далее запугивали или подкупали, и англичане, по праву гордясь своей системой законов и процветающей профессией юриста, отнюдь не закрывали глаза на творимые сильными мира сего злодеяния и признавали извращение правосудия величайшим пороком своего века.
Хронист Джон Хардинг писал:
Во всяком графстве правит хаос, облаченный
В доспех и шлем солдатский, и сосед разит соседа.
Большинству преступников, по-видимому, бесчинства сходили с рук. Они могли предстать перед судом, если их ловили с поличным, однако их часто оправдывали, а даже если нет, короли Ланкастерской династии, в особенности Генрих VI, даровали тысячи помилований.
Смертной казнью каралась государственная измена, считавшаяся тягчайшим, намного превосходящим прочие преступлением, а также убийство и кража предметов стоимостью более шиллинга. Изменников по закону полагалось вешать, выпускать им кишки, а потом четвертовать, и прибегали к этой варварской практике с XIII века. Изменников благородного происхождения обычно избавляли от полного набора ужасных пыток и казнили через отсечение головы, однако людей не столь знатных никак не щадили. Некоторые изменники не представали перед судом, а приговаривались к казни и лишению титулов, званий и собственности актами об объявлении вне закона, которые принимал парламент. Впоследствии значительное число этих актов о государственной измене отзывалось, позволяя обвиняемому или его наследникам вернуться на родину «живым и невредимым» или получить назад отобранные поместья.
Как замечал один итальянский наблюдатель, «в этой стране нет ничего легче, чем бросить любого в темницу». В тюрьмах содержались главным образом несостоятельные должники и уголовные преступники, тогда как совершившие преступления против государства обыкновенно томились в лондонском Тауэре или других крепостях. Полиции как органа охраны порядка не существовало. Надзор за соблюдением закона и порядка входил в обязанности шерифов и их констеблей на местах, однако зачастую они были продажны или бездеятельны.
Царящий в эту пору хаос не помешал купеческому сословию накопить немалые богатства. После 1450 года торговля шерстью медленно начала терять свое прежнее значение, однако одновременно за границей стал расти спрос на другие английские товары, например шерстяное сукно, олово, свинец, кожу и резные изделия из алебастра, изготовлявшиеся в графстве Ноттингемшир.
Принадлежащий англичанам порт Кале на северо-западе Франции был главным рынком, где продавалась английская шерсть. Так называемая Складская торговая компания6 добилась получения монополии, которая позволяла ей продавать ввозимую в Кале из Англии шерсть купцам со всей Европы. Мир и спокойствие в Кале были необычайно важны для торговых сословий, однако мир этот часто оказывался под угрозой во время Войны Алой и Белой розы, когда враждующие феодалы избирали Кале местом своего изгнания или, еще того хуже, рассматривали этот город как своего рода плацдарм для вторжения в Англию.
Многие купцы, особенно жившие в Лондоне, разбогатели на ввозе предметов роскоши из Средиземноморья, куда стекались дорогие товары из еще более удаленных уголков мира: пряности, лекарственные снадобья, бумага, восточные шелка, рукописи, доспехи, вина, хлопок, сахар, бархатные ткани и драгоценные камни. Много веков англичане импортировали вино из Бордо и Гаскони, и, к счастью, завершение Столетней войны и победа французов не прервали этой торговли и даже не слишком сильно на нее повлияли.
Фортескью придерживался мнения, что «простолюдины в этой стране едят слаще и одеваются лучше, чем где-либо». Крепостное право после эпидемии «черной смерти» стало отступать, а из-за недостатка рабочих рук крупные феодалы и другие землевладельцы теперь соглашались платить крестьянам, готовым обрабатывать их угодья. Усилия правительства, пытавшегося установить предельную оплату крестьянского труда, не возымели успеха, а спрос на наемный крестьянский труд по-прежнему оставался высок. У многих лордов освободились участки земли для сдачи внаем, поскольку барщину быстро сменяла аренда, а плата за арендуемые наделы была соблазнительно низкой.
С исчезновением крепостничества крестьяне получили бóльшую личную свободу и свободу передвижения, однако их участь нередко оказывалась печальной, особенно зимой, когда им угрожал голод и холод. Многие крестьяне жили в крохотных хижинах, состоявших из одной-двух горниц, с земляными полами, маленьким оконцем и всего несколькими предметами обстановки. Скот держали тут же, в доме. Многие влачили жалкое существование в нищете и зависели от милостыни, подаваемой церковью или богатыми мирянами.
Впрочем, не так много крестьян пострадало от нужды в результате сельскохозяйственной депрессии, которая продлилась с конца XIV до примерно шестидесятых годов XV века и сопровождалась передачей пахотных земель под пастбища для овец. Депрессия привела к падению арендной платы за землю и цен вообще, а значит, крестьянское сословие, труд которого был столь востребован, стало преуспевать, как никогда прежде. Многие фермы оказались заброшены, особенно на севере, и землю можно было купить дешево. Отличительной чертой этой эпохи стал добившийся всего сам крестьянин, сумевший выкупить свою землю и процветающий. Один подобный фермер из Уилтшира получил большие прибыли от изготовления шерстяного сукна и по завещанию оставил своим наследникам две тысячи фунтов, огромную сумму для того времени.
Крестьянин в среднем зарабатывал от 5 до 10 фунтов в год; в 1450 году батракам платили по 4 пенса в день, тогда как искусные ремесленники зарабатывали от 5 до 8 пенсов в день. Построить крестьянский дом можно было примерно за 3 фунта 4 шиллинга (3,2 фунта). Впрочем, продукты питания по сравнению с XIV веком подешевели в два раза; например, яйца стоили 5 пенсов за сотню, молоко или пиво – 1 пенс за галлон, деликатесы вроде красного вина – 10 пенсов за галлон, сахар – 1 шиллинг 6 пенсов (0,075 фунта) за фунт, а перец 2 шиллинга (0,1 фунта) за фунт.
Управление страной осуществлял королевский cовет, который заседал почти непрерывно и состоял из лордов светских и духовных, а также из способных людей не столь высокого происхождения. Король иногда председательствовал на совете, однако его присутствие не всегда требовалось для бесперебойного функционирования этого органа; впрочем, любые решения принимались от имени монарха.
Главное назначение совета заключалось в том, чтобы помогать королю формулировать политику государства и выполнять текущие задачи управления страной. Долгое несовершеннолетие Генриха VI повысило престиж и полномочия совета, как и могущество вельможных феодалов, надолго пробудив в них вкус к верховной власти, утолить который им будет нелегко.
Королевством управлял именно совет, а не парламент. Парламент не играл столь важной роли, хотя на протяжении XV века его полномочия непрерывно возрастали. Парламент включал в себя три сословия королевства: лордов духовных и светских, а также общины, представленные в парламенте рыцарями из графств, управляемых от имени короля, или гражданами из городов, имеющих самоуправление. Главными задачами парламента были введение налогов и рассмотрение ходатайств. Кроме того, парламент выполнял функции Верховного суда.
Король мог созывать и распускать парламент, как ему заблагорассудится, однако существовали случаи, когда он не имел права действовать без его одобрения. «Не заручившись поддержкой своего парламента, король не может вести войну, – писал Коммин. – Это весьма справедливое и похвальное установление, и короли, опираясь на парламенты, обретают силу и лишь выигрывают. Король объявляет о своих намерениях и просит помощи у подданных; он не может ввести никаких налогов в Англии, кроме как на военный поход во Францию или в Шотландию или на какое-либо сравнимое предприятие. Это они одобрят с большой охотой, особенно если речь пойдет о нападении на Францию!» А еще без согласия парламента нельзя было принимать новые законы. Впрочем, выборы в парламент нередко фальсифицировали, а вельможи, когда это могло затрагивать их собственные интересы, не стесняясь протаскивали туда множество лиц из своей свиты.
Парламент можно было созвать на заседание в любом месте королевства, но обыкновенно он заседал в чудесном Расписном покое Генриха III в Вестминстерском дворце. Иногда палата лордов собиралась в Белом покое или в Маркульфовом зале дворца, а палата общин – в Трапезной Вестминстерского аббатства.
Центром решений в аппарате управления страной выступал необычайно влиятельный королевский двор, состоявший из собственно двора и различных государственных департаментов, в числе каковых наиболее важными считались Суд лорда-канцлера, Казначейство, Личные покои монарха и Гардероб. Они несли ответственность за юридические, финансовые и административные аспекты управления, а также обеспечивали всем необходимым двор и удовлетворяли официальные и личные потребности короля и его семьи, вплоть до предоставления ему лошадей, одежды и еды. Следовательно, королевский двор был неким политическим «мозгом» страны, а придворные служащие пользовались огромным влиянием просто в силу своей близости к монаршей особе.
Столицей государства и главным местом пребывания правительства, конечно, был Лондон, в ту пору занимавший примерно одну квадратную милю к северу от реки Темзы и обнесенный стеной с семью воротами, которые запирались на ночь. Главные оборонительные сооружения города были сосредоточены в лондонском Тауэре – одновременно крепости, дворце и государственной темнице, – и тогда он еще не обрел той мрачной славы, которой будет овеян впоследствии.
В Лондоне существовал всего один мост, выстроенный из белого камня на девятнадцати арочных пролетах, обрамленный домами и лавками и даже приютивший часовню. Темза была главной лондонской магистралью, а быстрее всего было передвигаться по городу водным путем, на барке или на пароме, ведь узкие, зловонные улицы часто оказывались запружены телегами, толпами или стадами скота. Соответственно, вдоль речных берегов было устроено множество причалов, и сотни лодочников развозили пассажиров по воде, где и так уже тесно было от торговых кораблей и частных судов. Плата за провоз пассажира в среднем составляла один пенс. Вдоль реки располагались набережные, доки, склады, верфи и портовые краны, а дальше, у Стрэнда, от вилл аристократов к реке спускались пышные сады, каждый со своей собственной маленькой пристанью.
Иностранных гостей поражало благородство местных зданий и сооружений, будь то возведенный в стиле «перпендикулярной готики» собор Святого Павла, Гилдхолл, изящные особняки вельмож, Вестминстерский дворец и соседствующее с ним аббатство, а также не менее восьмидесяти городских церквей. За городскими стенами постепенно росли и предместья, однако они долго оставались небольшими поселениями, и в 1483 году итальянский наблюдатель Доминико Манчини был чрезвычайно удивлен идиллической безмятежностью столичных пригородов, их зелеными лугами и пастбищами и широко раскинувшимися полями.
Лондоном управляли избранный лорд-мэр, олдермены и городской совет; все эти представители муниципальных властей набирались из рядов богатого купечества, ревниво охраняли городские привилегии и обладали немалым политическим влиянием. «Город принадлежит ремесленникам и торговцам», – заметил Манчини. Лондону предстояло сыграть одну из главных ролей в Войне Алой и Белой розы, и поддержка, оказываемая им тому или иному претенденту на престол, или отсутствие таковой имели решающее значение.
Некий чужеземный гость описывал Лондон как самый крупный и оживленный город на свете, а один миланский посланник полагал, что «это богатейший город во всем христианском мире». Впрочем, чрезвычайно удачно уловил и передал дух Лондона в стихотворении, сочиненном в девяностые годы XV века, шотландец Уильям Данбар:
Да будут твои стены нерушимы,
Пусть будет твой народ простым и мудрым,
Река – все так же ясна и красива.
И церкви пусть трезвонят ранним утром…
Пусть славятся купцы твои богатством,
А жены красотой дивят весь мир,
И флаги разных наций к вам на пир
Весною в устье Темзы заплывают…7
XV век был периодом, когда существенно вырос уровень жизни. Об этом свидетельствуют сохранившиеся церкви, замки и особняки, а также инвентарные описи мебели и собственности.
Несмотря на тревожные времена, мощных укрепленных замков возводилось совсем немного, а уже существующие модернизировались: в них достраивались прежде не предусмотренные просторные покои, прорезались широкие окна, домашняя обстановка заменялась на куда более роскошную. Богачи возводили для себя сельские виллы и помещичьи дома-мэноры, которые удовлетворяли их жажду удобства и эстетического наслаждения. Подобные дома не предназначались для защиты их обитателей, хотя многие из них и украшали такие оборонительные элементы, как крепостные рвы, бойницы и амбразуры, надвратная комната, из которой можно было контролировать вход в замок, – впрочем, теперь они выполняли сугубо декоративную функцию. Эта архитектурная мода доказывает, что владельцы подобных поместий с полной уверенностью рассчитывали на долгий мир и спокойствие в стране, а сохранение данной архитектурной моды даже во времена войн Алой и Белой розы свидетельствует, что эти вооруженные конфликты не возымели столь катастрофического воздействия на общественную и культурную жизнь народа в целом, как может показаться при чтении некоторых хроник того времени.
В дополнение к просторному пиршественному залу большинство домов теперь строились с целым рядом отдельных комнат для членов семьи, и здесь можно усмотреть пробуждение нового, прежде неведомого вкуса к уединению, к таимой от посторонних глаз частной жизни. Открытый очаг в центре комнаты сменился камином, окна сделались шире, стали впускать больше света и часто устанавливались теперь с резными переплетами, деревянными или каменными, стекло перестало быть роскошью, мало кому доступной, и богатые семьи заказывали для своих новых домов витражи, часто украшенные гербами. Предметов мебели, таких как кровати с пологом, скамьи-лари, столы, стулья, сундуки и буфеты, было немного, однако они отличались высоким качеством и изготавливались из прочного дерева. Украшенные затейливой резьбой кровати с роскошным пологом, ткаными шпалерами или расписными занавесями, а также золотые предметы обихода и серебряную посуду часто передавали наследникам, особо указывая в завещании, кому и что предназначается.
Это была великая эпоха возведения и украшения церквей. Английские искусные мастера особенно славились резьбой по дереву и алебастру, изготовлением декоративных металлических решеток и ярко окрашенного стекла. Кроме того, в этот период происходило быстрое и динамичное развитие английской музыки. Королевский двор Йорков был знаменит своими музыкантами и покровительством, которое оказывал композиторам. Особенно модными стали гимны, первоначально музыкальные сочинения в честь любого важного события в календаре, которые можно было пропеть или под которые можно было танцевать. Многие современные рождественские гимны из числа самых популярных относятся к этому периоду.
На английском к этому времени говорили все классы общества, а многие книги писались на родном, национальном языке. Большинство аристократов владели французским, ибо до конца XIV века это был придворный язык и язык законников и правоведов, а бóльшую часть образованных людей обучали латыни, которая все еще оставалась международным языком церкви и христианства. В этот период наблюдался постоянный рост грамотности среди всех сословий. Книги, хотя и считались по-прежнему предметами роскоши, так как переписывались от руки, сделались более доступными и уже не скрывались от глаз в церковных и университетских библиотеках. Многие аристократы, рыцари и купцы теперь коллекционировали книги, а некоторым удавалось создать впечатляющие собрания. XV век не породил литературных фигур масштаба Чосера, произведения которого все еще сохраняли широкую популярность. Самыми значительными авторами этого периода были Джон Гауэр, Томас Хокклив и Джон Лидгейт.
В эту эпоху появляется много школ, главным образом под патронатом церкви, хотя некоторые миряне учреждали светские грамматические школы в больших и малых городах страны. Во всех школах был принят суровый режим, руководствовавшийся заповедью «сбереги розгу, и испортишь дитя». Если сыновья знати получали военное и академическое образование издавна, то теперь и средние классы стремились открыть своим сыновьям дорогу к «глубокой учености и всесторонним знаниям», ибо понимали, что солидное образование позволяет возвыситься в земном мире. Многие поступали в университеты, а затем принимали духовный сан. Университеты развивались и расширялись по заранее задуманному плану, в основном для того, чтобы обеспечить церковь достаточным числом имеющих академическое образование клириков, но также и для того, чтобы предоставить честолюбивым молодым людям больше возможностей сделать светскую карьеру.
Формальное образование было доступно только мальчикам. Женщины считались низшими по сравнению с мужчинами существами, которым надлежит всецело пребывать во власти сильного пола. Автор «Парижского домохозяина»8 (ок. 1393) предписывал женам во всем угождать своим мужьям, ловя каждое их слово и каждый взгляд, как преданные собаки, а Маргарет Пастон из Норфолка в письмах обращалась к своему мужу Джону Пастону «достопочтенный супруг мой». Муж считался повелителем своего семейства и властвовал над ним, подобно тому как Господь царствовал над всей Вселенной. Следовательно, главной обязанностью жены считалось смирение и послушание. Вину за супружеские разногласия или бездетность брака автоматически возлагали на жену. Женщины в буквальном смысле были лишены всякой свободы, кроме той, что предоставляли им отцы или мужья. Однако, несмотря даже на столь строгие ограничения, многие женщины управляли ремесленными и торговыми предприятиями, лавками, фермами и поместьями и доказали, что ничуть не уступают мужчинам по своим деловым качествам.
Браки заключались по сговору, причем семьи, выбирая невесту или жениха, чаяли возвышения в обществе, финансовой выгоды или увеличения своих земельных владений. Представления о браке по любви не существовало, и потому такой скандал разразился в 1464 году, когда король Эдуард IV совершил импульсивный поступок, женившись на не принадлежавшей к высшей знати нетитулованной дворянке, которая отказалась стать его любовницей.
Жена была обязана управлять домом и имениями мужа в его отсутствие, подавать достойный пример детям и слугам и прежде всего рожать сыновей, наличие которых позволяло сохранить земельные владения и богатства ее лорда и повелителя в его семье. Дочери рассматривались как средство обеспечить удобные и выгодные брачные союзы, но всякий состоятельный человек жаждал иметь сына, который мог бы ему наследовать. За это желание высокую цену платили женщины. Многие из них умирали от родов или от истощения, вызванного многочисленными беременностями, к тридцати годам, а именно такова была ожидаемая продолжительность жизни для женщин в это время.
Цена квартера пшеницы в 1450 году по сравнению с 1914 годом возросла в 4,68 раза.
Уровень цен в период между 1914 и 1995 годом вырос в 50 раз. После 1914 года пшеница не может считаться надежным показателем цен (поскольку расходы на еду упали вместе с ростом доходов, а искусственные цены на пшеницу 1930-х годов не дают представления о ее реальной стоимости). Поэтому за надежный показатель можно принять индекс розничных цен в период с 1914 по 1995 год, который вырос в 50 раз: 4,68 × 50 = 234. Этими подсчетами я обязана доктору Р. Б. Уэйру, ректору Дервент-колледжа Йоркского университета и преподавателю истории экономики. – Примеч. автора.