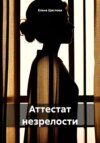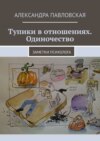Czytaj książkę: «Я – последняя буква алфавита»
Меняя имена и фамилии, города и страны, друзей, знакомых, вкусы, запахи, крема, вина,
Застревая между вчера и сегодня, собакой и волком, красотой, уродством, войной, миром,
Выныривая и вновь погружаясь, растворяясь и обретая видимые черты, лики,
Мерещась, кажась, ощущаясь всем телом, исчезая, стирая следы, улики,
Плывя против течения, с мельницами сражаясь и сдаваясь почти без боя,
Я не знаю ответ на самый дурацкий вопрос:
Кто я?
Кристина Чупрова
1 – Пятница
«Как же я устала», – подумала Юля и опустилась на кухонный стул у окна. Кухня, как и вся скромная двухкомнатная квартира Юли, находилась на 18-м этаже типовой многоэтажки, гигантским аккордеоном распахнувшейся на окраине города. Все, что можно было видеть сквозь это окно, были квадратики многочисленных глаз дома напротив, растопыренные черные пальцы единственного дерева в середине двора и небольшая порция неба – такого оттенка серого, которому невозможно дать отдельное название и который возможен только ранним ноябрьским утром в Петербурге. («Заказчик может выбрать действительность любого цвета, при условии что он серый», – промелькнуло почему-то в ее голове.)
Смотря в это окно, Юля в очередной раз подумала, что строить такие нахлобученные «человейники» – бесчеловечно: несоразмерно человеку, подавляет его и ежедневно, по капельке, подтачивает изнутри. А кроме того, это совершенно обезличивает этот некогда прекрасный, построенный по европейским канонам, город: такие районы ничем не напоминают, что ты в Петербурге – городе роскошных дворцов, изящных мостов и гранитных набережных.
Подобными домами спальные районы густо обросли за последние десятилетия, когда каждый отдельно взятый застройщик, справедливо сориентировавшийся в рыночной ситуации – огромный спрос на жилье характеризуется низкой платежеспособностью – принялся впихивать невпихиваемое на выбитый им клочок земли. На выходе закономерно получилось то, что именуется эконом-классом, со всеми присущими ему «прелестями»: большая доля квартир маленького метража (привет, чрезмерное количество соседей и машин), дешевые материалы (привет, со всех сторон проникающие звуки: лай собак, сверление перфораторов, вечеринки или ругань соседей), низкий уровень бытовой культуры (привет, летящие из окон бычки и бутылки из-под алкоголя – ведь откуда именно из сотен окон это прилетело никак не установить). Каким образом удавалось добывать разрешения на строительство именно таких объектов остается только догадываться. Чем ближе к станции метро, тем плотнее такие застройки. Юлин дом еще достаточно удачно был расположен в некотором удалении от метро и рядом с началом старой советской части района, где пятиэтажные дома и зеленые зоны между ними были расположены несколько просторнее, по крайней мере тогда это делалось в соответствии с единым для целого квартала градостроительным планом. Правда, окна ее квартиры выходили не на эту часть.
Однако долго предаваться урбанистическим размышлениям было некогда, ведь было еще только утро (и да, Юля обычно уставала сразу с самого утра). Детей она уже собрала, и муж, Антон, поехал на машине развозить их в школу и детский сад (вроде бы они и внутри района, но пешком долго и не по пути), и нужно было самой теперь собираться и ехать на работу. Туда, где посредством легких движений ее пальцев будут выхватываться из небытия и посылаться на белый лист буквы, цифры и символы, сплетаясь в ДНК такого странного и чуждого миру организма как учебная программа низкорейтингового вуза. «Тела» эти были заведомо мертворожденными: преподавать и учиться по ним никто никогда не будет. Ибо главная цель их существования это отнюдь не отражение и облегчение реальных учебных процессов, а внешнее соответствие тому, что Министерство образования воображает критериями их эффективности: правильное количество учебных часов, правильные коды осваиваемых компетенций и правильные виды промежуточной и итоговой аттестации.
Вымыв посуду (руками, потому что хотя у нее и имелась посудомоечная машина, но непосредственно наблюдаемый конкретный результат своих усилий действовал на нее успокаивающе), Юля застыла в задумчивости перед шкафом-купе. Здесь ее поджидала неизбежная и нелюбимая задача: решить что надеть. Одежды в шкафу было очень много (даже слишком), и всю ее можно было приблизительно равномерно поделить на три категории: первая – вещи, купленные на распродажах по принципу «вроде ничего такое, к тому же хорошая скидка» (одеваются крайне редко, часть из них не пригождается), вторая – вещи, купленные «для выхода», включая пару платьев, которые Юле действительно нравятся, но только сами по себе, а не надетыми на нее, в них она чувствует себя неловко (не носятся никогда) и третья – простые базовые вещи, которые покупаются с мыслью «ну это так, в магазин сходить или на прогулку с детьми» (носятся ежедневно повсюду, занашиваются до дыр). Юлина задумчивость же вызывается внутренней борьбой между желанием надеть наконец что-то поинтереснее и поновее и желанием выглядеть максимально неброско, зато чувствовать себя комфортно и как бы защищенно физически.
Вздохнув, она выудила из шкафа самые удобные джинсы, однотонную футболку и удлиненный пиджак (как-то ей попадалась информация, что такой стиль называется нормкор и что его охотно используют даже богачи, устающие от моды или не считающие ее важной, и Юля их прекрасно понимает). Несмотря на то, что фигура у нее была довольно неплохая, стройная, сложившийся еще в школьные годы комплекс «все же будут на меня смотреть» настойчивым внутренним шепотом рекомендовал ей носить что-то не обтягивающее и прикрывающее пятую точку («то место, где спина теряет свое благородное название», – вспомнила она чью-то цитату, которую применял пожилой интеллигентный руководитель одного театрального кружка, где она в свое время имела удачу заниматься). Кроме того, поскольку Юля была довольно высокого роста, она ощутимо сутулилась, также по привычке еще школьных лет, когда испытывала очень сильную потребность ничем-ничем не выделяться среди остальных, хотя бы внешне.
Некоторое удовлетворение, которое Юля испытала от завершенной задачи по мытью посуды быстро сменилось на неудовольствие при скольжении взглядом по квартире. Во-первых, взгляд ее зацепился за вновь отошедший плинтус на видном месте, который Антон обещал в следующий раз приделать намертво, но когда именно будет этот следующий раз пока за полгода не сообщил. Во-вторых, с немым укором призывала к разбору развесистая клюква напольной сушилки для белья, ибо белье это уже пару дней как высохло. И, в-третьих, – и это было самым душераздирающим – повсюду нахально пестрели какие-то комочки. Комочки эти были двух типов: которые возможно рассортировать и убрать на свои места – например, предметы одежды мужа и дочек, игрушки, канцелярия и вторые – которые не поддаются категоризации по типу, виду или назначению (чесалка для случайно прибившейся к ним месяца три назад кошки, последняя поделка младшей из садика, дежурные наушники, органайзер для мелких предметов, крючок, который отвалился и ждет своего часа чтобы быть прикрученным обратно и т.п.) и потому практически не имеют шансов быть убранными и обычно просто мигрируют по квартире. «Совсем как люди», – подумала Юля. – «Есть два типа людей: одни легко и с удовольствием поддаются категоризации, другие – всю жизнь ищут свое место». Комбинация в квартире предметов первого и второго типов приводили к тому, что женщина испытывала по отношению к ним столь же смешанные чувства и не могла так просто взять и начать уборку, а сначала должна была как-то внутренне настроиться, договориться с собой. «Будешь неряхой – никто замуж не возьмет», – весьма «мотивирующе» прозвучало в голове Юли, уже чуть более десяти лет находящейся замужем.
«Быстренько разложу первый тип, а со вторым потом, вечером, попробую разобраться, если силы останутся», – решила она. «Сомнительно, но окей», – прочла она в спокойном взгляде кошки, деловито вышедшей из детской и, по-видимому, не имевшей ни малейших сомнений в том, что то кошачья комната. Улыбнувшись, Юля погладила кошку, потом насыпала ей корма и налила свежей воды. Затем, победно поглядывая на наблюдавшее за ее движениями животное, разложила по местам около десяти предметов. И тут вспомнила, что вообще-то ей надо торопиться.
Набросив пуховик (с капюшоном, конечно, ибо покупать в Петербурге куртки без капюшона дерзко), обув удобные сапоги с непромокаемым низом (ее ван лав от известной испанской марки), а также забросив зонтик (на всякий случай) в рюкзак, с которым она ходила повсюду вместо дамской сумочки, Юля вышла наружу. Как всегда секундно поколебавшись у дверей услужливо распахнувшего свой зев лифта, выдохнула, досчитала до пяти и только потом шагнула внутрь кабины: лифтов она побаивалась и каждый раз ей приходилось преодолевать себя, чтобы позволить этим самопроизвольно смыкающимся беззубым железным челюстям запереть ее – кто знает на какое время – беспомощно подвешенной в пространстве и протащить через свою темную узкую и длинную утробу.
Счастливо непереваренная лифтом Юля выскользнула и понеслась дальше, срезая путь к метро через уже упомянутую старую часть района. Тропинка пролегала между рядами уставших, посеревших от времени пятиэтажек с совершенно разномастно застекленными балконами (это творчество народных масс до недавнего времени практически ничем не регламентировалось) и была густо усыпана собачьими экскрементами (убирать за своими питомцами многие хозяева считают ниже своего достоинства) и остатками листьев, преимущественно кленовых, хотя теперь в этих потемневших и сморщенных влажных комочках трудно было распознать их изначальную форму.
В точно такой же пятиэтажке-«хрущевке», только в небольшом провинциальном (тогда еще советском, а позднее российском) городе европейской части страны Юля провела свое раннее детство, где в двухкомнатной квартире с малюсенькой кухней и совмещенным санузлом (о беспощадная советская эргономика) жила с бабушкой по отцу, родителями и старшей сестрой до своих восьми лет. В свое время бабушке, приехавшей в этот город одной с маленьким папой на руках (все, что у них было от его отца, умещалось в одну строчку в свидетельстве о рождении) с Дальнего Востока, заслуженному учителю русского языка и литературы, эту квартиру «выдало» государство. За что, конечно, ему большое спасибо, но все-таки, даже учитывая ориентир на жесточайшую экономию материалов и ускоренные сроки строительства, можно было бы предусмотреть некий стандарт для того, чтобы взрослым и детям (стремительно растущим, как известно), все-таки полагались отдельные, пусть и совсем крохотные спальни, а проходная гостиная комната выполняла именно свою изначальную роль, а не превращалась на ночь путем раскладывания дивана в чью-то спальню. И Юля в этом смысле очень сочувствовала своим родителям, которые, поженившись в конце 70-х годов, в качестве вариантов где жить имели только изначально незавидную альтернативу: у одних своих родителей или у других. И выбор был очевиден, поскольку в этой квартире были только бабушка и папа, а в другой – точно такой же по параметрам, только еще и без балкона – жили бабушка, дедушка-инвалид (после завала в сибирской шахте) и двое младших маминых братьев. В те времена в стране не было свободного рынка, квартиры не продавались и не арендовались, а нужно было только встать на очередь и ждать – годы – пока государство тобой озаботится…
Тем не менее, эти места, пока Юля шла по ним, вызывали чувства. Амбивалентные, как это частенько бывало с ней. С одной стороны – чего-то тягостного, как описывал Кафка в своем дневнике: «… для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город… – нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил». А с другой – чего-то светлого, теплого и родного, как бабушкин чай с мелиссой, собранной ею летом на даче, и ее неповторимое прозрачно-янтарное абрикосовое варенье после долгой зимней прогулки, и другой подобной гришковецщины. Вместе взятое это Юлино ощущение можно было передать так: будто прожитые ею тридцать семь лет это одновременно и долгие триста лет, и лишь три дня. (Или иными словами, что она уже так долго живет, что больше и не вынести, и одновременно, что она еще и не жила вовсе.) «У бабушки был такой порядок во всем, почему же у меня так не получается. И готовила она просто прекрасно. Только вот почему-то совсем никогда не разрешала себя обнимать, а мне маленькой этого так хотелось», – предалась она воспоминаниям.
Увидев впереди приближающуюся фигуру какой-то пожилой женщины в сереньком пальто и бежевом берете, Юля инстинктивно немного вжала голову в плечи и внутренне напряглась, готовясь отразить возможное нападение. Ведь – как и в ее детстве – ей казалось, что эта фигура излучает во все стороны свое право и прямо-таки долг сделать какое-нибудь неприятное замечание. (А для Юли непереносимо если окружающие – знакомые и незнакомые – ею недовольны, и она, как правило, прилагает огромные усилия чтобы им угодить. И даже испытывает чувство вины, если реагирует на чье-то поведение не так как они того ожидают.)
Вильнув в сторону, и тем самым удачно избежав сближения с вышеописанной ничего не подозревающей и, возможно, вполне миролюбивой персоной, Юля очутилась на детской площадке в глубине старого квартала. Здесь было не так много игрового оборудования – две горки, несколько видов качелей, песочница, маленькая карусель и деревянный домик, и все они были далеко не новые, но зато было много пространства и зеленых (в теплую пору года, а сейчас облетевших) насаждений. Иногда она водила сюда своих детей, когда им – а скорее, ей самой – надоедала огромная, шумная, многолюдная и какая-то безликая площадка у своего дома. Сейчас, ранним ноябрьским утром, это место выглядело сиротливо, как-то жалостно, будто навсегда покинутый выросшими детьми дом, в котором остались больше не нужные игрушки. Было очень тихо, лишь мерно поскрипывали железные качели, на которых какая-то юная мать с невыспавшимся лицом легонько покачивалась, прижимая к себе теплый прогулочный конверт со спящим младенцем.
Беспрепятственно добравшись до метро, Юля слилась с толпой и поплыла в этом потоке довольно однообразных темных курток и пальто вниз по течению эскалатора. (На одном из рекламных стендов, расположенных на балюстраде, она боковым зрением прочла: штрафы и гардеробные. «Странное сочетание», – она развернулась непосредственно к надписи и рассмотрела внимательнее: шкафы и гардеробные. – «Аа, ясно».) Плавность такого погружения, просторы вестибюлей и переходов, наличие других людей вызывали у нее совсем иные чувства чем лифт: как будто ты внутри огромного надежного железного кита – как папа Карло из «Пиноккио», который оказавшись внутри настоящего кита худо-бедно обустроил свой быт и настолько свыкся с ним, что потом даже не хотел наружу. Следует отметить, что Юля только во взрослом возрасте, читая книги уже собственным детям, узнала оригинальную историю о деревянном мальчике вместо суррогатно-слащавого Буратино и удивилась ее совсем другому, куда более философскому, смыслу. Вторым поразившим ее открытием в области переводной литературы стало то, что когда она прочла наконец свою любимую книгу детства «Приключения Алисы в стране чудес» (в переводе Заходера) на английском, оказалось, что эти перевод и оригинал это вообще две совершенно разные книги. Со временем этот феномен – когда оригинальные идеи или подходы, попадая на другую почву и сохраняя внешнее сходство (и зачастую наименование), будто перелопачиваются во что-то иное по своей сущности, порой до полной противоположности (кажется, это еще называют эффектом доппельгангера) – Юля начала замечать не только в области литературы, но и во многих других сферах своей российской жизни.
Что касается чтения, то это она любила с раннего детства. В детский сад ее не водили, потому что бабушка как раз вышла на пенсию и с готовностью взяла на себя задачу ухода за ребенком. И, по всей видимости, посвящала этому все свое время, правда, у Юли совсем нет воспоминаний примерно до старшего школьного возраста, только отдельные редкие вспышки. Но вот свою признательность бабушке за то, что та открыла ей другие миры, научив читать, и свою радость от того, как лет в пять или шесть читала ей вслух на кухне какую-то странную и сложную книгу про железный век, помнит. В старших классах Юля по ночам зачитывалась Камю, Моэмом, Хэмингуэем, Драйзером, Толстым, и, конечно же, именно с подачи Достоевского, стала мечтать (как и, наверное, процентов восемьдесят девочек-подростков по всей России) о Петербурге – городе, выступающем у писателя в качестве самостоятельного персонажа, трагического живого существа…
Выйдя в центре современного Петербурга, Юля не без удовольствия и с почтительностью к архитекторам былых времен вдохнула сыро-пыльно-исторического воздуха. Хоть при ближайшем рассмотрении и приходится отмечать с грустью, что во многом эти постройки находятся в запущенном состоянии. «Вот и я такая же, – внезапно подумала женщина. – Снаружи довольно приличная, а внутри рассыпаюсь». Вуз, где она работала, располагался в одном из таких исторических зданий. Юля привычно миновала внушительный ансамбль парадного входа и, пройдя несколько десятков метров, с усилием потянула на себя неприметную снаружи дверь в проходную. Здесь, нужно было предъявить удостоверение личности недоверчивому лицу в окошке поста охраны, затем пройти по длинному гулкому коридору, в котором ритмичному стуку шагов неловко аккомпанировал скрежет усталой и потрескавшейся в некоторых местах напольной плитки, и в конце справиться с еще одной тяжелой дверью, которая, протяжно скрипнув и нехотя пропустив посетителя во внутренний двор, с неожиданной стремительностью и грохотом захлопывалась за ним.
Ничего в этом всем Юлю не смущало, так как принималось ею как один из незыблемых принципов жизненного устройства: есть тот фасад, который надо демонстрировать и потому держать в максимальном порядке, и есть внутренняя кухня, которая всегда в той или иной степени хаоса и которую не полагается видеть чужим. Этот же принцип был и в детстве, когда, например, к приходу гостей наводился особенный порядок, доставалась красивая посуда, надевалась хорошая одежда и вести себя тоже надо было иначе – вежливо и тихо. И он же применялся в отношении Юлиных потребностей и чувств – что ты там хочешь и чувствуешь, это не важно, нам лучше знать чего следует хотеть и что подобает чувствовать в той или иной ситуации, самое важное – прилично выглядеть. Иногда этот принцип представлялся ей в виде красивой круглой картонной коробки (как от «Киевского торта», такая хранилась у бабушки в кладовке), которую замотали скотчем и приклеили бумажку с надписью «тут все как надо, проверять/распаковывать не требуется». Правда, в бабушкиной кладовке в такой коробке хранился фарфоровый козел с отбитыми рогами.