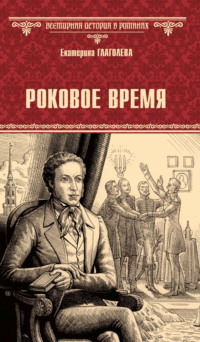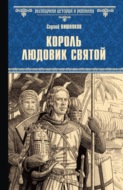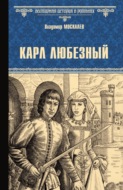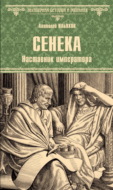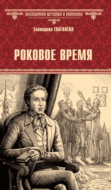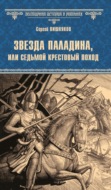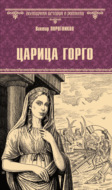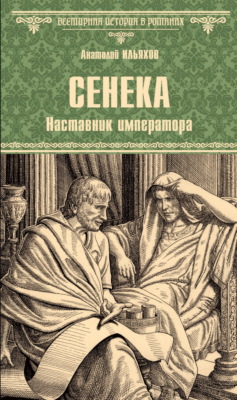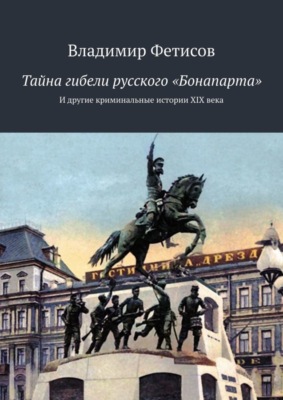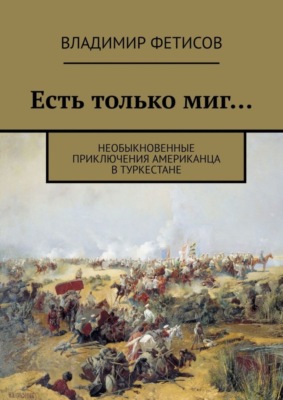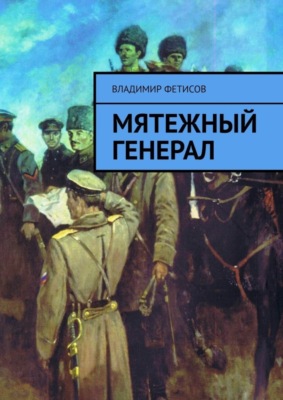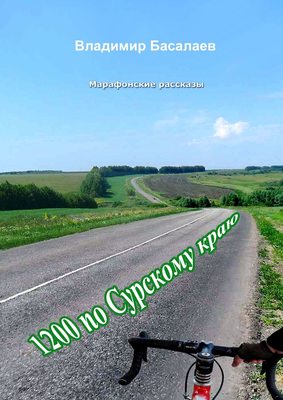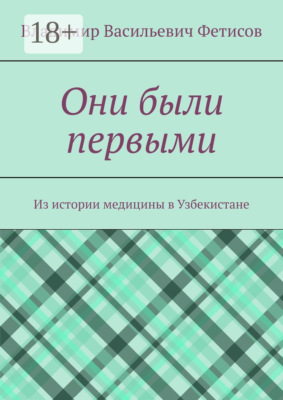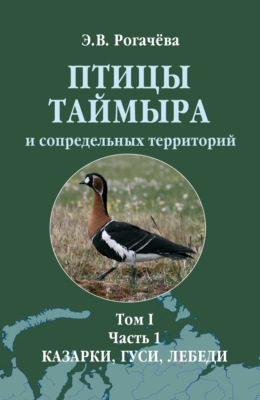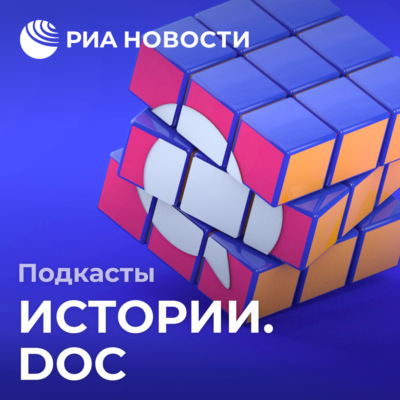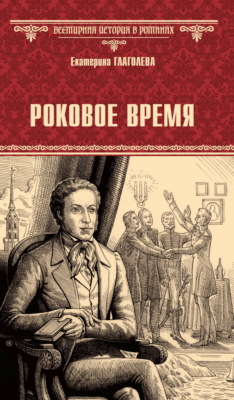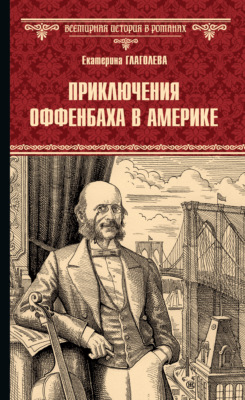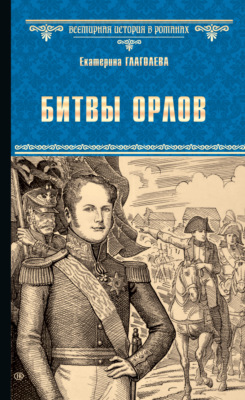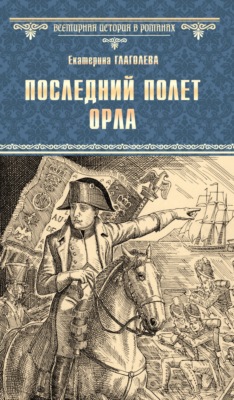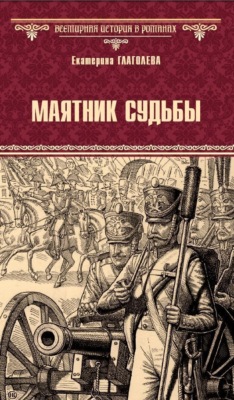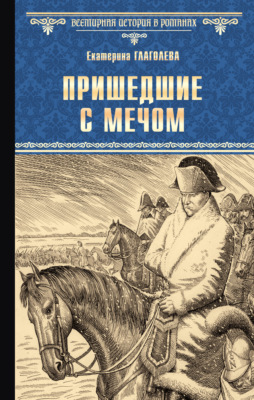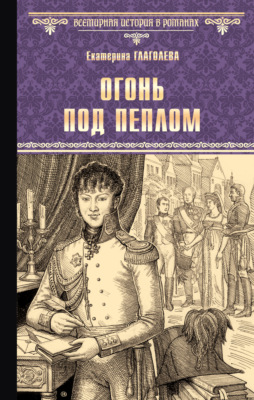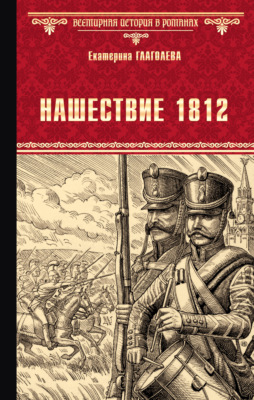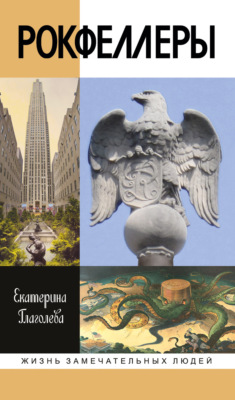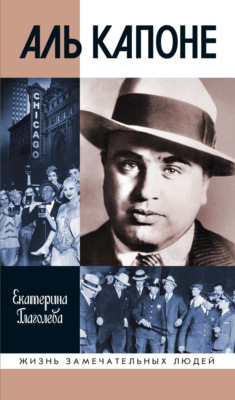Czytaj książkę: «Роковое время», strona 3
– Не понимаю, что он станет делать в Попечительском комитете, – пожал плечами Щербатов. – В колонисты к нам едут главным образом немцы, а Пушкин, насколько мне известно, немецким не владеет.
– Вот и выучит. Все не без пользы. И генерал Инзов – доброй души человек. Он французов пленных щадил, что уж говорить про своих.
– Юг – не Сибирь, – согласился Ермолаев. – А могли ведь, как Радищева, за соболями отправить.
Дежурный в офицерском доме вскочил и отдал рапорт: все благополучно. Приятели расстались; Муравьев поднялся в свою квартирку. В прихожей, служившей камердинерской, сидел его денщик у кенкетной лампы и, ловко орудуя иглой, подшивал обтрепавшийся обшлаг рукава. Капитан сделал ему знак рукой, чтоб не вставал.
– Спрашивал меня кто-нибудь? – спросил он, по очереди вставляя ноги в машинку для снятия сапог.
– Никак нет. Фельдфебель заходил только; я сказал, что вы у батальонного, он и ушел.
Сергей вдруг вспомнил, что пропустил почтовый день, не написав ни брату в Полтаву, ни папеньке в Хомутец, и мысленно побранил себя за это.
Перекусив зубами нитку, денщик отложил свою работу, встал, помог его благородию снять мундир, аккуратно повесил в шкаф; капитан сказал, что ему больше ничего не нужно. «Отдыхай, Лука».
Он лежал на узкой железной кровати с закрытыми глазами, но сон не шел. В голове крутились каруселью мысли; извилистая синяя жилка на виске Шварца сменялась светлой улыбкой Потемкина, вместо вытаращенных глаз Ермолаева появлялись печальные глаза Матюши, а из-под них всплывали круглые очки и суровый взгляд отца… Отставка! Да, это было бы хорошо – бросить службу, удалиться в имение; Матвей тоже мечтает возделывать свой сад, но отец не позволит; все офицеры не согласятся – на что жить? У Ермолаева всего сто душ, за матерью Вадковского числятся три тысячи; ну и что: папенька прожил два миллиона, а денег на учение в Гейдельберге не дал, на отставку не благословил; у Якушкина сто с лишним душ, он хотел их всех освободить, они не пожелали без земли; папенька уже пятнадцать лет отлучен от службы и томится этим, в столицах бывает только по делам литературным, недавно взялся переводить Аристофана; Матвей сердит на него: зачем он снова женился; брат и у Германа курса не кончил – уехал лечить рану на Кавказ; Пестель учился у Германа в Пажеском корпусе и ничего нового из частных лекций не почерпнул, но для свежего человека познавательного было много…
Статистика – средоточие всех политических наук, доставляющее им доказательства. Вот бы подсчитать, сколько солдат погибло за войну от руки неприятеля, а сколько забито в мирное время рукой палаческой, – подсчитать и опубликовать! Карл Федорович, правда, говорил, что обладание знаниями не гарантирует употребление их для общего блага, но это не значит, что знания не нужно распространять. Иначе так и будем veluti pecora8, как папенька скажет, и никакая конституция сама собой не зародится. Пестель как будто пишет свою конституцию, хотя, по тому же Герману, общественный договор не должен быть писаным, но проистекать из общих нужд общества – благосостояния и безопасности. Благосостояния и безопасности… Разве не видно, что благосостояние одних основано на нищете других, которые, по той же причине, не чувствуют себя в безопасности? Герман говорил, что государства зиждутся на силе и что все они, в их нынешнем виде, происходят из бунтов, мятежей и революций с последующим заключением мирного договора. Отец же считает, что в России революции вовеки не было и вовек не будет, потому что народ наш от добра добра не ищет, философию заменяет здравым смыслом, а воспаленные мозги в нескольких горячих головах – предмет завозной, не домашний, никакой точки соединения с целым обществом они не найдут…
Но получилось же в Испании! Сколько раз за время последней войны испанцев уподобляли россиянам: крепко веруют в Бога, искренне любят своего монарха, особа которого священна и неприкосновенна, не потерпят ноги чужеземца на своей земле. Но испанцы-то приняли конституцию! И заставили своего короля ей подчиниться! Генерал Квирога, в свое время сражавшийся против Наполеона, был брошен в тюрьму после того, как поверженный император французов вторично отрекся от престола. Революция освободила его; Квирога захватил остров Леон и принудил ненавистного генерала Фейра зачитать народу конституцию 1812 года; подполковник Риего, командовавший Астурийским батальоном, в январе выступил из Лас-Кабесаса под Севильей к Мадриду и в марте достиг своей цели, хотя его колонну считали истребленной. Мадридский гарнизон перешел на сторону инсургентов; в столицу привезли генерала Бальестероса, заточенного в Вальядолиде, и он убедил короля, что принять волю народа – единственный способ избежать кровопролития. С инквизицией покончено навсегда, Бальестерос возглавил армию, Квирога и Риего теперь королевские генерал-адъютанты, в монастырях присягают на верность конституции, в разных провинциях составились общества по распространению просвещения и общеполезных знаний, учреждаются народные училища и библиотеки… Возможно ли такое у нас? Кто станет нашими Квирогой и Риего?
На собрании Коренной управы этой зимой, на квартире у Глинки, долго спорили, что лучше – монархия или республика. Даже когда закончили прения и стали собирать голоса, каждый подробно объяснял причину своего выбора, только Николай Тургенев выпалил: «Le président, sans phrases»!9 Глинка единственный говорил в пользу монархии, однако предлагал не кого-либо из братьев царя, а императрицу Елизавету Алексеевну. Иван Якушкин, Никита Муравьев, Иван Шипов, Павел Пестель – все были за республику. Пестель, может быть, прочит в президенты себя…
Профессор Герман утверждал, что при демократии неизбежны раздоры и бунты; хитрые демагоги вкрадываются в любовь народную и делают еще хуже монархов, народ же может опрокидывать существующие учреждения, но не умеет поставить на их место лучшие, изнуряется в слепых порывах своих, а там кто угодно явится и вновь наденет на него оковы. Все это, может, и верно, зато монарх (или монархиня), имея своим предшественником сурового отца, нелюбимого мужа или брата, может не удержаться от искушения и уничтожить все, созданное ненавистным родственником, не думая о пользе государственной. Далеко ли ходить за примерами!
Папенька знал о готовившемся свержении императора Павла, но царской кровью рук своих не обагрил, однако и о заговоре не донес. Александр сперва был к нему милостив: позволил унаследовать фамилию Апостол от деда по материнской линии и вместе с ним – громадное состояние бездетного Михаила Апостола. Где теперь те миллионы… Да и милость царская…
Отца Пестеля года полтора как уволили от должности сибирского генерал-губернатора из-за участившихся доносов; ревизовать его в Сибирь поехал Сперанский, которого царь в одиннадцатом году в одночасье снял с поста государственного секретаря и выслал в Нижний Новгород под конвоем, а теперь снова приблизил к себе. Чтобы не споткнуться на служебной лестнице, надо вовремя подставить ножку другому… Пестель не любит об этом говорить; он сейчас хлопочет через Витгенштейна о своем повышении, готов даже перевестись из гвардии в армию, лишь бы в скором времени получить под свою команду полк, а немилость государя к отцу может порушить все его планы. Отец же его виновен лишь в том, что, будучи сам честен и не корыстолюбив, предполагал подобные качества в других и позволял своим именем творить произвол. Жалобы, доходившие до Петербурга, рассматривались при его же содействии; граф Аракчеев уверял Ивана Борисовича, что император имеет выгодное о нем мнение, да и сейчас сенатор Пестель посещает заседания Государственного совета и придворные праздники. Возможно, он все еще верит кротким глазам и сладким речам Александра Павловича…
Зато Аракчеев, процветавший при Павле, и при Александре не обижен. «В столице он – капрал, в Чугуеве – Нерон; кинжала Зандова везде достоин он». Так сказал о нем Пушкин, когда граф подавил бунт военных поселенцев в Слободско-Украинской губернии, запоров насмерть двадцать человек и четыреста отправив на каторгу. Как будто навязанное поселенцам житье – не каторга! Причем сам Аракчеев как военный министр не видел никакой пользы в устройстве поселенных полков, но – государю виднее. Делай, что велено. А ведь государь – всего лишь человек, он не безгрешен. Сатана один столько бед не наделает, сколько сотни его нерассуждающих подручных…
Папенька философствует о том, что человеку свойственно любить разрушение: оно дает ощущение бытия, сильной воли, все преодолевающей, потому и воин пристрастен к своему ремеслу, хотя смерть грозит ему на каждом шаге. Привыкнув к сильным потрясениям, человек уже не мыслит без них своей жизни; отними их у него – он впадет в сомнение или в отчаяние, в злую душевную болезнь, источник несчастий. Во время войны мечтают о мире, воображая себе счастливую жизнь среди полезных трудов и родственной любви, а возвращаясь с полей сражений, находят скуку, пошлость, раздоры, разврат от праздности… Спасение в одном: иметь твердую, непоколебимую цель – быть полезным. К ней нужно всечасно стремиться, только достигнуть ее нельзя, ибо мы сотворены, чтобы желать, а не чтобы иметь… чтобы желать иметь…
Когда Лука слегка потряс капитана за плечо, чтобы разбудить его, самовар был уже готов, а от аромата свежих булок текли слюнки. Чисто выбритый, причесанный, подтянутый, Муравьев-Апостол явился в свою роту в половине девятого одновременно с десятком солдат, только что вернувшихся со смотра у полковника. Они были бледны и измучены, у Савельева колено распухло так, что вот-вот лопнут панталоны, – Шварц заставлял их подолгу стоять на одной ноге, вытянув другую, добивался правильного угла и изящества, хлопая линейкой по колену, голени или пятке. Освободив мучеников от учения и приказав им отдыхать, Сергей отправился на плац, внутренне клокоча. Эти люди уцелели в жестоком сражении при Кульме, и спасло их отнюдь не умение вытягивать ногу в струнку при ходьбе! Неужели ранами, принятыми за Отечество, они не заслужили лучшего к себе отношения? Он непременно высказал бы все это Шварцу, однако тот, вопреки обыкновению, за все три часа эволюций и деплояд на плацу не появился. Вадковский где-то разузнал, что полковника вызывал к себе Васильчиков; от генерала он вернулся тихий и заперся у себя. Неужели Бенкендорф начал действовать?
Послеобеденные часы в ротах отводились под словесность. Солдаты теперь были грамотны и уже не повторяли «Артикул воинский» за чтецом, а сами читали хором вслух по книжке – так распорядился Шварц.
– Если кто подданный войско вооружит, или оружие предприимет против его величества, или умышлять будет помянутое величество полонить или убить, или учинит ему какое насильство, тогда имеют тот и все оные, которые в том вспомогали или совет свой подавали, яко оскорбители величества, четвертованы быть, и их пожитки забраны, – доносилось до Муравьева. – Такое же равное наказание чинится над тем, которого преступление хотя к действу и не произведено, но токмо его воля и хотение к тому было, и над оным, который о том сведом был, а не известил…
Мысли Сергея вернулись к январским спорам. На другой день после голосования о республике собрались у подполковника Ивана Шипова в Преображенских казармах. Цель была ясна, теперь требовалось договориться о средствах. Никита Муравьев и Павел Пестель твердо стояли за цареубийство и вооруженное восстание; Илья Долгоруков резко им возражал и тогда же сложил с себя обязанности блюстителя Общества. Сергей тоже был против, доводы Пестеля о том, что анархию можно предотвратить, назначив наперед временное правительство, его не убеждали. Солдаты, которые сейчас прилежно разбирают «Артикул», в бою готовы были заслонить его своей грудью, но станут ли они защищать убийцу царя-батюшки? Убить царя значит убить доверие народа.
В Англии на днях казнили злоумышленников, вздумавших истребить сразу весь кабинет, бросив бомбу во время обеда у премьер-министра. «Покушение» готовилось с ведома правительства, поскольку главный помощник вожака заговорщиков был полицейским агентом. Это был способ и устранить одновременно всех людей, способных к решительным действиям, и проверить настроение в обществе. Толпа, собравшаяся на казнь, вела себя мирно и наказание заговорщиков одобрила, хотя среди зрителей и раздавались возмущенные голоса: «Где предатель Эдвардс? Казнить и его тоже!» А ведь нынешнее правительство в Англии не любят, в последние месяцы то в одной провинции возмущение, то в другой; один из казненных, Тистлвуд, еще прежде отсидел год в тюрьме за то, что вызвал на поединок министра внутренних дел. Однако граждане не пожелали быть облагодетельствованными путем убийства… Нет, на крови ничего прочного не построить.
Английских заговорщиков приговорили к четвертованию, как того требовал закон, но, рассудив, что это казнь средневековая, заменили ее повешением с последующим отрубанием головы. В Париже гадалка Ленорман предсказала Сергею, что его повесят…
– Кто фельдмаршала или генерала бранными словами поносить, или в компаниях и собраниях прочих предосудительные слова, их чести касающиеся, говорить будет, тот имеет телесным наказанием наказан быть или и живота лишен, – продолжалось хоровое чтение.
В половине пятого Ермолаев, Щербатов и Муравьев-Апостол, измучившись от ожидания, отправились к Вадковскому на Фонтанку; тот как раз вернулся.
– Слышали, что Царскосельский дворец сгорел? – огорошил он их с порога.
– Как сгорел?!
– Вчера днем дворцовая церковь занялась, а оттуда огонь перекинулся на галерею. От Лицея одни стены остались, покои государевы тоже пострадали, вплоть до Янтарной комнаты. Сегодня только потушили.
Офицеры подавленно молчали.
– Государь сильно огорчен, – продолжал Вадковский, – он… я надеюсь, господа, мои слова не выйдут за пределы этой комнаты? Будучи мнителен, он принял пожар за дурное предзнаменование.
Возразить на это было нечего.
– Ну а с нашим-то делом как? – не выдержал нетерпеливый Ермолаев.
Вадковский вздохнул.
– С Александром Христофоровичем поговорили хорошо, по душам. Не знаю, кто кому больше жаловался – мы ему или он нам. В штабе интриги, одни наушничают царю, другие – великому князю Константину… Бенкендорф сказал, что положил себе за правило четко исполнять приказы высшего командования, чтобы, по меньшей мере, совесть его была чиста, и нас призывал к тому же. Служебное рвение – единственный способ заслужить благоволение императора и доказать ему свою преданность. Если начальство будет уверено в нашем послушании, к нашей просьбе прислушаются и полковника заменят; надо лишь набраться терпения и дождаться выхода в Красносельские лагеря, приема у государя. А прежде того просил нас сообщать ему обо всех важных происшествиях, какие могут вызвать неудовольствие начальства.
На обратном пути Ермолаев кипел. Да что же это такое? Все ждать, молчать да кланяться! Семеновцам выходить в лагеря еще не скоро – в самом конце июня. Месяц пробудем там, оттуда на праздник в Петергоф. Вот уж где потребуется наука носки тянуть! А Шварц расстарается! Михаил Павлович им премного доволен! Заменят его, как же!
Сергей не отвечал: его встревожила внезапная и острая боль в горле. Неужели опять ангина? Голос искусителя нашептывал: «Отпуск по болезни!» Нет, пустяки, пройдет. У него уже так бывало: как захандришь, наваливается недуг, а если бодр и уверен в себе, так никакая хворь не берет. Придя домой, капитан послал Луку к аптекарю за шалфеем для полоскания.
Глава вторая
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!
(А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»)
– Доктор, доктор! Идемте скорее со мной! Я нашел здесь моего друга, он болен, ему нужна ваша помощь.
Рудыковский взглянул на Николая Раевского с нескрываемым неудовольствием. Дорога из Киева была утомительной; доктор успел только умыться и мечтал о том, как напьется горячего чаю, переменит белье, ляжет отдыхать… Но молодой человек разве что не топал ногой, подобно гусарскому коню. Вздохнув, Евстафий Петрович вновь натянул еще не вычищенный дорожный сюртук, покрыл лысину фуражкой и взял свой несессер.
Они вышли на Большую улицу, которая вполне оправдывала свое название: бесконечно длинная и настолько широкая, что на ней могли разъехаться несколько экипажей, да еще и разойтись небольшие стада гусей и коз – незаменимых сожителей екатеринославских обывателей. Каменных домов было мало, зато деревянные усадьбы окружали себя садами и огородами. Миновав большой почтовый двор, обнесенный чугунной оградой с кирпичными столбиками, свернули влево. Обшитое шалёвкой двухэтажное здание с мезонином и портиком на четырех оштукатуренных колоннах оказалось городской гимназией. По этой улице степенно шествовали дамы под руку с солидными мужьями; красный доломан Раевского с золотыми шнурами заставлял их долго смотреть ему вслед. Оставив в стороне фабрику с примыкавшими к ней строениями, стали спускаться к Днепру между хуторами казачьей Половицы; перешли по ненадежному каменному мостику через глубокую балку с ручьем и очутились под горой, напротив казенного сада, позлащенного лучами заходящего солнца. Это была Мандрыковка: приземистые беленые хатки, крытые камышом, казались еще ниже по соседству с раскидистыми вековыми деревьями; по склону горы вскарабкались несколько бараков; обнесенный высоким забором острог стоял на усыпанном валунами берегу супротив лесистого Станового острова, который, словно дразнясь, вывалил из зеленой пасти длинный песчаный язык. Раевский уверенно направился к небольшому домику у самого берега; в дверях стоял и кланялся хозяин – чернявый носатый еврей. Потолок был такой низкий, что Рудыковский невольно пригнулся, проходя под притолокой. На дощатой лежанке сидел в одном исподнем щуплый курчавый молодой человек с бледным небритым лицом – это и был друг Раевского.
– Вы нездоровы? – строго спросил Рудыковский, глядя на него поверх очков.
– Да, доктор, немножко пошалил – купался; кажется, простудился.
Голос был сиплый, рука – горячей, пульс слегка учащен. Подведя больного к окошку, Евстафий Петрович велел ему раскрыть рот и высунуть язык. Глотка воспалена, на языке белый налет, а зубы ровные, здоровые.
– Лихорадка, – объявил врач, обращаясь к Раевскому, – но ничего страшного нет.
Потянувшись за своим несессером, который он не глядя поставил на стол, Рудыковский увидел чернильницу с торчавшим из нее обкусанным пером и лист бумаги, покрытый рисунками и мелкими, часто зачеркнутыми строчками.
– Чем это вы тут занимаетесь?
– Пишу стихи, – просипел больной и улыбнулся.
– Нашли тоже время и место. А вот это долой! – указал доктор пальцем на запотевший кувшин с квасом, наверняка ледяным. – На ночь – теплое питье, и если завтра лучше не станет, то хины.
Стоявший в углу человек, которого он прежде не заметил, метнулся вперед и забрал кувшин.
– Премного благодарны! – сказал он, пытаясь поцеловать Рудыковскому руку. – Уж вы, батюшка, вразумите их! Вас-то они послушают! Говорил ведь им, что вода холодная, – куды там! Им жарко, они купаться желают! Им забава, а мне перед барином ответ держать!
– Никита! – прикрикнул на слугу больной и скривился от рези в горле. – Ступай вон!
Раевский еще немного задержался и нагнал доктора, когда тот уже сердито шагал вверх по тропе. Весь обратный путь до губернаторского дома они молчали; у лестницы на второй этаж Рудыковский сухо пожелал Николаю доброй ночи.
Поздним утром, когда Евстафий Петрович наконец-то показался обществу, он был неприятно удивлен, увидев давешнего больного, который выглядел теперь вполне здоровым. Доктору радостно сообщили, что генерал Инзов отпускает своего подчиненного лечиться на Кавказ по ходатайству генерала Раевского – вместе поедем!
За обедом гость без умолку болтал с Николаем по-французски и то и дело громко смеялся. Сидевшие напротив них младшие Калагеорги в разговор не вступали, больше перешептываясь между собой, – они были еще юны и конфузились, зато губернаторские дочки на другом конце стола забрасывали вопросами девочек Раевских, которые, напротив, старались держать себя чинно под строгим взглядом гувернантки-англичанки и учителя-француза. Рудыковский сидел рядом с учителем, генерал Раевский ухаживал за хозяйкой дома. Губернатор выйти к столу не мог: полгода назад его хватил удар. Николай Николаевич не знал об этом, когда ехал сюда, иначе не стал бы доставлять лишних хлопот почтенной Елизавете Григорьевне.
Губернаторша, впрочем, была сама любезность. Она расспрашивала генерала о том, как ему показался Екатеринослав. Раевскому не приходилось кривить душой, когда он отвечал ей, что места здесь прекрасные, и город, хотя и не обширный, являет собой весьма приятную картину: улицы и дома чистые, везде сады с роскошными деревьями – просто оазис среди степей. Жаль только, что большая церковь, заложенная при императрице Екатерине, так и не построена, а великолепный дворец князя Потемкина разваливается…
– Был у нас однажды великий князь Николай Павлович, осмотрел дворец и сказал: «Сей человек все начинал, да ничего не кончил», – с ноткой обиды ответила Елизавета Григорьевна. – Должно, повторил за кем-нибудь; не может быть, чтобы сам выдумал.
Между черными бровями Раевского резче обозначилась двойная суровая складка.
– Светлейший князь Потемкин заселил обширные степи, распространил границу до Днестра, сотворил Екатеринослав, Херсон, Николаев, флот Черного моря, уничтожил опасное гнездо неприятельское внутри России приобретением Тавриды! А не закончил только круга жизни человеческой, умер во всей силе ума и тела!
Глуховатый Раевский говорил так громко, что все остальные притихли. Губернаторша слушала, благодарно кивая почти каждому слову. Доктор не удержался от искушения вглядеться в ее круглое, довольно заурядное лицо с коротковатым носом и двойным подбородком: ходили упорные слухи, что Елизавета Григорьевна – плод тайного брака, заключенного императрицей Екатериной с Потемкиным, когда тот еще не был ни светлейшим, ни Таврическим, и что будто бы в молодости она была копией своего отца. Теперь уж ей минуло сорок пять, и многочисленные роды усугубили природную склонность к полноте, которую более нельзя было назвать здоровой.
Раевский справился о старших сыновьях хозяйки, учившихся в Кадетском корпусе; оказалось, что они уже выпущены офицерами. Две старшие дочери здоровы, с мужьями, слава Богу, живут дружно; собирались приехать на Троицу навестить родителей, да отца вряд ли застанут: хоть и трудно, и боязно, а надо везти его на Железные воды, про них просто чудеса рассказывают. Лицо хозяйки опечалилось.
– Я ведь зимой не хотела его отпускать, как сердце чувствовало! Да разве можно было не поехать… Вот и теперь сердце не на месте. Знаете ведь, что у нас творится.
Грек по рождению, Иван Христофорович воспитывался вместе с великим князем Константином, которого великая бабка хотела посадить на возрожденный византийский трон. Вместо этого он стал наместником в Царстве Польском. На Рождество Калагеорги отправился к старому приятелю в Варшаву, где цесаревич готовил большой парад, продрог на зимнем ветру, а потом, в жарко натопленном дворце, вдруг лишился ног и языка. Врачи только руками разводят, делами пока заправляет вице-губернатор Шемиот… Это Раевскому было уже известно, но почему опасно ехать на воды?
– Бунт, батюшка, – сказала Елизавета Григорьевна, понизив голос. – Говорят, что похуже пугачевского! В степях, на Дону. Из Петербурга генерала прислали с войском и с пушками, а то и не сладить с разбойниками.
– Какого генерала? – удивился Раевский.
– Как будто Чернышева.
– Александра Ивановича? Ну, тогда не тревожьтесь понапрасну: опасность не столь велика.
После обеда непоседливый гость вновь задал доктору хлопот: у него начался жар, озноб, налицо были все признаки пароксизма. Рудыковский достал из кармана записную книжечку с карандашиком и принялся выписывать рецепт.
– Доктор, вы мне дайте чего-нибудь получше, дряни в рот не возьму! – предупредил его курчавый.
Евстафий Петрович пожал плечами: как угодно!
– На чье имя писать? – спросил он.
– Пушкин.
В голубых глазах больного промелькнуло озорное выражение, губы сложились в насмешливую улыбку, словно намекая: «Ну а на это что скажешь?» Военный лекарь точно знал, что во всем Четвертом корпусе нет ни одного офицера с такой фамилией, и среди высшего начальства тоже, поэтому он равнодушно отдал Пушкину рецепт на слабенькую, сладкую микстурку.
Пушкин остался ночевать в губернаторском доме, чтобы завтра рано поутру отправиться в путь; его человек побежал в Мандрыковку собирать вещи. Николай Николаевич объяснил Рудыковскому, что это давний друг его младшего сына, еще по Царскому Селу, служит по статской, нашалил в столице и прислан в канцелярию Инзова для исправления.
После завтрака больной уселся в открытую коляску рядом с другом-капитаном, учитель перебрался в карету к генералу и доктору, другую заняли Машенька и Сонечка с мисс Маттен, няней и татаркой Зарой (крестницей Раевского, звавшейся теперь Анной Ивановной), люди тоже разместились, кто где. Выслали вперед курьера, захватили кухню и тронулись.
Утро было свежим, ясным, бодрящим. Выехав из Екатеринослава, покатили по Мариупольскому тракту, вдоль берега Днепра. Скучать в дороге не приходилось: тракт был изрезан балками и оврагами, экипажи то летели вниз, то тащились вверх, и тогда седоки выбирались наружу, чтобы сделать облегчение лошадям, Днепр же шумел и пенился на порогах, пробивая себе путь среди огромных валунов и каменных заслонов.
К обеду стало жарко и пыльно. Вторую остановку для перемены лошадей сделали в Нойенбурге, там и обедали. Генерал завел с немцем-трактирщиком экономическую беседу; хозяйские дочки в наглухо закрытых платьях, белых чепцах и передниках любезно улыбались посетителям и делали книксен, разнося миски с едой и кружки с пивом; вопросы на русском или французском языке ставили их в тупик. Пушкин игриво подмигивал им, вертел головой, разглядывая мебель, утварь, немцев в темных сюртуках и круглых шляпах, потягивавших пиво в углу, но со вниманием выслушал доктора, когда тот объяснил, что немецкие колонии в Екатеринославской губернии существуют уже тридцать лет и населены меннонитами, подвергавшимися гонениям в Пруссии и приглашенными в Россию императрицей Екатериной. Им позволили исповедовать свою веру, освободили от службы – гражданской и военной, обязав за это содержать в исправности дороги и мосты, принимать на постой войска и платить поземельную подать. Меннониты отвергают насилие, поэтому у них нет даже судов и тюрем. Все свои дела они решают на общем сходе. Долгое время их колонии управлялись иноземцами; с недавних пор этим занялись русские, и с нынешнего года въезд в Россию новых поселенцев приостановлен.
– Впрочем, вы это знаете лучше меня, – добавил Рудыковский. – Вы, кажется, служите в Комитете по делам колонистов?
– Кажется, – улыбнулся Пушкин, и его серьезность мгновенно сменилась весельем.
За порогами места сделались еще живописнее: посреди реки высились скалистые острова со стройными рядами сосен, поросшие лесом берега будили воображение, напоминая слышанные в детстве сказки о богатырях и разбойниках. У селения Айнлаге, которое ямщики по привычке называли Кичкасом, Днепр сужался до двух сотен шагов; там устроили переправу. Лошадей выпрягли, экипажи вкатили на плоты. Стоя на высоком правом берегу и глядя на песчаную отмель левобережья, к которой уже устремились первые лодки, генерал Раевский сказал, что именно здесь печенеги устроили засаду на войско князя Святослава, пытавшееся преодолеть пороги в ладьях. Здесь оборвалась жизнь великого воина! Ноздри Пушкина раздувались, глаза блестели – должно быть, ему слышались крики, свист стрел, плеск воды, конское ржание… Николай Николаевич спросил его с усмешкой, уж не сочиняет ли он поэму о киевском князе; тот ответил ему в тон, что в этом особом случае согласен с Карамзиным: Святослав был великим полководцем, но не великим государем, ибо славу побед уважал более государственного блага. И тут же начал рассказывать, как видел своими глазами побег двух разбойников из екатеринославского острога: они утопили стражника, а сами, хоть и были скованы друг с другом, сумели доплыть до острова, дружно плеская ногами.
На переправу ушло часа два. Когда лошадей снова впрягли и все расселись, ямщики собрались ехать по дороге к Александровску, но генерал приказал им свернуть в степь.
Ужинали в Камышевахе, где почти не оказалось мужиков – только бабы, старики да дети малые. На расспросы генерала нехотя отвечали, что мужики в поле, при табунах, уехали по другим делам. Все больше хмурясь, Николай Николаевич решил не останавливаться на ночлег и ехать дальше.
Заходящее солнце вызолотило окоём и высеребрило степь, в сгустившейся небесной синеве проклюнулись первые звезды. Тяжелая поступь уставших лошадей и скрип колес не заглушали степной музыки – пересвиста сусликов, стрекота кузнечиков, цвиньканья каких-то птах, редкого уханья филина. Спали сидя, обложившись подушками. Поутру, когда остановились позавтракать, оказалось, что Пушкин снова дрожит в ознобе. Учитель вернулся в коляску. У кареты больного ждал Рудыковский со стаканом мутной жидкости в руке.
– А ну, пейте, Пушкин!
Тот повиновался от неожиданности и тотчас сморщился: это была хина.
Небольшой караван пробирался по ровному, бескрайнему травяному морю, переливавшемуся волнами ковыля; ни дерева, ни креста, ни колокольни – взгляду зацепиться не за что. Сам того не заметив, Рудыковский начал тихонько подпевать вторым голосом ямщику, который завел протяжную малороссийскую песню; генерал упросил его петь погромче.
Сестра меньша, сестра меньша выпытуе:
Колы, брате, з войска прыйдешь?
Возьми, сестро, возьми, сестро, песку в жменю,
Посей його на каменю;
Колы, сестро, колы, сестро песок взыйде,
Тоды брат твой з войска прыйде!
Несмотря на бодрую мелодию, песня звучала уныло.
Изредка по пути попадались селения: Омельчик, Орехов, Конские Раздоры; там останавливались, чтобы дать отдых лошадям и напиться; на расспросы генерала жители отвечали неохотно. Наконец вдали заблестела большая вода – Азовское море.
Мариуполь был населен почти одними греками, но генералу Раевскому устроили торжественную встречу на Базарной площади и поднесли хлеб-соль; русский чиновник произнес приветственную речь в честь героя незабвенной храбрости, одушевляющего своим примером юношество и восславленного пиитами. «Почитай-ка им свою оду», – сказал Раевский вполголоса Пушкину, оглядывая ряды чиновничьих вицмундиров и купеческих сюртуков, за которыми теснилась толпа в домотканой одежде, постолах и поярковых шапках. Рудыковский догадался, что в словах генерала заключался какой-то намек; Пушкин промолчал.