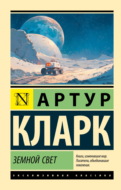Czytaj książkę: «Эпоха невинности»
Edith Wharton
THE AGE OF INNOCENCE
© Перевод. И. Доронина, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Эдит Уортон (1862–1937) – первая женщина-писатель, удостоенная Пулитцеровской премии в 1921 году. Произведения Уортон вошли в золотой фонд всемирной литературы, а ее главный роман «Эпоха невинности» был положен в основу легендарного оскароносного фильма Скорсезе (1993).
Книга I
I
В один из январских вечеров начала семидесятых на сцене нью-йоркской Музыкальной академии1 в «Фаусте» пела Кристина Нильссон.
Хотя уже ходили слухи о возведении – в отдаленном столичном районе, «за Сороковыми улицами» – нового оперного театра, который должен был посоперничать стоимостью строительства и великолепием с операми прославленных европейских столиц, высший свет довольствовался пока тем, что каждый зимний сезон собирался в обшарпанных красных с позолотой ложах доброй старой Академии. Консервативно настроенная публика ценила ее за скромные размеры и некоторое неудобство, которые отваживали от нее нуворишей, коих начинал пугать, но в то же время и манить старый Нью-Йорк; те, кто был склонен к сентиментальности, хранили преданность ей в силу исторических ассоциаций, а меломаны воздавали должное ее превосходной акустике – качеству, столь редко встречающемуся в новых зданиях, предназначенных для исполнения музыки.
Это было первое в нынешнем сезоне выступление мадам Нильссон, и те, кого пресса уже привыкла называть «избранной блистательной публикой», съехались послушать ее, преодолев скользкие заснеженные улицы в своих каретах, просторных семейных ландо или более скромных, однако более удобных «купе Брауна»2. Прибыть в оперу в «купе Брауна» было почти так же престижно, как в собственном экипаже, а отъезд после спектакля тем же способом давал огромное преимущество, позволяя (с шутливым намеком на демократизм убеждений) занять первую же в очереди коляску, вместо того чтобы ждать, когда заложенный, побагровевший от холода и джина нос твоего собственного кучера замаячит под портиком Академии. Блестящая интуиция подсказала какому-то смекалистому конюху с извозчичьего двора, что американцы жаждут убраться с места развлечения даже с большим нетерпением, чем прибыть на него.
Когда Ньюланд Арчер открыл дверь клубной ложи, занавес только-только поднялся, явив зрителям декорацию сцены в саду. Ничто не мешало молодому человеку приехать раньше, однако, пообедав в семь с матерью и сестрой, он весьма неторопливо выкурил сигару в готической библиотеке с застекленными книжными шкафами черного орехового дерева и стульями с острыми навершиями – единственной комнате, где миссис Арчер позволяла курить, и сделал это прежде всего потому, что Нью-Йорк был столицей, а в столицах «не принято» приезжать в оперу к началу; понятия же «принято» и «не принято» в жизни общества, в котором вращался Ньюланд Арчер, были так же важны, как тысячелетиями ранее были важны внушавшие непостижимый ужас тотемы, правившие судьбами его предков.
Другая причина его задержки носила личный характер. Он тянул время, попыхивая сигарой, еще и потому, что по сути был дилетантом и предвкушение удовольствия зачастую приносило ему более волнующее ощущение, нежели само удовольствие. Особенно когда речь шла об удовольствиях утонченных, каковыми, впрочем, большей частью они у него и являлись. В данном случае предвкушавшийся момент был настолько редким и изысканным, что, даже согласуй он его с режиссером, его появление в зале не могло бы случиться в более знаменательный момент, нежели тот, когда примадонна, гадая и разбрасывая по сцене лепестки ромашки, пела чистым, как роса, голосом: «Он любит – нет – он любит меня!»
Пела она, разумеется, «M’ama!», поскольку непреложный и неоспоримый закон музыкального мира требовал, чтобы немецкий текст французской оперы исполнялся шведской певицей по-итальянски, чтобы было понятней английской аудитории. Это казалось Ньюланду Арчеру таким же естественным, как все прочие условности, на которых зиждилась его жизнь, например, что причесываться надлежит двумя щетками в серебряной оправе с личной голубой эмалевой монограммой и никогда не появляться в обществе без цветка (предпочтительно гардении) в петлице.
«M’ama… non m’ama… – пела примадонна и в заключение: – M’ama!» – в любовном ликовании прижимая к губам растрепанную ромашку и возводя очи к искушенному лику маленького смуглого Фауста-Капуля3, тщетно пытавшегося – в своем тесном фиолетовом камзоле и берете с пером – выглядеть таким же невинным и искренним, как его простодушная жертва.
Прислонившись к стене в глубине ложи, Ньюланд Арчер отвел взгляд от сцены и стал изучать противоположные ярусы. Прямо напротив располагалась ложа старой миссис Мэнсон Минготт, которой чудовищная тучность давно не позволяла присутствовать в опере, но которую на фешенебельных спектаклях всегда представлял кто-нибудь из более молодых членов семейства. На сей раз в первом ряду ложи красовались ее сноха миссис Ловелл Минготт и дочь миссис Уелланд; позади этих двух затянутых в парчу матрон, устремив восторженный взгляд на сценических возлюбленных, сидела юная девушка в белом. Когда «M’ama!» мадам Нильссон взмыло над затихшим залом (разговоры в ложах всегда прекращались на время сцены гадания по ромашке), нежный румянец озарил щеки девушки, покрыл лоб до основания светлых волос и даже залил покатость юной груди в вырезе платья, целомудренно прикрытом тюлевой шемизеткой, скрепленной цветком гардении. Она опустила взор на огромный букет ландышей, лежавший у нее на коленях, и Ньюланд заметил, как она нежно коснулась цветов затянутыми в перчатку пальцами. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он снова перевел взгляд на сцену.
На декорации не поскупились, их высоко оценили даже знатоки, посещавшие оперные театры Парижа и Вены. Авансцена, вплоть до самой рампы, была затянута изумрудно-зеленой тканью. В средней части сцены симметрично расположенные бугорки, как бы покрытые мохнатым зеленым мхом и соединенные дугами, напоминающими крокетные воротца, огораживали сад из невысоких деревьев, похожих на апельсиновые, но усеянных крупными розовыми и красными розами. Гигантские – гораздо крупнее роз – анютины глазки, напоминавшие перочистки в форме цветов, какие прихожанки делают для своих любимых священников, вырастали из мха позади деревьев, а на ветвях розовых кустов там и сям цвели роскошные «привитые» ромашки, пророчески предвосхищавшие будущие чудеса мистера Лютера Бёрбанка4.
Посреди этого волшебного сада мадам Нильссон в белом кашемире с бледно-голубыми шелковыми вставками, с редикюлем, свисавшим с синего кушака, и толстыми желтыми косами, аккуратно разложенными по обе стороны муслиновой шемизетки, потупив очи, слушала страстные признания мистера Капуля, изображая простодушное непонимание его намерений каждый раз, когда он словом или взглядом настойчиво указывал ей на окошко в нижнем этаже аккуратного кирпичного особняка, косо выступавшего из правой кулисы.
«Милое дитя! – подумал Ньюланд Арчер; его взгляд порхнул обратно, на юную особу с ландышами. – Она даже не догадывается, чтó все это значит». Он созерцал ее трогательно увлеченное лицо с трепетом обладания, в котором смешались гордость собственной мужской посвященностью и нежное благоговение перед ее бездонной чистотой. «Мы будем читать “Фауста” вместе… на берегах итальянских озер…» – думал он, и в его воображении смутно сливались сцены из его предстоящего медового месяца и литературного шедевра, открыть невесте смысл которого должно было стать его мужской привилегией. Только сегодня днем Мэй Уелланд дала ему понять, что она к нему «неравнодушна» (единственно возможная согласно нью-йоркской священной традиции фраза, означающая согласие девушки), а его воображение уже гнало его впереди помолвки, обручального кольца и поцелуя и под звучащий в голове свадебный марш из «Лоэнгрина» рисовало картину, на которой он вел ее под руку по какому-то заповедному уголку старушки Европы.
Он ни в малейшей мере не желал, чтобы будущая миссис Ньюланд Арчер была наивной простушкой. Он хотел, чтобы она (благодаря его просветительскому руководству) развила в себе навыки светского общения и остроту ума, которые позволят ей уверенно держаться в кругу самых популярных замужних дам «молодого поколения», где признанным обычаем было умение снискать мужское уважение, игриво обескуражив любого. А если бы он прозрел свое тщеславие до самого дна (куда порой почти добирался), он бы обнаружил там и желание, чтобы его жена была столь же искушенной в стремлении доставить ему удовольствие, как та замужняя дама, которая владела его фантазиями в течение двух довольно бурных лет, – но, разумеется, без малейшего намека на болезненность, которая едва не омрачила жизнь этого несчастного существа и расстроила его собственные планы на целую зиму.
Как подобное чудо из льда и пламени сотворить и как ему выстоять в грубом окружающем мире – об этом Арчер никогда не давал себе труда задуматься, он довольствовался тем, что придерживался такого взгляда, не анализируя его, поскольку знал: именно так должны думать все тщательно причесанные джентльмены в ослепительно-белых манишках и с цветками в петлицах, которые сейчас сменяли друг друга в клубной ложе, по-приятельски обмениваясь приветствиями и критически обращая свои театральные бинокли на дам, представлявших собой продукт системы. В интеллектуальном отношении и в понимании искусства Ньюланд Арчер ощущал свое превосходство над этими избранными особями старой нью-йоркской знати; он, вероятно, больше читал, больше думал и даже мир повидал гораздо больше, чем любой другой из их числа. Каждый из них в отдельности явно уступал ему, но вместе они олицетворяли «Нью-Йорк», и по обычаю мужской солидарности Арчер принимал их жизненную доктрину во всем, что входит в понятие морали. Он интуитивно чувствовал, что было бы чревато осложнениями – и, упаси Господь, сочтено дурным тоном – проявлять независимость в этой сфере.
– Быть не может! – воскликнул Лоуренс Леффертс, резко отведя бинокль от сцены. Лоуренс Леффертс в целом был признанным нью-йоркским авторитетом по части «хорошего тона». Он больше времени, чем кто бы то ни было другой, посвящал изучению этого замысловатого и увлекательного вопроса, однако изучение само по себе еще не объясняло его исчерпывающей компетенции и свободного владения предметом. Достаточно было окинуть взглядом его стройную элегантную фигуру от покатого гладкого лба и светлых усов идеальной формы до лакированных штиблет с узкими длинными мысами, чтобы понять, что знание «стиля» есть неотъемлемое свойство этого человека, умевшего носить очень дорогую одежду столь небрежно и при весьма высоком росте двигаться с такой непринужденной грацией. Как однажды сказал о нем некий юный почитатель: «Если кто и может точно сказать, когда следует надевать черный галстук к вечернему костюму, а когда нет, то это Ларри Леффертс». А уж по части выбора между бальными туфлями и лакированными «оксфордами»5 его авторитет был непререкаем.
– Не может быть! – повторил он, передавая бинокль старому Силлертону Джексону.
Проследив за взглядом Леффертса, Ньюланд Арчер с удивлением увидел, что его восклицание было вызвано появлением в ложе старой миссис Минготт новой персоны – стройной молодой дамы, чуть пониже ростом, чем Мэй Уелланд, с темными густыми локонами на висках, подхваченными узкой лентой, расшитой бриллиантами. Намек на «стиль Жозефины», как принято было его называть, содержавшийся в этом головном украшении, подкреплялся покроем темно-синего бархатного платья, весьма театрально подхваченного под грудью поясом с большой старомодной пряжкой. Носительница столь необычного наряда, которая, казалось, совсем не замечала, какое привлекла внимание, постояла посреди ложи, обсуждая с миссис Уелланд, уместно ли ей занять место в первом ряду справа от последней, но сдалась и с едва заметной улыбкой села в кресло, противоположное тому, в котором сидела миссис Ловелл Минготт, невестка миссис Уелланд.
Мистер Силлертон Джексон вернул бинокль Лоуренсу Леффертсу. Весь клуб инстинктивно обратил взоры на старика в ожидании того, что он скажет, потому что старый мистер Джексон был таким же непререкаемым авторитетом по части «родословных», каким Лоуренс Леффертс – по части «стиля». Он знал все разветвления нью-йоркских родственных связей и мог разъяснить такие сложные вопросы, как, кем приходятся Минготты (через Торли) южно-каролинским Далласам и как старшая ветвь филадельфийских Торли связана с Чиверсами из Олбани (ни в коем случае не путать с Мэнсон Чиверсами с Университетской площади), но и перечислить основные характеристики каждого семейства – например, легендарную скупость младшей линии Леффертсов (тех, что с Лонг-Айленда) или роковую склонность Рашуортов заключать дурацкие браки, или сумасшествие, проявляющееся в каждом втором поколении олбанских Чиверсов, с которыми нью-йоркские кузены и кузины всегда отказывались вступать в матримониальные отношения – за катастрофическим исключением бедной Медоры Мэнсон, которая, как всем известно… впрочем, ее мать сама была из Рашуотов.
В придачу к этому лесу генеалогических древ мистер Силлертон Джексон хранил между своими узкими впалыми висками, под копной мягких серебристых волос полный реестр скандалов и тайн, тлевших под невозмутимой поверхностью нью-йоркского высшего света за последние пятьдесят лет. Его осведомленность простиралась так широко, а память была настолько крепкой, что он, пожалуй, был единственным человеком, который мог сказать вам, кем на самом деле был банкир Джулиус Бофорт и что сталось с красавцем Бобом Спайсером, отцом старой миссис Мэнсон Минготт, который столь загадочно исчез (с крупной суммой денег трастового фонда) менее чем через год после собственной женитьбы, в тот самый день, когда красивая испанская танцовщица, которая восхищала переполненные залы старой Оперы в Бэттери6, села на пароход, следовавший на Кубу. Однако эти и многие другие тайны были надежно заперты в памяти мистера Джексона не только потому, что обостренное чувство чести не позволяло ему повторять то, чем с ним поделились в частном порядке, но и потому, что репутация человека, умеющего держать язык за зубами, увеличивала его возможности узнавать то, что ему хотелось узнать.
Вот почему клубная ложа застыла в напряженном ожидании, пока мистер Силлертон возвращал бинокль Лоуренсу Леффертсу. Несколько секунд старик молча внимательно вглядывался в своих одноклубников подернутыми старческой пленкой голубыми глазами с набрякшими веками, испещренными синими венами, потом задумчиво подкрутил усы и сказал всего одну фразу:
– Не думал, что Минготты решатся на такое.
II
Этот короткий эпизод поверг Ньюланда Арчера в неприятное состояние неловкости.
Его раздражало, что единодушное внимание всей мужской части Нью-Йорка привлекла ложа, в которой между матерью и теткой сидела его нареченная. Какое-то время он не узнавал даму в платье стиля ампир и недоумевал, почему ее появление вызвало такой ажиотаж среди посвященных. Потом его осенило, и в груди вскипело негодование. И впрямь, кто бы мог подумать, что Минготты решатся на такое!
Но они решились, никаких сомнений. По приглушенным замечаниям у него за спиной Арчеру стало очевидно, что молодая дама действительно была кузиной Мэй Уелланд, той, которую в семье всегда называли не иначе как «бедняжка Эллен Оленская». Арчер знал, что она внезапно приехала из Европы дня два тому назад, и даже слышал (и отнесся к этому благосклонно) от мисс Уелланд, что та навестила бедняжку Эллен, которая остановилась у старой миссис Минготт. Арчер безоговорочно одобрял семейную солидарность, и одним из качеств, которые его больше всего восхищали в Минготтах, было следование обычаю решительно вставать на защиту «паршивых овец», если таковые обнаруживались в их безупречном стаде. Злоба и жестокосердие не были свойственны молодому человеку, он радовался, что его будущая жена лишена ханжества и по-доброму (при личном общении) отнеслась к своей кузине; но принимать графиню Оленскую в семейном кругу – одно, совсем другое – представлять ее публике, тем более в Опере и тем более в одной ложе с девушкой, о помолвке которой с ним, Ньюландом Арчером, должно было быть объявлено через несколько недель. Он чувствовал то же, что и старый Силлертон Джексон: кто бы мог подумать, что Минготты зайдут так далеко!
Разумеется, ему было известно, что миссис Мэнсон Минготт, матриарх рода, позволяла себе поступки, дозволенные разве что мужчине (в пределах Пятой авеню). Он всегда восхищался бесстрашной и властной старой дамой, которая, несмотря на то что была всего лишь Кэтрин Спайсер со Стейтен-Айленда, дочерью скомпрометировавшего себя и таинственно исчезнувшего отца, не имевшей ни денег, ни достаточно высокого положения, чтобы заставить людей забыть об этом, сумела выйти замуж за главу состоятельного рода Минготтов, выдала обеих дочерей за «иностранцев» (итальянского маркиза и английского банкира) и в довершение своих дерзостей выстроила огромный дом из светло-кремового камня (в то время, когда строить дома из темного песчаника было так же обязательно, как облачаться в сюртук после полудня) в труднодоступной глуши возле Центрального парка. «Иностранные» дочери старой миссис Минготт стали легендой. Они ни разу не приехали навестить мать, а она, как многие люди живого ума и сильной воли, став тучной и малоподвижной, философски смирилась с этим и почти не выезжала. Однако кремовый дом (предположительно спроектированный по образцу особняков французской аристократии) являл собой наглядное доказательство силы ее духа; в нем она царила в окружении дореволюционной французской мебели и памятных вещиц из Тюильри времен Луи-Наполеона (где она блистала в свои зрелые годы) так безмятежно, словно не было ничего особенного в том, чтобы жить за Тридцать четвертой улицей и иметь французские окна, открывавшиеся, как двери, вместо поднимающихся оконных рам.
Все (включая мистера Силлертона Джексона) сходились в том, что старая Кэтрин никогда не отличалась красотой – даром, который в глазах Нью-Йорка обелял любой успех и служил оправданием некоторым провалам. Недоброжелатели утверждали, что, подобно своей царственной тезке, Кэтрин пробила себе путь к успеху благодаря силе воли, жесткосердию и высокомерной наглости, которые, впрочем, в некоторой степени оправдывались безупречной порядочностью и достоинством ее частной жизни. Мистер Мэнсон Минготт умер, когда ей было всего двадцать восемь лет, и в завещании наложил определенные «ограничения» на пользование наследными деньгами, поскольку не доверял Спайсерам в целом; но его отважная молодая вдова бесстрашно пошла своей дорогой, свободно вращалась в обществе иностранцев, выдала дочерей замуж в одному богу известно какие – то ли коррумпированные, то ли фешенебельные – круги, водила дружбу с герцогами и послами, якшалась с папистами, принимала у себя оперных певцов и являлась близкой подругой мадам Тальони; и тем не менее (Силлертон Джексон первым провозгласил это), никогда ни малейшей тени не упало на ее репутацию – и это единственное, как он всегда добавлял, что отличает ее от венценосной Екатерины.
Миссис Мэнсон Минготт давно успешно избавилась от ограничений, наложенных мужем на наследство, и вот уже полвека жила в достатке, но память о стесненных обстоятельствах молодости сделала ее излишне бережливой, и хотя, покупая платье или предмет мебели, она заботилась о том, чтобы они были лучшими из лучших, заставить себя щедро потратиться на преходящее удовольствие чревоугодия она никак не могла. Поэтому – хоть происходило это и по совершенно разным причинам – еда в ее доме была так же дурна, как у миссис Арчер, и даже хорошие вина положения не спасали. Родственники считали, что скудость ее стола дискредитирует фамилию Минготтов, которая всегда ассоциировалась с жизнью на широкую ногу, но люди продолжали бывать у нее, несмотря на «готовые блюда» и выдохшееся шампанское, а она в ответ на реприманды своего сына Ловелла (который пытался восстановить семейный престиж, наняв лучшего в Нью-Йорке шеф-повара), смеясь, отвечала: «К чему держать двух хороших поваров в одной семье теперь, когда дочерей я выдала замуж, а сама не могу есть соусов?»
Размышляя обо всем этом, Ньюланд Арчер снова посмотрел на ложу Минготтов и увидел, что миссис Уелланд и ее невестка демонстрируют критикам в противоположном полукруге лож типично минготтиансий апломб, который старуха Кэтрин привила всему своему племени, и одна лишь Мэй Уелланд не сумела скрыть понимания серьезности ситуации – ее выдавал сгустившийся румянец (вероятно, вызванный тем, что она видела, как он смотрит на нее). Что же касается виновницы поднявшегося волнения, то она с безмятежной грацией сидела в своем углу ложи, устремив взор на сцену и подавшись вперед, ее плечи и грудь были обнажены чуть больше, чем полагалось в Нью-Йорке, по крайней мере, среди дам, у которых были причины не привлекать к себе внимания.
Мало что было для Ньюланда Арчера ужасней, чем оскорбление божества «Хорошего тона», зримым посланцем и наместником которого являлся «Стиль». Бледное и серьезное лицо мадам Оленской представлялось ему подобающим случаю и ее общему положению, но то, как ее платье (безо всякой шемизетки) оголяло ее худые плечи, шокировало и тревожило его. Ему была ненавистна мысль, что Мэй Уелланд беззащитна перед влиянием молодой дамы, столь легкомысленной по отношению к требованиям «Хорошего тона».
– В конце концов, – услышал он позади себя голос одного из молодых членов клуба (во время дуэтов Мефистофеля с Мартой разговоры допускались), – в конце концов, что уж такого случилось?
– Ну, она его оставила, этого никто не отрицает.
– Но ведь он – чудовищная скотина, разве нет? – продолжал вопрошавший, простодушный юноша из рода Торли, явно претендовавший на место в списке защитников дамы.
– Отъявленная, я знавал его в Ницце, – подтвердил Лоуренс Леффертс со знанием дела. – Полупарализованный аристократ-зубоскал, весьма красив, но с похотливым взглядом. Если он не с женщиной, то коллекционирует фарфор. За то и за другое платит любую цену, насколько мне известно.
Все рассмеялись, и молодой защитник произнес:
– Ну, если так…
– Если и так, то она-то удрала с его секретарем.
– О, понимаю. – У молодого человека вытянулось лицо.
– Хотя продолжалось это недолго: я слышал, что уже несколько месяцев спустя она жила в Венеции одна. Похоже, Ловелл Минготт съездил за ней. Он говорил, что она была в отчаянии. Это все куда ни шло, но выставлять ее напоказ в Опере – совсем другое дело.
– Возможно, – рискнул предпринять еще одну попытку юный Торли, – она слишком убита горем, чтобы оставлять ее дома одну.
Его замечание было встречено язвительным смехом, и молодой человек, густо покраснев, постарался сделать вид, будто имел в виду то, что понимающие люди называют «двусмысленностью».
– В любом случае привозить ее сюда одновременно с мисс Уелланд было сомнительной затеей, – сказал кто-то, понизив голос и покосившись на Арчера.
– О, это – часть кампании: Бабуля, несомненно, приказала. – Леффертс рассмеялся. – Когда старая дама что-то замышляет, она идет до конца.
Действие заканчивалось, и все в ложе зашевелились. Ньюланд Арчер внезапно испытал потребность в решительных действиях: первым из мужчин войти в ложу миссис Минготт, объявить застывшему в ожидании свету о предстоящей помолвке с Мэй Уелланд и поддержать ее в затруднительной ситуации, сложившейся из-за рискованного появления ее кузины. Этот порыв перевесил все колебания и этические соображения и погнал его по красным коридорам в противоположную часть зала.
Войдя в ложу, он встретился взглядом с мисс Уелланд и увидел, что она мгновенно поняла побудительный мотив его появления, хотя женское достоинство, которое они оба почитали высшей добродетелью, никогда не позволило бы ей в этом признаться. Люди их круга жили в атмосфере скрытых подтекстов и утонченной деликатности, и то, что они с Мэй без слов поняли друг друга, как показалось молодому человеку, сближало их больше, чем любое открытое объяснение. Ее глаза сказали: «Вы понимаете, почему мама привезла меня сюда», а его ответили: «Я бы ни за что на свете не оставил вас одну».
– Вы знакомы с моей племянницей графиней Оленской? – спросила миссис Уелланд, протягивая руку своему будущему зятю. Арчер поклонился графине, не протягивая руки, как было принято при знакомстве с дамой, а Эллен Оленская лишь слегка склонила голову, сжимая затянутыми в светлые перчатки руками огромный веер из орлиных перьев. Поприветствовав миссис Ловелл Минготт, крупную блондинку в шуршащих шелках, он сел рядом со своей суженой и тихо произнес:
– Надеюсь, вы сообщили мадам Оленской, что мы помолвлены? Я хочу, чтобы все знали… я хочу, чтобы вы позволили мне объявить об этом сегодня вечером на балу.
Лицо мисс Уелланд заалело, как утренняя заря, и она посмотрела на него сияющими глазами.
– Если вам удастся уговорить маму, – сказала она. – Но зачем нам менять то, о чем уже договорено? – Он ответил ей только взглядом, и она добавила, улыбнувшись еще доверительней: – Сообщите это моей кузине сами: я вам разрешаю. Она говорит, что вы с ней играли вместе, когда были детьми.
Она немного отодвинулась, чтобы дать ему пройти, и Арчер, не мешкая, даже немного нарочито, желая показать всем, что именно он делает, уселся рядом с графиней Оленской.
– Мы ведь и впрямь вместе играли детьми, не так ли? – сказала та, обращая на него серьезный взгляд. – Вы были несносным мальчишкой и однажды поцеловали меня за дверью; но я была влюблена в вашего кузена Вэнди Ньюланда, который на меня даже не смотрел. – Она обвела взглядом подковообразно изогнутый ярус лож. – О, как это все напоминает мне о прошлом – я вижу всех этих людей в коротких штанишках и панталончиках, – добавила она с чуть заметным протяжным акцентом, снова оборачиваясь к нему.
Какими бы любезными ни были при этом выражения их лиц, Арчера передернуло от мысли, что они в столь неуместно легкомысленном виде представляют себе этот августейший трибунал, прямо сейчас рассматривающий ее дело. А ничто не противоречит хорошему тону больше, чем неуместное легкомыслие. Поэтому он ответил довольно сдержанно:
– Да, вы долго отсутствовали.
– О, целую вечность, – согласилась она. – Настолько долго, что мне кажется, будто я уже умерла и похоронена, а это старое доброе место есть рай. – По причине, которую он и сам не смог бы сформулировать, это покоробило Ньюланда Арчера как даже еще более неуважительное описание нью-йоркского светского общества.
III
Все шло своим неизменным чередом.
Миссис Джулиус Бофорт в день своего ежегодного бала никогда не пропускала посещения Оперы, более того, она всегда назначала свой бал на день, когда в Опере давали спектакль, чтобы подчеркнуть, что она не снисходит до хозяйственных забот и имеет вышколенный штат прислуги, способной тщательнейшим образом организовать прием даже в ее отсутствие.
Дом Бофортов был одним из немногих нью-йоркских домов, в которых имелись бальные залы (он был старше даже домов миссис Мэнсон Минготт и Хедли Чиверсов), и в те времена, когда начинало считаться «провинциальным» перед балом затягивать пол в гостиной суровым полотном и сносить мебель наверх, безусловное преимущество обладания бальной залой, которая не использовалась ни по какому иному назначению и триста шестьдесят четыре дня в году покоилась в темноте за закрытыми ставнями, с позолоченными стульями, сдвинутыми в угол, и зачехленной люстрой, искупало все, что было достойно сожаления в прошлом Бофортов.
Миссис Арчер, любившая излагать свою философию общества в чеканных аксиомах, как-то изрекла: «У нас у всех есть любимчики-простолюдины…», и, хотя фраза была рискованной, она нашла отклик во многих аристократических душах. Однако Бофорты были не совсем «простолюдинами», хотя кое-кто считал, что они даже хуже. Миссис Бофорт на самом деле принадлежала к одной из самых почтенных американских фамилий, она была очаровательной Региной Даллас (из южно-каролинской ветви), красавицей без гроша, введенной в нью-йоркское общество ее кузиной, опрометчивой Медорой Мэнсон, вечно совершавшей неловкие поступки из лучших побуждений. Любой, кто принадлежит роду Мэнсонов или Рашуортов, имеет «droit de cité»7 (как выражался мистер Силлертон Джексон, бывший завсегдатаем Тюильри) в нью-йоркском свете, но разве Регина Даллас не утратила это право, связав себя узами брака с Джулиусом Бофортом?
Вопрос состоял в том, кто такой сам Бофорт. Он считался англичанином, был приятен в общении, красив, вспыльчив, гостеприимен и остроумен. В Америку прибыл с рекомендательными письмами от английского зятя миссис Мэнсон Минготт, банкира, и быстро завоевал весомое положение в деловом мире, однако был склонен к разгульной жизни, злоязычен, и истинное происхождение его оставалось тайной, так что, когда Медора Мэнсон объявила о помолвке с ним своей кузины, это было сочтено еще одним безрассудством в длинном списке неосмотрительных поступков бедной Медоры.
Но безрассудство так же часто приводит своих «детей» к успеху, как и мудрость: спустя два года после памятного бракосочетания дом молодой миссис Бофорт был признан самым изысканным домом Нью-Йорка. Никто не понимал, как свершилось это чудо. Регина была ленива, пассивна, злые языки даже называли ее тупой, однако, разодетая, как богиня, увешанная жемчугами блондинка, становившаяся с каждым годом словно бы моложе и красивей, она царила во дворце мистера Бофорта, построенном из тяжелого коричневого песчаника, и приманивала к нему весь высший свет, даже не пошевелив унизанным кольцами пальчиком. Судачили, будто Бофорт сам школит слуг, учит шеф-повара приготовлению новых блюд, говорит садовникам, какими выращенными в теплицах цветами украшать обеденный стол и гостиные, составляет списки гостей, готовит послеобеденный пунш и диктует жене записки, которые та рассылает своим друзьям. Если так действительно и было, то вся эта домашняя жизнь свершалась втайне, а свету он являл образ беззаботного гостеприимного миллионера, входящего в собственную гостиную с отрешенностью гостя, вопрошающего: «Эти глоксинии моей жены восхитительны, не правда ли? Кажется, она заказывает их из Кью8».
Секрет успеха мистера Бофорта, по общему мнению, заключался в том,как он ко всему относился. Можно было сколько угодно шептаться о том, что международный банковский дом, где он служил, «помог» ему убраться из Англии, он игнорировал этот слух с той же легкостью, что и все прочие слухи, и, несмотря на то, что деловое сообщество Нью-Йорка было не менее щепетильно в отношении профессиональных репутаций, нежели общество в целом относительно моральных стандартов, весь Нью-Йорк толпился в гостиных Бофортов, и вот уже двадцать лет люди произносили: «Сегодня мы у Бофортов» таким же безмятежным тоном, каким сообщали, что собираются в гости к миссис Мэнсон Минготт, да еще и с оттенком удовольствия – в приятном предвкушении горячей запеченной утки и винтажных вин вместо тепловатой «Вдовы Клико» без указания срока выдержки и разогретых ресторанных тефтелей.