Рудольф Нуреев. Жизнь
Tekst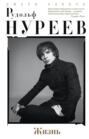


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 1230 str.
- Kategoria: literatura faktu, reportaż, biografia, opera, balet
Положение осложнялось еще и тем, что Рудольф очень тосковал по дому. Орликовский пишет о том, как он сидел на набережной, глядя на заводские строения на том берегу, как будто они напоминали ему Неву, и почти весь день слушал музыку, проигрывая симфонию Скрябина «иногда по три, пять, десять раз подряд». Тогда Скрябина на Западе почти не знали, но он был любимым композитором Рудольфа и культовым композитором в России. Подобно поэтам Серебряного века, которых Рудольф тоже любил, Скрябин считал искусство высшей формой познания, духоподъемным средством, которое обеспечивает трансцендентный переход в божественное состояние. Рудольф не верил в божественное начало скрябинского «супериндивидуалистического я»; он сам был солипсистом до мозга костей. Тем не менее Симфония № 3 («Божественная поэма») с ее мятежным героем, стремящимся к свободе, как будто рассказывала о нем, неспешно перечисляя все превратности судьбы, сомнения и тревоги, через которые проходил он сам.
Рудольф повсюду возил с собой тяжелый чемоданчик с пластинками. Он напомнил Марии молодого Баланчина – «музыка составляла всю его жизнь». Он признался, как он завидует ее музыкальной подготовке (Мария была первоклассной пианисткой), и поведал, что когда-нибудь он хочет стать дирижером. Хотя их разговоры во время совместных прогулок или ночных посиделок у реки, когда они держались за руки, редко уходили от «балета, Баланчина и Эрика», Мария поняла, что все больше «испытывает нежность» к этому красивому, романтичному юноше – «настоящему русскому мальчику». Она тоже отличалась поразительной красотой: высокая, длинноногая, смуглая, с экзотической внешностью, унаследованной от отца, американского индейца племени осейдж. Впрочем, Рудольфа больше всего интересовали ее знания и опыт. А еще ему нравилось, что с ней можно говорить откровенно, не скрывая свою гомосексуальность. Он открыто флиртовал с мальчиками, мимо которых они проходили по улице. Однажды, когда они поздно возвращались в отель, к ним подошел американский военный, который начал заигрывать с Рудольфом: «Не знаю – может быть, Руди строил ему глазки. Но, когда я воскликнула: «Как вы смеете!» – он вдруг вытащил пружинный нож… Руди схватил меня за руку, и мы побежали по улице».
Кроме того, Рудольф рассказывал – «и даже хвастал» – Марии, что он нравится женщинам. Он рассказал ей о своем романе с Ксенией. На сей раз Мария испытала шок. «Но, Руди, она жена твоего любимого учителя! Зачем ты так поступил?» – «Потому что она хотела», – ответил он. Однажды вечером она вернулась в их общий номер и обнаружила Рудольфа в своей постели. Дав себе время собраться с мыслями, она притворилась, будто ничего не заметила. «А потом Руди сказал – это было так мило! – «Мария… ты меня не видишь?» – Рудольф не испытывал никаких угрызений совести по поводу своего поведения; по замечанию одного балетного критика, «чего бы это ни стоило, он дойдет до конца. Нет ничего, на что он не осмелится, чтобы исполнить свое предназначение». И хотя Мария, уже понявшая, что Рудольф не способен на верность, решила не связываться с ним, она «не собиралась и отказываться от небольшого возбуждения».
Прошло много лет с тех пор, как она в последний раз так развлекалась. Каждую ночь они выходили в город, как дети, ходили в кино и ночные клубы, где она обучала Рудольфа танцевать твист. Привыкнув к близости с женщинами постарше, он не показывал признаков того, что физическая сторона их связи интересует его меньше. «Наоборот, – смеется Мария, хотя она в самом деле заметила, что он не преувеличивал, когда говорил, что одержим Эриком Бруном. – Он никак не мог оставить эту тему и снова и снова повторял, как он им восхищается».
Кстати, Брун внушал большую страсть и ей самой – «возможно, она была влюблена». В 1959–1960 гг. их пару считали идеальной, но Брун, расстроенный из-за требовательности Марии и растущего непонимания с Баланчиным, решил вернуться в Данию. В начале лета 1960 г. две звезды воссоединились на время шестимесячных гастролей «Американского театра балета» по странам Восточного блока, однако атмосфера оставалась напряженной. Отчаянно скучая по маленькой дочери и не имея возможности танцевать с Эриком, который отменил спектакли из-за травмы, Мария чувствовала себя «совершенно заброшенной».
К тому времени, как они добрались до Москвы, Эрик полностью восстановился и находился в отличной форме. Марию утешили восторженные отзывы на их па-де-де Черного лебедя, однако не могла не заметить, что вне сцены Брун старается ее избегать. В Тбилиси она стала «очень требовательной, очень агрессивной». Поскольку гастроли близились к завершению, Эрик решил поставить все точки над i: «Я просто не мог с этим справиться и сказал ей, что больше не хочу ни танцевать с ней, ни разговаривать с ней, ни даже видеть ее».
Весной следующего года он, впрочем, сменил гнев на милость. Во время бродвейского сезона они снова исполняли дуэт Черного лебедя, а также тесно сотрудничали над постановкой Биргит Кульберг «Фрёкен Юлия» по пьесе Стринберга. Через несколько месяцев, услышав об их успехе, новый директор «Датского королевского балета» убедил Эрика пригласить Марию станцевать его в Копенгагене. Так как она стала первой приглашенной американской звездой в Копенгагене, она решила согласиться. Гуляя по Франкфурту с Рудольфом, Мария позвонила Эрику из телефона-автомата за его счет, чтобы дать ответ.
Услышав, что она собирается приехать в Данию, Эрик сразу поспешил убедиться, что она согласится на его условие, которое он предложил в письме: за пределами театра они встречаться не будут. «Ну разумеется», – презрительно ответила Мария и рассказала, что они в Германии. Потом попросила угадать, кто сейчас ее спутник. Вначале Эрик не поверил, что она стоит на улице «с замечательным русским танцовщиком», Мария передала трубку Рудольфу. На несколько секунд тот лишился дара речи. Эрик Брун был единственным танцовщиком, которого он считал равным себе, даже Пушкин называл Бруна «откровением». Один Тейя относился к нему пренебрежительно. «Брун холоден», – заметил он, когда они вместе смотрели фильм, на что Рудольф ответил своим ставшим знаменитым оксюмороном: «Да, он холодный как лед: дотрагиваешься до него, и он тебя обжигает». Впрочем, вскоре Рудольф пришел в себя и сообщил Бруну, что хочет приехать в Данию. Наблюдавшая за ним Мария заметила, как у него засверкали глаза и какое восторженное выражение появилось у него на лице, как будто он понял, что теперь перед ним весь мир.
Когда они прибыли в Копенгаген, там их уже ждали Элиза и ее няня; они остановились в «Лангелине», небольшом пансионе возле театра, где Мария забронировала номера для всех. Услышав, что он будет спать в отдельной комнате и что «больше ничего не будет», Рудольф дружелюбно ухмыльнулся и посмотрел на часы: «Итак… Сколько еще ждать?» Позже в тот вечер они перешли площадь и вошли в отель «Англетер», где Мария заказала «Ред спешиэлз» (шампанское с соком) и позвонила Эрику из бара, пригласив его присоединиться к ним.
Был необычно теплый день для конца лета; войдя в бар, Эрик с удивлением увидел, что на молодом спутнике Марии свитер. Когда его глаза привыкли к полумраку, он отметил, что Рудольф, который был младше его ровно на десять лет, необычайно красив, «с определенным стилем… своего рода классом», а Рудольф, который, в свою очередь, смущенно разглядывал Бруна, был поражен классической красотой его благородного нордического лица – в любительском фильме Тейи его черты оставались неразличимыми. Хотя танцовщики не смотрели друг другу в глаза, Мария сразу поняла, что они понравились друг другу. Речь зашла о ближайших планах Рудольфа; на ломаном английском он ответил, что хочет танцевать в какой-нибудь ведущей европейской или американской труппе, но не знает, как этого добиться. Для разговора и чтобы дать Эрику понять всю глубину своего восхищения, Рудольф упомянул, как он заметил двух танцовщиков в Большом театре в их первый вечер в Москве. «Он знал, на кого он смотрит, и он видел нас там», – сказал Эрик своему биографу, Джону Грюэну, а Рудольф подтвердил: «Я умирал от желания поговорить с этими танцовщиками… но не посмел, потому что мне пригрозили исключением из училища… Поэтому разговаривал с ними глазами – просто глядя на них».
Напряженность между Эриком и Марией, которую они пытались скрыть натужной веселостью, не укрылась даже от Рудольфа. «Конечно, я сразу понял, что Руди заметил неловкость, – сказал Эрик. – Гораздо позже [он] упомянул, что ему тогда не понравилось, как я смеялся. Как бы там ни было, мне с трудом удалось просидеть с ними тот час». Эрик, которому не терпелось поскорее уйти, предложил заплатить по счету, но Мария настояла на том, что заплатит за себя, а за Рудольфа заплатила наличными, которые он дал ей на сохранение. Так как им показалось, что Рудольф не понял смысла выражения «каждый платит за себя», Эрик объяснил, что в Америке часто платят за все пополам. «Но мы не в Америке», – недоуменно пожал плечами Рудольф.
Следующие несколько дней он каждое утро встречал Эрика в репетиционном зале труппы; они обменивались несколькими словами. После занятий «у палки», когда танцовщики разделялись на две группы, Рудольф механически встал в центр первой группы, а Эрик, как обычно, остался позади второй. Хотя это означало, что они могли наблюдать друг за другом, Рудольфа озадачило, что коллеги не уступают Эрику почетного места, и он спросил: «Почему датчане тебя не уважают?»
На самом деле другие танцоры не испытывали особого уважения к нему самому. Потрясенные его беспардонностью, – Рудольф выходил вперед или останавливал весь класс, если темп оказывался для него слишком быстрым, – они не понимали, почему великий Эрик Брун общается с этим русским мальчишкой, чью манеру исполнения они находили дерзкой и сырой. Основатель их школы, живший в середине XIX в. хореограф и балетмейстер Август Бурнонвиль, учил танцовщиков быть скрупулезно сдержанными и с презрением относиться к тому, что он называл «очевидным сладострастием» виртуозного русского балета. Молодым датчанам Рудольф казался «грязным танцовщиком. Нечистым… своего рода безнравственным».
Зато Эрик, понимая, что Рудольф еще не отшлифован, сумел оценить его потрясающую силу и мужественность. Сам способный на блестящую «пиротехнику», он всегда был более открытым, чем его соотечественники. После выпуска в 1947 г., понимая, что Дания отгородилась от достижений мирового балета, он поступил в труппу «Лондонский столичный балет», чтобы познакомиться «с другой жизнью, другими телами, другим мышлением», а через полгода принял предложение «Американского театра балета». «Нельзя сказать, что я не благодарен датскому балету, но неизвестное почему-то влекло меня больше, чем известное».
Незадолго до приезда Рудольфа Эрик, которому недоставало ощущения конкурентной борьбы, понял, что зашел в тупик. «Смотреть, как двигается Рудик, было огромным вдохновением… Именно наблюдая за ним, я сумел освободиться и попытался освоить его расслабленность». Однажды вечером, когда они с Марией разогревались на сцене, Эрик попросил Рудольфа показать им обоим русский экзерсис у станка. Однако на половине показа Эрик вдруг объявил: «Мне очень жаль, но это так трудно для моих мышц, что я вынужден уйти».
Как и все датские танцовщики, Эрик привык к короткому, твердому станку. Почти все упражнения сосредоточены на ступнях, лодыжках и икрах; выполняя их, танцовщики добиваются блеска и легкости датской техники, но почти не делают плие и фондю, глубоких, пружинистых приседаний, которые развивают и смягчают прыжки в русской технике (прыжок Бурнонвиля, когда создается впечатление, будто танцовщики почти не касаются пола, гораздо пружинистее, чем русский баллон).
После того как он травмировал колено в Америке, делая плие, Эрик боялся: если он продолжит тяжелые упражнения адажио, он не сможет в тот вечер выступать.
Хотя Рудольф понимал, почему Эрик уходит, ему все же показалось, что его третируют. «Вначале я подошел к нему с комплиментами, положил перед ним свое сердце… А он наступил на него». В присутствии своего кумира Рудольф напоминал «мальчика с сияющими глазами», и он хотел быть с ним все время. «Руди обычно сидел в гримерке Эрика и просто глазел на него, – сказала Мария. – Смотрел, как тот одевается, красится, повязывает галстук…»
Хотя вначале Эрику было лестно, такое обожание все больше его раздражало: он очень ценил свою независимость. Глен Тетли, который в то время был в Копенгагене на гастролях с «Американским театром балета», вспоминает, как однажды вечером, выпивая, Эрик заметил: «Мария просто преследует меня, как и этот русский мальчик, с которым я должен встретиться. Что ж, он может подождать!» Заказав всем еще выпивку, он сидел в баре, болтая и смеясь с Тетли и танцовщиком Скоттом Дугласом, и его своеобразный, «довольно зловещий мефистофельский» хохот был слышен во всем зале. Вдруг из зала послышался крик: «Мы увидели это дикое татарское лицо с вытаращенными глазами… Он пришел в бешенство из-за того, что мы монополизировали Эрика. Рудольф выбежал вон, и Эрик вздохнул и сказал: «Я лучше его найду». Мы со Скоттом вышли следом, и Рудольф очень холодно поздоровался с нами. Он ждал на улице. Потом они с Эриком куда-то пошли вместе».
На следующее утро, когда Мария зашла забрать Рудольфа на репетицию, его в номере не оказалось. «Я пошла в театр, чтобы подождать его, и в конце концов они с Эриком появились – с большим опозданием. Я сразу поняла, что они провели ночь вместе». До того момента все три танцовщика очень старались закрепить легкие, рабочие дружеские отношения, и в студии, где они часто вместе репетировали, между ними наладилось исключительное взаимопонимание. «Это было чудесно, – вспоминала Мария. – Мы делали друг другу замечания, мы помогали друг другу. Рудольф был особенно хорош, когда помогал мне с прыжками». В результате они стали неразлучными, образовав такое тесное трио в духе «Жюля и Джима», что, когда Марию, которая считала, что ее роль похожа на роль героини «Жюля и Джима», сыгранную Жанной Моро, пригласили на свадьбу американского посла, она долго не могла решить, кого же из спутников ей взять с собой. Но после того, как у Эрика и Рудольфа начался роман и они вместе поселились в одном отеле в центре города, положение полностью изменилось. «Мужчины все больше привязывались друг к другу, и из-за этого Эрик отталкивал меня, что меня обижало. Я ценила наш творческий союз и черпала из него много вдохновения. Я не хотела, чтобы все заканчивалось».
Каждый день превращался в битву за внимание. Когда Эрик, которого Рудольф попросил поприсутствовать на его частном уроке с Верой Волковой, увидел, что в студии их уже ждет Мария, он тут же ушел, обидев всех. В другой раз, когда Рудольф сказал Марии, что они с Эриком хотят пообедать наедине, она устроила большой скандал, угрожая уехать из Копенгагена, если они не возьмут с собой и ее. Потом был вечер в доме у Эрика, когда Рудольф решил, что Эрик уделяет слишком много внимания Марии. Объявив, что он возвращается в отель, Рудольф вышел в прихожую и вызвал такси, удивив двух своих друзей владением английским. «В то время в Копенгагене я часто приходила в замешательство, – написала Мария в мемуарах. – Несмотря на всю его браваду, поладить с Рудольфом было легко. Он не уединялся. Зато Эрик манипулировал всеми, и я не понимала, какую цель он преследует. Находясь между ними, я никогда не могла понять, кто из них кем управлял». «Оглядываясь назад, – заметил Эрик в интервью Джону Грюэну, – я понимаю, что для нее то время было нелегким, и мне тоже пришлось нелегко. И конечно, то время оказалось очень сложным для Рудика».
И с профессиональной точки зрения тот период для Рудольфа отличался большой неуверенностью, потому что он не знал, что будет делать дальше. Ему очень хотелось покинуть труппу де Куэваса, где, как ему казалось, с ним обращались «как с уродцем или с диковинкой», но в конце сентября, когда его отпуск закончился, оказалось, что больше ему возвращаться некуда. «Должно быть, ему ужасно было наблюдать, как мы с Эриком репетируем, готовясь к спектаклям. Мы имели большой успех… а он испытывал большую грусть и одиночество. Только уроки у Волковой давали ему чувство цели». Дважды в день Рудольф занимался с Волковой, оригинальной личностью; в ее речи английские разговорные обороты накладывались на звукоподражание и яркую жестикуляцию, к которой она прибегала, добиваясь нужного эффекта. «Ты должен со сви-и-истом выбросить ногу!» – требовала она перед ассамбле, или, если он неправильно ставил рабочую ногу в аттитюде: «Ты обнимаешь такой красный английский столб [почтовый ящик цилиндрической формы]. Ты должен обнимать газовый фонарь!» Ученица Вагановой и Николая Легата, Волкова была первой, кто преподавал на Западе методику Кировского театра. В труппе «Датский королевский балет» ее очень уважали. Она вела там занятия уже десять лет. Когда она приехала, труппа застыла в своем развитии; танцовщикам, хотя крайне одаренным и прекрасно вымуштрованным, недоставало размаха, потому что у них не было опыта в других стилях помимо пестуемой романтической школы Бурнонвиля. «Она привнесла с собой русскую школу и как-то чудесным образом приспособила ее для нас, потому что мы по-прежнему могли хранить наше наследие», – говорит балерина Кирстен Симоне.
Однако Рудольф на том этапе расстроился из-за того, что пришлось вернуться к обучению, как в Кировском театре, – не ради этого он приехал учиться в Копенгаген. «Я не мог понять, зачем я там. Это было очень странно». Он-то надеялся, что Волкова поможет ему соединить динамизм русского балета с легкостью и точностью «Датского королевского балета», но понял, что он гораздо больше, чем Волкова, знает о методике вагановской подготовки. Когда Волкова училась в Санкт-Петербурге, Агриппина Ваганова только начинала формулировать свой метод преподавания и лишь позже, в основном под влиянием поэтической хореографии Фокина, выявила плавный, типично русский способ гармонизации всего тела в движении. «У нее [Волковой] была основа школы. Начало алфавита… Только первая буква».
Эрик, который считал себя многим обязанным Волковой, возмущался, когда Рудольф, наблюдая за занятиями в классе, то и дело повторял: «Это неправильно… это не по-русски!» – и пытался объяснить, что сделать то или иное па можно по-разному, не одним способом. Так же критично он подходил и к чисто датскому стилю, находя его «довольно скучным. Очень сухим, очень мелким, довольно пустым». Хотя ему нравились скорость, сложность и живость комбинаций, он замечал недостаточную легкость адажио и виртуозных пируэтов, а также видел па, которые «он не имел желания исполнять». Зато он восхищался тем, какое важное место Бурнонвиль отводил мужчине-танцовщику. В его па-де-де пара часто исполняла одни и те же вариации бок о бок; поэтому партнер служил не просто «подставкой» и «носильщиком» для балерины. Мужчина иногда затмевал партнершу силой и виртуозностью. Вера Волкова, особенно блиставшая в подготовке молодых звезд-мужчин (среди них будет и Петер Мартинс), много сделала для того, чтобы датский балет зазвучал мощнее и современнее. Впрочем, Рудольфу ее влияние не казалось достаточно очевидным. «Я каждый день выполнял одни и те же упражнения. Их показывали разные педагоги – те же упражнения, те же па, те же комбинации».
Та же навязчивая одержимость учебной техникой в свое время вынудила Эрика покинуть Копенгаген, потому что он желал стать другим, и с тех пор он не переставал нарушать границы своего вида искусства. «Я так хочу зайти за пределы всего, что считается правильным, – признавался он Рудольфу. – Ощущать, что я танцую, а не работаю». Вернувшись из Америки, Эрик попытался научить своих коллег, как можно оживить и «разыграть» их классическую базу, не теряя присущей ей чистоты, но, по мнению Рудольфа, преуспел в этом он один. «Когда Эрик танцует – это не столько Бурнонвиль, у него есть понимание… У него все живое». Для него каждый взгляд на Бруна в классе или на сцене превращался в наглядное пособие, возможность изучить мужской балет в его зените.
Учился он и у Веры Волковой, но в основном за пределами студии, у нее дома. Напомнившая ему о детских наставницах, Войтович и Удальцовой, Волкова также происходила из семьи белоэмигрантов. Ее отец был гусарским офицером, выросшим в красивом доме на набережной Невы. В начале Первой мировой войны Веру и ее сестру отправили в Одессу с гувернанткой-француженкой, но там они были предоставлены сами себе. Питаясь сухими грибами, которые они нанизывали на нитки и носили на шее, они добрались до Москвы, где жили с другими беженцами на вокзале. Наконец они встретились с матерью в Петрограде. В 1929 г. Волкова танцевала в ГАТОБ (Государственном академическом театре оперы и балета), как тогда называли Театр имени Кирова. Когда театр поехал на гастроли во Владивосток, она бежала за границу. Она собиралась поступить в антрепризную труппу «Русский балет» Дягилева, но, узнав о смерти Дягилева, решила обосноваться в Шанхае. Там она танцевала в труппе, образованной русским эмигрантом Георгием Гончаровым, и преподавала в его школе (среди первых учеников Волковой была Пегги Хукем, одаренная 13-летняя девочка, которая вскоре выйдет на лондонскую сцену под именем Марго Фонтейн).
Волкова любила вспоминать свою юность, а Рудольф с удовольствием ее слушал, но больше всего привлекали ее рассказы о жизни на Западе. В 1937 г. она перебралась в Лондон с мужем, английским художником и архитектором, открыла студию на Уэст-стрит, куда во время войны приходили ведущие английские танцоры и все гастролирующие зарубежные звезды. Фредерик Аштон, которому Волкова помогала вернуть форму после службы в армии, считал, что она больше других вдохновляла его после Нижинской, а Фонтейн, разработавшая собственный стиль в одежде по мотивам «балетного шика» Волковой, так же благоговела перед ней, как в детстве. Когда Волкова начала преподавать в труппе и училище театра «Сэдлерс-Уэллс», в основном благодаря поставленным ею техническим и художественным стандартам труппа добилась международной известности. Ее влияние оказалось важнейшим в разработке «фирменной» роли Фонтейн – Авроры, а также послевоенного шедевра Аштона, «Симфонические вариации». Нинетт де Валуа предлагала Волковой постоянное место балетмейстера, однако поставила условие, чтобы Волкова закрыла свою студию на Уэст-стрит, что Волкова сделать отказалась. (В результате предложение было отозвано, а артистам труппы запретили посещать уроки у Волковой.) В 1950 г. Волкова решила принять приглашение стать художественным руководителем в труппе «Датский королевский балет», «к вечному позору англичан, у которых она была, но которые ее отпустили».
И в Копенгагене Волкова по-прежнему оставалась движущей силой; она поддерживала связь с Фонтейн и поручила Аштону создать для датчан новый балет: его постановку 1955 г. «Ромео и Джульетта». Как-то вечером за ужином в ее доме с Рудольфом, Эриком и Марией друзья обсуждали будущее Рудольфа – «Мы все любили Руди и беспокоились из-за того, как он пал духом», – когда Волкова предложила рекомендовать его в «Королевский балет».
По совпадению, в то время сама Марго Фонтейн решила связаться с Рудольфом. Как президент школы при «Королевском балете», она отвечала за приглашение звезд на ежегодный благотворительный дневной спектакль. Необходимо было найти замену Галине Улановой, и Колетт Кларк, также входившая в число организаторов мероприятия, посоветовала ей пригласить молодого «невозвращенца» из Кировского театра. Дочь видного историка искусства сэра Кеннета Кларка, Колетт была страстной балетоманкой, которая необычайно живо чувствовала танец. Ее брат-близнец Колин Кларк незадолго до того женился на Виолетт Верди и был в таком же восторге от парижских спектаклей с участием Рудольфа.
Желая услышать независимое мнение, Фонтейн решила посоветоваться со своими друзьями Найджелом и Мод Гослинг, которые тоже видели Рудольфа на сцене. Супруги, которые вместе писали в The Observer критические статьи о балете под псевдонимом Александр Бланд, в июне ездили в Париж, чтобы сделать предварительный репортаж о труппе Кировского театра до начала лондонских гастролей, и на «Спящей красавице» «просто подскочили» при появлении принца. «Даже походка отличала его от всех остальных». Хотя они точно не помнили, как его зовут (имена в программках Кировского театра редко соответствовали исполнителям на сцене), Гослинги вернулись в Лондон и рассказывали всем знакомым – в том числе Дэвиду Уэбстеру, генеральному администратору театра Ковент-Гарден, – о сверхъестественном молодом русском. «Попробуй получить этого парня, – советовали они. – Он сейчас гуляет по Парижу, и он просто чудо». Но к тому времени Рудольф стал «невозвращенцем», и приглашение стало невозможным. Уэбстер предупредил их, чтобы они не имели с Нуреевым никаких дел. «Через несколько недель мы едем в Москву и Ленинград. Если мы свяжемся с ним, если даже упомянем его имя, русские нам откажут». Уэбстер был не единственным представителем английского балетного истеблишмента, который считал отношения с Рудольфом рискованными. Видный критик Арнольд Хаскелл в письме, опубликованном в августовском номере журнала The Dancing Times, распространялся о «печальной истории» с побегом Нуреева. Танцовщик, по его словам, не только «предал» учреждение, выучившее его, но и подверг риску будущий культурный обмен между Россией и Западом. В ответной статье, которая вышла в следующем номере под заголовком «В самом деле печальная история!». Найджел Гослинг защищал право Рудольфа на свободу. Ему вторил еще в одном письме критик Джеймс Монахан[34]. Фонтейн, также не понаслышке знакомая с политическими скандалами, осталась безучастной к противоречивым слухам, ходившим вокруг Нуреева, и, убежденная в его уникальности, твердо решила добиться его участия в спектакле. Поручив Колетт Кларк передать ему предложение, она в последующие две недели тщетно разыскивала Рудольфа по телефону. Наконец, услышав, что он в Копенгагене, она случайно позвонила Вере Волковой в тот вечер, когда он был у нее. Начались переговоры; две звезды общались через Веру и Колетт. Вначале Марго сообщили: Нуреев в том месяце не может приехать в Лондон, чтобы обсудить концерт, потому что у него не хватит денег на проезд. Это не было отговоркой. По словам импресарио Пола Силарда, который видел контракт Рудольфа с труппой де Куэваса, жалованье Рудольфа было «анекдотическим». Снова посоветовались с Гослингами, и в результате в The Observer согласились купить танцовщику билет в обмен на эксклюзивное интервью.
Отвечая на следующее опасение Рудольфа – что его визитом воспользуется пресса («Они всюду за мной следят… это ужасно»), Фонтейн заверила его, что поездка останется в тайне даже для театра Ковент-Гардена. В принципе Рудольф согласился выступить в декабре на благотворительном концерте, но только если сама Фонтейн станет его партнершей. Со студенческих лет он мечтал станцевать с Марго Фонтейн. Даже по фотографиям он видел, что она воплощает тот тип сдержанного классицизма, которым он восхищался – элегантный, безупречный и в то же время согретый лирической красотой. Однако Фонтейн, которая в то время ничего не знала о Рудольфе, отказалась обсуждать какие-либо условия танцора вдвое моложе себя. «Я подумала: ладно, я никогда не видела этого мальчика… почему он настаивает, чтобы я танцевала с ним?» Рудольфу передали, что Фонтейн рада будет принять его в Лондоне как своего гостя, но танцевать вместе они не могут: у нее уже есть партнер. «Руди очень расстроился, – вспоминает Мария Толчиф. – Когда он показал мне телеграмму, в глазах у него стояли слезы. А я сказала: «Поверь мне, Руди, как только Марго тебя увидит, она уже не захочет танцевать ни с кем другим».
