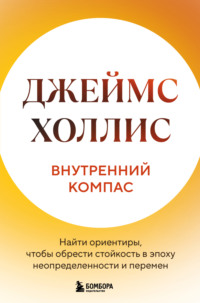Czytaj książkę: «Внутренний компас. Найти ориентиры, чтобы обрести стойкость в эпоху неопределенности и перемен», strona 3
Глава 2. Когда к середине жизни все рушится
В этой главе мы рассмотрим, почему иногда все кругом рушится, а наша система координат перестает работать. Часто истории, которые мы так усердно оберегали, которым были верны, перестают служить нам. Бывает, что нарисованная нами карта мира, по которой мы до сих пор, может быть, и неплохо ориентировались, уже не годится.
Система координат сбита
Когда в середине жизни я вернулся с тренинга школы Юнга в Цюрихе и начал частную практику в США, я имел дело с самыми разными мужчинами и женщинами в возрасте от тридцати до шестидесяти пяти лет. Я начал замечать, что, несмотря на то что все они приходили с разными проблемами, каждый из них сочинил для себя множество историй. Каждый видел себя и мир вокруг по-разному, но у них у всех было нечто общее.
Их мировоззрение, их понимание самих себя и окружающей реальности, их чувство идентичности, возможно, даже их цели и мечты – все это исчерпало себя. Что-то угасало, но на смену этому распадающемуся мировоззрению еще ничего не пришло. Человек находился в мучительном промежуточном состоянии: застряв между тем, что казалось очевидным, и тем, что на самом деле проступает через тревогу… Между тем, кем человек был, и тем, что стремится проявиться через него.
Одна из моих клиенток, сорокалетняя женщина, была обеспокоена тем, что у нее может быть смертельная болезнь. Внешне ее жизнь казалась вполне удачной: ее младший ребенок уже повзрослел, все было спокойно и стабильно. Но чего-то не хватало. Она рассказала мне о сновидении, которое ее сильно тревожило.
Во сне женщина готовится к первому сеансу терапии, но у нее на голове старомодные бигуди. Терапевт должен прийти к ней в больницу, и она не хочет, чтобы он видел ее с бигуди (то есть понял, что происходит у нее в голове). Пока она ждет, к ней подходит родственник и очень ласково говорит: «Джоанн, пришло время умирать». На что она отвечает: «О, хорошо». И на этом сон заканчивается.
Во сне женщина принимает это известие о том, что пришло время умирать. Логично, что с позиции ее эго беспокойство сводилось к тому, что она могла быть неизлечимо больна. Я сказал ей: «Что ж, неизлечимая болезнь может быть у каждого из нас, но, скорее всего, она проявится не раньше чем через несколько десятилетий». В сорок лет, при хорошем здоровье, у женщины не было оснований полагать, что она физически больна. Она восприняла концепцию смерти буквально, вместо того чтобы увидеть в ней символ. Эго часто попадает в эту ловушку, поэтому нам так сложно интерпретировать собственные сны.
Когда мы внимательно рассмотрим эту тенденцию, то увидим естественную амбивалентность, которую мы испытываем по отношению к самоанализу. Сон моей клиентки подпитывал ее тревоги. Со мной что-то не так? Я больна? Мне нужно в больницу? Что подумают другие, если узнают, о чем я на самом деле думаю? А если осудят? Но затем все это затмил приход родственника, который сообщил ей о скорой смерти, и ее покорным принятием этого известия. Важно, что, судя по воспоминаниям клиентки, именно этот родственник во всей их большой семье чаще всего поддерживал ее и всегда вставал на ее сторону.
Сначала давайте на миг остановимся и восхитимся остроумием психики женщины: для важного послания был выбран человек из прошлого, который всегда поддерживал рост и самовыражение, а не поощрял воспроизведение общепринятых ролей и соответствие чужим ожиданиям. А послание было такое: «Что ж, как раз вовремя – тебе сорок. Отмирают твои прежние конструкты, твое понимание себя и мира, сценарии и истории, данные тебе твоей культурой, которые ты умело проживала. В то же время ты уже различаешь потребность в росте, призыв к чему-то большему. Не ты должна умереть, а твоя связь с историей, которая больше не имеет смысла».
Ложная или временная самость
Когда я начал слышать все больше описаний подобных снов, наблюдать за тем, как люди проживают этот сложный возрастной период, я понял, что это и есть переход. Во время перехода что-то завершается, исчерпывает себя, и человек оказывается в подвешенном состоянии, он испытывает определенные трудности. В древних культурах существовали обряды перехода, которые не позволяли человеку «рассыпаться» в этот непростой период. Они давали некую мифологическую, теологическую или психологическую рамку, которая помогала человеку пересобрать себя по другую сторону пропасти. Иногда преодоление этой пропасти может занять не дни, часы или недели, как нам хотелось бы думать. Это могут быть тяжелые годы промежуточности. Но в то же время что-то внутри нас запустило этот процесс – потому что так психика хочет расти, меняться, изжить старые ограничивающие представления – отказаться от приспособленчества ради развития.
Это как рак, который сбрасывает старый панцирь несколько раз в год. Если он не сбросит панцирь, то умрет внутри – старая оболочка сковывает слишком сильно и не позволяет жить дальше. Но пока рак не нарастит новый панцирь, он необычайно уязвим, находится во власти окружающего его мира. Вот что мы чувствуем при расставании с историей, которая, вероятно, все это время вела нас. Обычно переход выпадает на середину жизни, когда человек начинает изживать старые сценарии, понимать, что они приводят к внутреннему разладу. Отметим, что не стоит воспринимать середину жизни исключительно хронологически. Переход часто выпадает на четвертое десятилетие нашей жизни просто потому, что к этому времени мы проживаем большую часть наших историй, будучи уже взрослыми. Когда мы покидаем родительский дом, мы сталкиваемся с большим миром. Мы думаем: я знаю, кто я. Я не собираюсь повторять ошибок своих родителей. Я выберу правильного человека, чтобы создать с ним семью. Я построю правильную карьеру. Я буду вести правильный образ жизни.
После того как мы какое-то время поживем с последствиями каждого выбора – десять, двадцать, двадцать пять лет, – наши сильные и слабые стороны проявятся в форме различных противоречивых симптомов. К этому моменту, хотелось бы надеяться, мы также достаточно осознаем свое эго, чтобы суметь взглянуть на свою жизнь со стороны и понять, что работает, а что нет. Поговорите с двадцатилетним или двадцатипятилетним человеком и попросите его критически оценить свою жизнь. Почти никто не способен на это. Дело не в интеллекте или желании. Дело, с одной стороны, в достаточно сильном эго, а с другой – в том, что чем длиннее жизненный путь, тем больше предоставляется поводов порефлексировать. Можно, конечно, представить себе мемуары двадцатипятилетнего человека, но, скорее всего, в пятьдесят или семьдесят пять его книга воспоминаний вышла бы поинтереснее.
Недавно я читал о человеке, который всю свою сознательную жизнь проработал на автомобильном заводе в Огайо, а потом завод закрылся. Он сказал: «Я больше не чувствую, что существую. Завод был всей моей жизнью». Я это понимаю. Его роль была его историей. Его роль была его жизнью, и он лишился всего из-за проблем в экономике. Когда этой истории пришел конец, он был совершенно сбит с толку, все, что он считал своей жизнью, оказалось разрушено.
Для других людей поводом полностью переосмыслить жизнь может стать утрата – смерть супруга, развод, приближение старости, болезнь. Так или иначе, какой бы триггер, внешний или внутренний, ни запустил этот процесс, каждый из нас может столкнуться с этими вопросами. Кто я вне моих ролей? Кто я без моего прошлого? Кто я за пределами моих историй? Куда мне идти? Какими картами пользоваться? Каким историям я подчинюсь? Помните, мы уже разбирали это в предыдущей главе: все мы накапливаем истории, которые объясняют нам этот мир. Кто человек перед нами? Кто я такой? Как нам взаимодействовать? Опасен ли этот мир? Как мне не заблудиться на этом трудном пути под названием «жизнь»? Отвечая на эти вопросы, мы создаем то, что британский психиатр Дональд Вудс Винникотт называл «ложная самость». Ложная не потому, что мы лживы и лицемерны, а потому, что она адаптивна, она берет начало вовне, а не внутри нас.
Наша ложная самость, своеобразное временное «я», является результатом усвоения детских посланий, детских историй. При столкновении с естественной, спонтанной, основанной на инстинктах самостью, которая желает перемен, мы понимаем, что что-то за пределами нашей временной личности жаждет быть услышанным. Что-то иное, какая-то независимая сила внутри нас стремится пробудить нашу ответственность.
Я хорошо помню первый сон, который приснился мне, когда я в возрасте тридцати семи лет начал заниматься психоанализом в Цюрихе. Это был типичный сон человека, находящегося на середине жизненного пути. Незадолго до того, как начать обучение, я со своей семьей посетил средневековый замок. Итак, мне снится, что я рыцарь, стоящий на крепостной стене осаждаемого замка. Тучи стрел летят в нашу сторону. Я чувствую неподдельное беспокойство. Устоит ли замок? Достаточно ли прочны и высоки крепостные стены, чтобы спасти нас от стрел?
В то же время я понимаю, что кто-то вдалеке, на опушке леса, руководит осадой. Кто-то напоминающий ведьму. Что же все это означает? Что делает ведьма в Швейцарии, в моем сне середины жизни? Заканчивается сон серьезным чувством тревоги. Устоит ли замок? Это был сон словно из учебника по психологии. Классический сон человека среднего возраста, иллюстрирующий идею, что наши истории, наше понимание себя и мира стали нашей крепостью, нашим замком, нашей защитой. Мы не могли не возвести крепостных стен, вот что важно. Но что-то внутри нас может погибнуть, стесненное этими стенами. Я помню, как мой психоаналитик сказал мне: «Что ж, теперь нам нужно опустить подъемный мост, выйти и поговорить с этой ведьмой, чтобы понять, почему она так зла на тебя. Что стало причиной осады?»
Помню, я подумал о двух вещах. Во-первых: ты что, с ума сошел? Она же пытается убить меня. Это очень опасно. А во-вторых: ну что ж, я ведь уже оказался здесь. Не бросать же на полпути. Давай попробуем! Тогда мы пустили в ход все свое воображение, чтобы опустить подъемный мост, выйти на улицу и встретиться с ведьмой. Это было началом долгого-долгого диалога с частью моей собственной души, моей психики. Конечно, я говорил с позиции эго, которое и было мной во сне, но и мой собеседник тоже был частью меня. Эго редко видит это: ведьма воплощала в себе какую-то сторону, какую-то часть меня самого, и мне нужно было научиться лучше понимать ее. Это был типичный сон человека, прожившего жизнь до середины; точь-в-точь как сон моей клиентки, чей любимый родственник сказал ей: «Пришло время умирать». Мы оба чувствовали, что наше временное «я», наше понимание себя и мира под угрозой, что мы в осаде.
Каждый из нас сталкивается с похожим процессом рано или поздно. Это не значит, что нужно непременно начать терапию. Это даже не обязательно будет осознанный процесс, но он все равно будет протекать где-то в подсознании. Потому что сложно представить, что сконструированные человеком истории будут служить ему защитой и упрощать мир до понятных паттернов и одновременно воплощать истинные стремления его души на протяжении многих десятилетий в меняющихся обстоятельствах. Где-то возникнет противоречие, столкновение. Оно неизбежно. И, хоть иногда этот конфликт скрыт, он где-то в подсознании, в «подвале», беспокойство начинает просачиваться «сквозь половицы» – проявляются тревожные симптомы. Человек вроде бы делает все «правильно», но это больше не приносит удовлетворения. Или он добился всех поставленных целей, но и это не принесло покоя. Или внутренний конфликт и беспокойство начинают проникать в его отношения (с детьми, со спутником жизни или с коллегами), создавая там сложности. В такие моменты человек начинает осознавать, что изнутри пробивается что-то новое и игнорировать это дольше нельзя.
Именно в этот момент мы должны отследить симптомы и спросить себя: «Хорошо, откуда же они берутся?» Как я писал в предыдущей главе, симптомы – это протест, возражения нашей психики, нашей души. В данный момент человек может не чувствовать этого, тогда для него вполне естественно спросить: «И как можно побыстрее избавиться от этих симптомов? Есть подходящая техника или медитация?»
Но здесь нам нужны другие вопросы. Что внутри меня желает проявиться? Чем я пренебрегаю, что подавляю, дроблю, от чего отказываюсь? Что там, внутри, хочет говорить со мной? Обычно мы не задаемся этими вопросами, пока симптомы не станут достаточно выраженными. По моему опыту, это депрессия, кризис среднего возраста. Впоследствии я пришел к выводу, что депрессия такого рода – это решение психики прекратить поддержку и одобрение наших действий, перерезать сообщение с теми частями нашей личности, которые подпитываются историями. То, что ощущается как патологический процесс – нечто болезненное и разрушительное, – оказывается поиском новой жизни, роста, развития. Мне потребовалось время, чтобы осознать это, и внимательный взгляд на переход, который мы называем срединным. Это некий перевал в середине пути от юношества к взрослой жизни и далее к старению и смерти (о чем мы поговорим в следующих главах). На каждом отрезке пути что-то отмирает и что-то нарождается. Это всегда дверь в новый мир, но, прежде чем ступить за порог, нужно прожить трудный промежуточный период неуверенности, неопределенности.
За порогом нас ждет три неминуемых встречи. Первая – со своим предназначением. Вторая – с нашей обновленной самостью, которую нужно будет сконструировать заново и которая изменит наш взгляд на мир. Третья – с непостижимым.
Судьба, рок или предназначение
Итак, встреча с предназначением. В Древнем мире существовало значительное различие между понятиями судьбы, рока и предназначения. К сожалению, сегодня мы часто путаем эти слова, делаем их синонимами, хотя на самом деле они существенно различаются.
Судьба, или рок, представляет собой обстоятельства и условия, в которые мы брошены и над которыми не имеем власти: наша семья, тело, ДНК, время и место, а также формирующие нас мощные внешние влияния. Древнегреческое слово для обозначения судьбы – µοῖρα – «часть, доля, данная при рождении». В древности люди верили, что каждому человеку боги даровали определенное предназначение.
Другое слово, προορισµός – «предназначение, назначение, цель», – это то, что может быть пробуждено в человеке, возможности, скрытые внутри каждого из нас. То, что греки называли «трагедия», не означало просто что-то ужасное – для этого существовало другое слово – καταστροφή. Трагедия возникает, когда судьба и предназначение сплетаются и сталкиваются с характером человека, и все вместе это определяет контуры и формирует содержание его жизни.
Конечно, бывают моменты, когда судьба, рок берет верх над предназначением, например детское заболевание, инвалидность или даже смерть. Такие серьезнейшие судьбоносные события способны свести на нет любое влияние предназначения. Но обычно все же есть пространство, где человеческая личность может проявить себя, сыграть какую-то роль. Какова же роль осознанности, мужества и ответственности в переплетении судьбы и предназначения? Судьба, рок и предназначение – это своеобразные силовые полюса, хранящие баланс в жизни людей на протяжении веков. Одновременно любая философия и религия, любые законы едины во мнении, что человек сам несет ответственность за свои действия. Противоречиво? Мы ли в ответе за то, как сложится наша жизнь? Да.
Древние греки представляли, что человеческая личность рождается из взаимодействия трех элементов: χαρακτήρας, ύβρις и ἁµαρτία «ошибка», «изъян».
Первый включает в себя наши скрытые склонности, которые могут меняться, в том числе под влиянием культуры, но обычно являются врожденными. Часто мы можем различить ядро личности человека с самого детства и, встретив его спустя десятилетия, распознать те же черты. Это древние греки и называли χαρακτήρας – характером. Первоначально это слово означало «царапины, метки», далее «пометки на грифельной доске». Характер – это совокупность склонностей, сформировавшихся в раннем возрасте.
Второй элемент, ύβρις – «высокомерие, напыщенность», – обозначает склонность эго (даже в те далекие времена) кичиться, надуваться, как бы говоря: эй, я знаю, кто я есть. Я здесь главный. Я всем заправляю. Многие персонажи древнегреческих трагедий приписывали себе власть, которой в действительности не обладали. Они пересекали невидимые линии, начертанные богами, и тем самым запускали череду трагических событий. Этот элемент проявляется, когда человек уверен, что никогда не совершает ошибок. Но мы не можем знать всего о силах, влияющих на нашу жизнь.
Третьим элементом является ἁµαρτία, что иногда переводят как «порок, изьян, недостаток, способный привести к трагедии». Однако я называю это призмой предвзятости. Все мы видим мир через призму собственного опыта. Бертран Рассел, объясняя философские понятия Канта, писал: «Если вы всегда носили голубые очки, вы могли быть уверены в том, что увидите все голубым»5. Мы не видим мир таким, каков он на самом деле. Мы видим его через призму. Наши истории, наша культура, наша физиология, наша эмоциональная жизнь – все это шлифует призму, через которую мы смотрим вовне, по-своему искажает наше отношение к реальности, определяет, как мы видим мир и как мы видим самих себя. А ведь эта постоянно меняющаяся призма – то, на чем основаны все наши решения.
Сочетание трех элементов дает нам очень сложную психологию и одновременно понимание того, как можно отправиться в мир с наилучшими намерениями, двигаясь к определенной цели, а в итоге оказаться непонятно где.
Иногда люди чешут в затылке и спрашивают себя: «Как я оказался в таких отношениях?» Или: «О чем я только думал, когда выбирал эту профессию?» Или: «Что повлияло на это судьбоносное решение?» А иногда люди даже не утруждаются задать себе эти вопросы и продолжают совершать те же самые ошибки снова и снова. Но от каждого из нас требуется осознать ограничительную роль, которую рок играет в нашей жизни, и в то же время с почтением отнестись к предназначению, стремящемуся раскрыться через нас. Можно сказать, что предназначение каждого человека – служить собственной самости, потому что именно она является трансцендентной частью каждого из нас, она критикует наши адаптивные паттерны. Конечно, наше эго пытается облегчить нам каждый из важных жизненных перевалов, в том числе тот самый переход середины жизни. Но иногда цена такой легкости – искажение цели всей нашей жизни, нашего высшего призвания.
Ложная самость во снах
Мудрость Древнего мира говорит нам, что каждому уготована встреча с предназначением. Получится ли на этой встрече быть самим собой, насколько это возможно при тех ограничениях, внешних и внутренних, которые жизнь накладывает на нас? На этой встрече наша тревожность, наши работающие годами системы защиты немедленно запустят устаревшую программу адаптации, чтобы избежать риска жить полноценной жизнью.
Карл Юнг однажды сказал: «Мы все ходим в обуви, которая нам мала». Этой несложной метафорой он хотел сказать, что у каждого из нас непременно есть адаптивные, защитные паттерны и истории, но они ограничивают нас на пути за своим предназначением. Как уже было сказано, у всех нас есть своего рода феноменологическая призма, через которую мы видим мир. Другими словами, мир – это грандиозный феномен, но наше феноменологическое восприятие не осознанно, а основано на опыте и в высшей степени субъективизировано. Именно такое восприятие ведет к формированию ложной самости – совокупности поведенческих моделей, установок и рефлекторных реакций, которые мы используем, чтобы удовлетворить свои потребности, управлять тревогами, насколько возможно, и справляться с теми экзистенциальными угрозами, о которых я упоминал в предыдущей главе. Все это порождает наше архаичное временное ощущение самости, основанное на искаженной интерпретации себя и мира, которое мы в детстве, не имея достаточных ресурсов, вынуждены были сконструировать.
Позвольте привести еще один пример. В Цюрихе я познакомился с британским аспирантом. Ему было около сорока, он жил в Германии, изучал немецкий язык и литературу, хотел вернуться в Великобританию и продолжить там карьеру ученого. Ко мне он пришел с двумя проблемами. Первая – депрессия средней степени тяжести, которая сопровождала его большую часть жизни и которая не мешала ему функционировать, но, безусловно, лишала его возможности получать удовольствие от жизни. Вторая – трудности в выстраивании личных отношений.
Ему приснился очень образный, символичный сон, иллюстрировавший сразу обе проблемы. Во сне он находится в Великобритании (хотя наяву он был в Цюрихе), и они с родителями отправляются в отпуск. Они уезжают из Лондона в сельскую местность. Когда они въезжают в деревню, мой клиент видит «крестьян» (он так назвал их), работающих в поле. Он указывает на них своим родителям и с серьезностью в голосе произносит: «Видите? Вот настоящие люди». Семейство едет дальше. Затем они останавливаются в небольшой гостинице пообедать. Возвращаются в машину, едут дальше, день угасает, начинает темнеть.
Клиент и его родители доезжают до конца дороги. Вокруг них ни следа цивилизации. Они выходят из машины и направляются в лес. Становится все темнее. Им неуютно и страшно. Но затем вдалеке они видят свет и слышат какие-то звуки. Подходя ближе, люди улавливают звуки музыки, доносящиеся из-за деревьев. Пройдя еще немного, они, к своему удивлению, видят большой особняк посреди леса. Неожиданно отец говорит аспиранту: «Здесь жил Китс»6. Аспирант отвечает: «Нет, нет, не может быть. Он жил в Лондоне и никогда сюда не приезжал». На самом деле так и было, но во сне они подходят поближе к дому и, конечно же, видят бронзовую табличку с надписью «Дом Китса». Они входят и видят сцену в центре зала. На сцене идет представление. Зрители сидят не на стульях, а на полу. Героям делают знак пройти вперед и тоже сесть на пол, что они и делают. Аспирант осознает, что все это сопровождается драматической музыкой. Оказывается, идет балет по мотивам «Сна в летнюю ночь». Аспирант наслаждается звуками музыки и танцем, и вдруг одна из балерин подходит к нему, берет его за руку и ведет на сцену. Он сопротивляется, но она втягивает его в круг танцоров.
Они начинают танцевать, и в этот момент раздается телефонный звонок. Аспиранту выносят телефон прямо на сцену, он очень смущен. Звонит его мать. Оказывается, ее заперли в туалете в гостинице, где они останавливались пообедать. Мать в ярости и настаивает, чтобы сын вернулся за ней. Он зол, потому что меньше всего на свете ему хочется уходить с этого спектакля, от пригласившей его на танец балерины, и все же он не может отказать матери. Сон заканчивается невыносимым чувством разочарования и мыслью: «Я должен вернуться и позаботиться о ней».
Давайте на секунду остановимся и задумаемся. Кто мог выдумать такое? Сон неоднозначный, запутанный, полный ассоциаций. Вероятно, вы уловили некоторые подтексты этого сна, а также личные ассоциации сновидца. Людям могут сниться одни и те же образы, одна и та же история, но они имеют совершенно разное значение в зависимости от наших ассоциаций. Если вам снится ваша бабушка, а мне – моя бабушка, то это разные бабушки, разные ассоциации. Образ бабушки у каждого будет разным.
Возвратимся к аспиранту. Одной из причин, по которой он уехал учиться за границу, было желание покинуть семью, которая постоянно доминировала над ним. Сон возвращает его в Лондон, где все началось. Другими словами, мы можем сбежать, но нам не скрыться. Все, что мы хотим оставить позади, остается с нами. Во сне семья покидает мир эго, мир осознанного, мир городской жизни. Они отправляются в мир природы и все большего присутствия естественного, бессознательного.
Вспомните фразу аспиранта о том, что где-то есть «настоящие люди». Он всегда чувствовал себя скованным, чувствовал, что его жизнь в некоторой степени искусственная. Но в жизни разума нет ничего плохого. Она богата и чудесна.
В то же время клиент понимал, что этот выбор исключал другие аспекты его личности и призвание к более разнообразной жизни. Таким образом, крестьяне обрабатывали поля – так сказать, работали на благо Великой Матери Земли, природы, – и их труд приносил плоды. Они были более реальны, чем он. Потом он и его родители отправились в лес. Как вы знаете, лес – это один из основных символов в толковании сновидений и мифологии, символ неизведанного, бессознательного. Конечно, мы помним первые строки «Божественной комедии» Данте:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу.
Я спросил аспиранта: «Что значило уверенное и громкое заявление вашего отца о том, что это дом Китса?»
Он ответил: «На самом деле отец бы, конечно, не узнал дом Китса, но во сне он понял это».
«Итак, какая здесь скрыта ассоциация? – спросил я. – Почему “режиссер” вашего сна на кастинге отобрал именно Джона Китса, поэта XIX века?»
«Думаю, потому, что он так мало прожил; он умер, когда ему было всего двадцать пять. У Китса была слишком хрупкая связь с жизнью. На надгробной плите поэта выбиты его слова: „Здесь покоится тот, чье имя было начертано на воде” – так он описал свое мимолетное прикосновение к жизни».
То же чувствовал аспирант: его связь с миром казалась ему непрочной, ее поддерживала только его способность мыслить. Я спросил: «Как вам кажется, почему именно ваш отец во сне узнает дом Китса?»
Аспирант не задумываясь ответил: «Потому что отец тоже не живет по-настоящему».
«Чем же он живет?» – спросил я.
«В основном пытается заботиться о матери. Это его работа», – ответил аспирант.
Мы можем многому научиться, проанализировав такого рода ассоциации. Ребенок перенял роль отца, это стало и его работой. Итак, в лесу, то есть в подсознании, находится этот величественный особняк, который снова наводит на мысль о центре личности, о самости, и о том, насколько богатой и ценной она могла бы быть. Аспирант приглашен во внутренние покои и, более того, приглашен на танец жизни. «Сон в летнюю ночь» ассоциировался у него с joie de vivre – с радостью жизни. И вот посреди веселого танца жизни его старый комплекс звонит ему и вырывает его оттуда.
Всякий раз, когда во сне раздается телефонный звонок, можно быть уверенным, что на другом конце провода комплекс, который уводит человека к старым ценностям, тянет назад. Во сне аспирант, конечно, в ярости. Но в то же время сила требования матери настолько велика, что он чувствует, будто у него нет другого выбора, кроме как остановить танец жизни и вернуться к удовлетворению ее нарциссических потребностей. Он выучился этому в детстве.
Так зачем же он пришел в терапию? Из-за своей депрессии. Его история, которую он постоянно носил в себе, угнетала его, ограничивала, не давала развиваться; конечно, это вело к депрессии. Эта история обладала такой силой, что продолжала вырывать его из близких отношений. Снова пример проекции и переноса. На каждого из своих потенциальных партнеров он проецирует что-то от нарциссической доминирующей силы комплекса, который ему подарила мама. В новых отношениях он видит старую угрозу для своего благополучия. Вполне естественно, что он держится на расстоянии в отношениях, саботирует их и убегает при первой же возможности. Вторая проблема как раз заключалась в том, что он испытывал трудности при поддержании близких отношений. Те же проекция и перенос при попытке построить отношения во взрослом возрасте.
Раздвигаем горизонты
Во сне аспиранта психика пыталась недвусмысленно изложить ему как проблему, так и ее причины. Этот сон оказал на него большое влияние, потому что он, безусловно, придавал значение символам; он сам начал понимать, что пришло время пристально взглянуть на себя и свою жизнь, задать вопросы, о которых я упоминал ранее. Кто я вне этой истории? Что внутри меня определяет мой выбор, заставляет воспроизводить этот повторяющийся паттерн? Он начал понимать, что его враг – не жизнь. Его враг – не человек, с которым он вступает в близкие отношения. Его враг – это власть, которую имеет над ним застарелый комплекс. Он наткнулся на любопытный парадокс: совокупность историй и защитных механизмов стала его главным препятствием.
Это самое ценное мое открытие за годы работы психоаналитиком в Цюрихе. Я видел это снова и снова. Этот парадокс пугает, даже деморализует. А заключается он в следующем: главным препятствием для человека является то, чем он стал. Мы сами, какими мы собрали себя, мешаем задавать правильные вопросы и отвечать на вызовы второй половины жизни. Но с этими вопросами приходится столкнуться. Живу ли я своей жизнью или по сценарию, написанному кем-то другим? Как бы я мог прожить свою жизнь по-другому? Что хочет явиться в этот мир через меня? Потом мы оглядываемся назад, вспоминаем, какие решения принимали ежедневно. Влияние некоторых из них мало, других – огромно. Я вырос, сделав этот выбор? Или стал меньше? Раздвинулись ли мои психологические горизонты или схлопнулись?
Вы уже знаете ответ, хоть он и пугающий. Речь не о расширении эго, не о его возвеличивании – не это важно, не к этому мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы наше эго научилось мыслить шире, более сложными категориями, разрешать парадоксы, чтобы лучше понимать, что естественное, природное, ищет свое воплощение в нас. Перед нами встает своего рода ежедневный вызов, ежедневная мантра, призыв осознать, что в нашей жизни больше не могут доминировать страх и наши адаптивные системы.
Много лет назад я писал книгу о самом важном в жизни. После первых очевидных ответов – работа, любовь и так далее – у меня в голове прозвучала фраза: самое главное, чтобы нашей жизнью не управлял страх. Страха не избежать. Жизнь трудна, опасна и приводит к смерти. Но важно опять задать вопросы. Доминирует ли страх в нашей жизни? Принимаем ли мы решения из страха? Те системы, которые мы были вынуждены соорудить, чтобы защититься от страха, теперь стали серыми кардиналами в нашей жизни. Они управляют всем, и абсолютно понятно, что непросто от них избавиться, ведь без них мы не будем чувствовать себя в безопасности. Возможно, нам будет тревожнее, мы будем чувствовать, что нам что-то угрожает, что мы уязвимы. Но, только осознавая все риски, мы можем жить полной жизнью. Если все мы ходим в обуви, которая нам мала, как же заполучить пару на размер побольше?
Darmowy fragment się skończył.