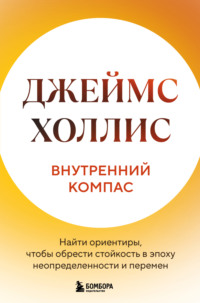Czytaj książkę: «Внутренний компас. Найти ориентиры, чтобы обрести стойкость в эпоху неопределенности и перемен», strona 2
Еще один вопрос, который следует задать себе, звучит так: кем я себя считал тогда, на той стадии своего взросления? И что, по моему мнению, мне нужно было делать в жизни или чего жизнь ждала от меня? Часто мы наблюдаем за окружающими, в частности за членами семьи, в поисках подсказок – как мы должны себя вести и чего от нас ожидают. Кроме этого мы опираемся на другие культурные нормы, этническую принадлежность, религиозное воспитание, дух времени и так далее. Это коллективное бессознательное часто отделяет человека от его руководящих инстинктов, он становятся побочным продуктом своего окружения, носит в себе зародыш непрожитой жизни.
Например, на протяжении всей моей юности мой отец работал на заводе по производству тракторов и грейдеров, и эту работу он ненавидел. Он еще и работал по выходным: развозил уголь. При мне он ни разу не пожаловался. Он смирился со своей участью и переносил невзгоды так мужественно, как только мог. Но я чувствовал, что он подавляет свои эмоции. Поэтому я тоже учился подавлять, сдерживать, не выплескивать то, что происходит внутри. Само собой, чувства эти никуда не исчезали. Они просто бурлили внутри, переполняли меня, и все это, конечно, должно было напомнить о себе позже. В зрелом возрасте подавленные чувства могут вылиться в депрессию, боль от осознания того, что мы проживаем черновик нашей жизни, приспосабливаемся, а не прислушиваемся к себе и не выражаем себя. Когда мы игнорируем эмоции, мы перестаем видеть и понимать, как наша душа, наша психика реагирует на обстоятельства нашей жизни. Старое клише о том, что нужно быть в контакте со своими чувствами, верно, потому что мы не придумываем себе чувства. Это отдельные от нас реакции, оценки того, как наша психика воспринимает нашу жизнь, а не того, что наши бушующие комплексы считают правильной жизнью.
Это самоотчуждение, эта разобщенность приводят к тому, что мы становимся чужими самим себе. Такое внутреннее расщепление является благодатной почвой для депрессии и злоупотребления препаратами. Человек попадает в цикл повторяющихся реакций, последствия которых только накапливаются.
Когда я был ребенком (я думаю, и с вами такое было), мир посылал мне всевозможные послания. Хотя во время Второй мировой войны я был в полной безопасности, в самом сердце Америки, я всей душой верил, основываясь на том, что видел вокруг, что моя роль в жизни – вырасти, пойти в солдаты и убить кого-нибудь или же быть убитым в бою. В детстве эти мысли стали причиной многих моих бессонных ночей, хотя никакой настоящей опасности мне не грозило.
Еще один вопрос, который следует задать себе: если бы я мог изменить что-то сейчас, к какому моменту в прошлом я бы вернулся? Как мы знаем, жизнь редко дает второй шанс, но все же, если можно было, каким шансом вы бы воспользовались? И какое знание, которым вы не обладали тогда, подсказывает вам это решение? Смысл этого вопроса заключается не в том, чтобы вызвать сожаление и чувство ресентимента и обвинить себя или других. Смысл в том, чтобы, подобно криминалисту, осмотреть «место преступления», изучить изнутри архитектуру своего выбора и своих чувств. Ведь если мы не распознаем свои ошибочные решения и, возможно, не признаем, что они были приняты нами по необходимости, то, скорее всего, останемся в плену этих решений навсегда. Мы можем спросить себя: чье невидимое влияние проявлялось, возможно, в переходные периоды нашей жизни и заставляло нас двигаться именно в этом направлении, а не в каком-либо другом? Это влияние все еще ощущается? Очень важно тщательно проанализировать причины, по которым мы принимали важные для нашей жизни решения, потому что их (причин) воздействие на нас все еще прослеживается, они все еще определяют все наши действия.
С учетом влияния на нас различных обстоятельств и наших собственных историй у нас, в сущности, есть только три пути. Первый и наиболее распространенный путь – это повторение. Под влиянием неоднократно закрепленной истории мы склонны воспроизводить ее. Это и приводит к созданию паттернов, которые могут существовать десятилетиями, передаваясь от одного поколения другому.
Второй путь – бежать в противоположном направлении, когда сталкиваемся с чем-то опасным или трудным. Гиперкомпенсация. Каждый раз, когда человек говорит: «Я не буду таким, как моя мать» или «Я не собираюсь жить жизнью своего отца», нас по-прежнему определяет то, что находится вне нас, – жизнь другого человека.
Третий путь – найти способ это исправить. Мы можем попытаться отвлечься, завалить себя таким количеством дел, что у нас не будет возможности рефлексировать, обдумывать свои решения. Можно попытаться «пролечить» внутренние конфликты различными способами.
Но в любом случае наши истории играют определенную роль в нашей жизни, повторяем ли мы их, компенсируем или неосознанно пытаемся исправить. Поэтому мы должны задать такой вопрос: какие формирующие послания все еще присутствуют в нашей нынешней жизни? И еще практичный вопрос: что наши истории заставляют нас делать и от чего удерживают?
Призвание как зов души
На соответствующем форуме мы могли бы спросить: почему, когда мы делаем все правильно (насколько это в наших силах), нам кажется, что это не срабатывает? Почему это не приносит удовлетворения? Иногда приходится обратиться к психопатологии.
Мы живем в мире, где нам навязывают желание избавиться от страданий как можно быстрее, поменяв образ жизни или с помощью таблеток. Но давайте на секунду остановимся и задумаемся о происхождении слова «психопатология». Корень психо в древнегреческом языке означает «душа». Пато – «страдание», а логос – «слово» или «выражение». Таким образом, психопатология – это буквально выражение страданий души. Разве не стоит остановиться и присмотреться? Также не будем забывать этимологию слова «терапия». θεραπεύω значит «прислушиваться к душе» – обращать внимание на психопатологию, а не подавлять ее, спрашивать: что пытается сказать душа?
Психопатология, конечно, заставляет нас пересмотреть свои взгляды на жизнь. Иногда даже помогает пройти через «сумрачный лес»2 и отправиться в новое путешествие – таков был мой опыт. К середине жизни я начал задаваться вопросом, чего хочет моя душа. Этот вопрос – начало исцеления гигантской трещины внутри каждого из нас. Затем мы понимаем, что наше «я» обязано отказаться от своего привилегированного положения царственного властелина, с тем чтобы стать слугой еще более высокой силы. Вот почему в этом нет нарциссизма. Мы ищем что-то значимое для нас, чему можно было бы подчинить свою жизнь, и отходим от наших историй, унаследованных от кого-то другого, и адаптационных механизмов, которые навязывают нам бессилие родом из прошлого.
Мы достигаем очень многого благодаря осознанности. Нам нужно, чтобы наше «я» было лишь посредником во взаимодействии с другими людьми, чтобы оно помогало нам действовать и совершать моральный выбор осознанно, а также давало нам ощущение непрерывности жизненного пути, преемственности и согласия с собой. Но, как предупреждали все древние пророки, поэты и философы, когда наше эго раздувается, старается все себе подчинить, – быть беде.
Это напоминает мне старую легенду о том, как умерли боги. Яхве сказал им, что он Бог, и все они умерли со смеху. Итак, если мы думаем, что нашу жизнь контролирует только обыкновенное сознание, как же объяснить, что мы застреваем в разных моментах своей жизни? Или что мы действуем наперекор собственным ценностным установкам? Или что раним других и самих себя? Ответ заключается в следующем: психопатология – это независимый протест нашей души, нашего внутреннего мира против условий внешней жизни, будь то наши решения, навязанные нам обстоятельства или давление других людей. Поэтому всегда есть повод задуматься: чего хочет душа? Этот вопрос мы задаем не для того, чтобы потешить собственное эго, поскольку оно часто только вредит нам. Если в поисках ответа на этот вопрос мы пойдем на поводу у нашего «я», мы рискуем оторваться от реальности, пренебрегая одобрением окружающих. И вдруг мы понимаем, что очень одиноки.
У большинства известных исторических личностей, идеи и ценности которых вызывают у нас восхищение, жизнь была нелегкой. Но они преодолевали все трудности и привносили что-то в этот мир, что каждого из нас сделало чуточку лучше. Одна из разновидностей страданий, которые может выражать душа, – это жажда призвания. У нас у всех есть дело, которым мы зарабатываем на жизнь, но каково наше истинное призвание, наше предназначение, миссия в этом мире? Миссия часто требует преданности, самоотречения, дисциплины, отваги и стойкости. Это не про комфорт человеческой жизни и совсем не про «нормальность».
Недавно я распознал родственную душу в покойной английской писательнице Хилари Мантел3. По ее словам, она никогда не рассчитывала на то, что вдохновение само посетит ее и похлопает ее по плечу. Нет, писательница, скорее, надеялась, что благодаря собственному трудолюбию, дисциплине и внимательности она узнает все, что ей нужно как автору, чтобы выковать свой текст. Я восхищаюсь таким подходом, потому что вижу в нем не стремление обеспечить комфортом свое эго, а готовность к самопожертвованию во имя призвания.
Я написал много книг, и люди говорили мне: «Наверняка писательство дается тебе легко». Почему? Почему им так кажется? Я сажусь за написание книги после целого дня работы с пациентами – вместо того чтобы посидеть перед телевизором или заняться чем-то еще. Что-то внутри зовет меня усесться за письменный стол, заставляет писать. И я понял, что мне лучше поддаться этому зову. Романист Томас Манн пришел к выводу, что писатель – тот, кому писать труднее, чем другим людям.
Ваше призвание на самом деле не связано с работой как таковой. Речь идет о том, что действительно достойно вашей преданности делу, вашего служения. Мне нравятся слова Хилари Мантел, потому что они ясно показывают необходимость быть преданным нашей писательской миссии. Само по себе призвание – это тайна, которая зарождается где-то в глубине нашей души. Слово inspiration – «вдохновение» – от латинского inspiration, которое в свою очередь произошло от inspirare – «дуть, воодушевлять», то есть вдохновение означает, что через нас проходит дыхание богов. Наше призвание зачастую вовсе не то, чем мы зарабатываем на жизнь. Поэтому мы должны всегда спрашивать себя: соответствует ли то, что я делаю, моему призванию? Отвечает ли это зову моей души? Или это служение моему эго, внутреннему «я», которое застряло в одной из многочисленных историй, сочиненных мной или сочиненных миром и навязанных мне? Кроме того, восхваление Хилари Мантел вечной бдительности является напоминанием об обязательной дисциплине самосознания. Мы бесконечно узнаем что-то новое о себе, о других людях и о том, как благодаря нам меняется мир. Не быть бдительным – значит спать, жить на автопилоте; это таит опасность и для других, и для нас самих.
Таким образом, наша работа как психоаналитиков заключается в том, чтобы быть вдумчивыми; терапия – это выслушивание, проявление внимания. Когда мы находимся в ладу с нашей внутренней жизнью, нам легче, мы приобретаем чувство уверенности и, самое главное (это трудноуловимо, но необходимо), – это ощущение осмысленности жизни, самореализации и цели. Когда мы сбиваемся с пути под влиянием старых адаптивных паттернов, нам приходится плыть против течения, делать усилия, а это становится все труднее, и труднее, и труднее. В итоге это всегда ведет к депрессии и эмоциональному выгоранию.
Мы все родились, зная, что для нас правильно. Это называлось инстинктом, но когда мы были крошечными, несамостоятельными, уязвимыми, когда зависели от милости окружающего мира, нам приходилось приспосабливаться к жизни, к судьбе, которая нам выпала. Как часто упоминал Юнг, большинство наших проблем возникает, когда мы по мере взросления отрываемся от инстинктов, управляющих нами, теряем контакт с ними, с той энергией внутри каждого из нас, которая помогает нам стать теми, кто мы есть. Философ Фридрих Ницше называл человека «больным животным», «испорченным животным», потому что человек теряет свои инстинкты. Итак, мы все страдаем от того, что когда-то защищало нас или казалось необходимым.
Мы начинаем возвращаться на верный путь, задавая себе вопросы, которые я только что предложил. Мы должны задаваться ими на протяжении всей нашей жизни, потому что такие проблемы нельзя решить раз и навсегда. Они возвращаются вновь и вновь, в других формах, слегка видоизменяясь. Чем старше я становлюсь, тем чаще наблюдаю повторное проявление старых историй у моих пациентов и у меня самого. Никогда нельзя быть уверенными, что мы в конечной точке пути. Именно когда у нас появляется эта надменная уверенность в том, что мы знаем, кто мы такие и почему делаем тот или иной выбор, мы больше всего находимся во власти старых историй.
Начиная с 1980-х годов исследования показывали нам, что наш мозг часто принимает решения еще до того, как мы начинаем осознавать, что должны что-то решить. Это пугающая мысль. Например, мяч летит вам в голову; вы видите его и реагируете за миллисекунду до того, как скажете себе: пригнись! Не знаю, как вас, а меня этот факт одновременно обнадеживает и приводит в замешательство. Обнадеживает, поскольку говорит о том, что у нас есть защищающая нас операционная система, о которой мы знаем очень мало и которая, возможно, позволила нам выжить как биологическому виду на планете. С другой стороны, это наносит еще одно оскорбление нашему эго, которому кажется, что это оно всем управляет.
Вот для чего предназначены эти вопросы – приподнять над повседневной жизнью со всеми ее мелкими отвлекающими факторами, привести к большей осознанности, помочь разобраться во всем и рассмотреть те механизмы, которые руководят нашей многоуровневой психикой. В этом наша задача. Так мы начинаем возвращаться к жизни. Эта работа требует определенного самоотречения, смирения, но результаты ее не обесцениваются со временем. Задавать себе важные вопросы – это не универсальный способ почувствовать себя лучше здесь и сейчас. Упрощенные теологические и психологические приемы, направленные только на то, чтобы принести облегчение, рано или поздно подведут. А стратегия с вопросами взывает к нашей собственной ответственности, требует мужества и настойчивости, зато дает настоящий результат. Мы учимся с достоинством идти по своему собственному пути – не чьему-то другому. Я уверяю вас, что это стоит того, чтобы заплатить за билет и сделать это путешествие под названием «жизнь» еще более светлым.
Взбаламутить – и запустить процесс
Возможно, вы задавали себе вопрос: какие конкретно практики или знания я мог бы применить, чтобы способствовать этому процессу? Для начала я бы предложил вернуться к вопросам, которые мы уже поднимали. Да, они довольно просты, но именно они помогут начать анализ материала, поднятого из глубин бессознательного. Слово «анализ» происходит от древнегреческого глагола, который означает «выделять, вычленять элементы», как если бы мы взбаламутили песок с речного дна или перемешали суп, чтобы увидеть, какие его составляющие – овощи, кусочки мяса – всплывут на поверхность.
Когда мы начинаем анализировать нашу психику, со «дна» души (или из подсознания) на поверхность всплывают различные вещи. Возможно, вы проснетесь в три часа ночи с какой-то мыслью или идеей, – запишите ее. Возможно, вы заметите, что анализ вызывает сновидения. Записывайте эти сны и внимательно изучайте их. Постарайтесь отстраниться от позиции эго, когда анализируете сны. Можно спросить себя: почему психика выбрала именно этого человека или эту ситуацию? С чем это у меня ассоциируется? Таким образом, мы преодолеваем стремление эго контролировать этот материал и начинаем понимать, что эго – это лишь один из многих комплексов. Важный и полезный, но все же только один из множества. Ведение дневника, внимание к снам, медитация и особенно ретроспективный анализ жизненных паттернов могут открыть для вас новые пути.
Помните, что все, что вы делаете, логично. Лежащая в основе действий эмоция или история могли казаться разумными в то время, когда они возникли. Возможно, это была детская фантазия или страх, не основанные на реальности. Однако они закрепляются и усиливаются, превращаясь в своего рода рабочий паттерн, от которого мы отталкиваемся. Спросите себя: какая история лежит в основе этого? Как я воспринимаю это сегодня, будучи взрослым? Как я могу подойти к этому с точки зрения взрослого человека – с инструментами рационального мышления, с опытом сравнения, с осознанием альтернатив и, что наиболее важно, с тем запасом прочности, который есть у взрослого, но которого часто не хватает ребенку? Как я могу пересмотреть эту историю, переосмыслить ее в новом контексте? И какая история приведет к более полной, более удовлетворяющей жизни? Я думаю, мы все знаем ответы на эти вопросы. Юнг однажды сказал, что он в своей практике почти не сталкивался с людьми, которые вообще не знали бы, как им следует поступать в жизни. Я склонен согласиться с этой мыслью. Мы можем не осознавать того, что знаем, но это всегда лежит где-то в глубине.
Таким образом, нам нужно заново открыть то, что мы уже знаем. Мы должны обратить внимание на практики, которые помогают нам пробуждать давно спящие мысли, требующие признания. Нам нужно найти в себе мужество встретиться с истиной и понять, какие изменения нам необходимы в жизни. Затем мы возвращаемся к вопросам. Как я понимал это тогда? Как я понимаю это сегодня? Какие у меня есть возможности сейчас для того, чтобы сделать иной выбор? Когда мы сравниваем прошлое и настоящее с помощью вопросов, мы начинаем лучше осознавать свою взрослость. Как однажды написал шведский поэт Гуннар Экелеф4, это похоже на гигантский океанский лайнер, который находится так далеко от берега, что мы не можем его увидеть. Но по волнам, которые начинают расти, накатываться на берег, а затем отступать, мы понимаем, что там скрывается что-то большое, что лайнер плывет где-то вдали. Иногда работа с бессознательным бывает невероятно тонкой, иногда – очень трудной. Мы должны спрашивать себя: почему я сделал этот выбор? Откуда это во мне? Когда я уже бывал в подобной ситуации?
Психика похожа на компьютер. Каждый момент жизни для нас внове, но она всегда задает вопрос: что я уже знаю об этом? Где уже сталкивалась с этим раньше? Поиск данных происходит мгновенно. Тысячи человечков-работников мечутся, перерывают архивы и спрашивают: «Так, на что это похоже? Что нам говорит наш опыт?» И вот всплывает ближайшее совпадение из нашего прошлого, из нашего «толкового словаря», и на основе этих данных мы принимаем решения. И знаете что? Часто это те же самые старые, повторяющиеся паттерны. Паттерны могут помочь нам осознать невероятную силу формирующих историй. В то же время мы понимаем, что есть и другие истории, которые стремятся проявиться через нас. Откуда эти истории? Это то, что Юнг называл самостью.
Самость – трансцендентная органическая мудрость природы, стремящаяся к своему выражению. Природу мало заботит наш комфорт, наше соответствие общепринятым нормам или наш успех в традиционном понимании. Ее цель – служить самой себе. Природа служит природе. Иронично, что наше эго, которое позволяет нам обрести присутствие во внешнем мире, часто сопротивляется этому призыву, желанию самости проявиться через нас.
Именно через этот смиряющий опыт мы обретаем осознание своей духовной глубины. Мы обретаем смысл. Мы чувствуем, что все делаем правильно, и это возможно, только когда мы находимся в гармонии с собственной душой. Мы не можем имитировать это чувство. Мы не можем запрограммировать это. Мы должны задать себе вопрос: что требует от меня моя душа? А затем стараться привносить это в нашу жизнь. Для человека очень важно жить в согласии с собственной душой, это становится частью того наследия, которое мы передаем нашим детям, нашим семьям и нашим согражданам.