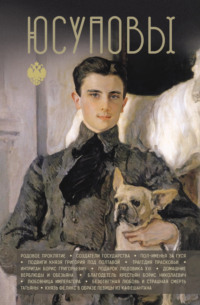Czytaj książkę: «Юсуповы», strona 3
Именно из-за «царства Казанского» у Ивана IV с Юсуфом и обострились отношения. Надо учитывать, что провозглашение Ивана царем виделось очень по-разному на Западе и на Востоке. В первом случае это воспринималось как преемственность по отношению к Византийской империи или просто как констатация могущества и контроля над гигантской территорией. Многие европейские государи без особых проблем этот титул признали, хотя, строго говоря, резкий прыжок в императоры из герцогов (а именно так мог толковаться титул великого князя) – довольно неоднозначный кульбит.
Но с точки зрения Чингизидов претензия московского «бека» фактически на ханский титул – это абсолютный скандал, оскорбление и вызов. Кстати, ханы в русских летописях именовались царями и никак иначе.
Сам Иван Грозный прекрасно понимал опасность этой коллизии. Поэтому когда он захватил Казань и Астрахань, то писал в своих посланиях, что их «престолы издревле царские». То есть, заняв их, он дополнительно легитимизировал свой новый титул.
Но все это совершенно не убеждало крымских ханов, ведь их род Гиреев вел свое происхождение от великого Чингисхана, а значит, они и только они имеют право на первенство по эту сторону Волги. Именно во имя утверждения этого права они и ходили в походы на Москву. И гордому Ивану приходилось убегать вглубь своих владений.
А чтобы избежать такой перспективы, он однажды устроил непонятную даже для многих историков рокировку – отдал свой престол на время крещеному Чингизиду Симеону Бекбулатовичу. Это был сигнал Крыму – у нас всё в порядке, всё согласно степным законам. А когда угроза очередного вторжения миновала, Грозный благополучно вернул себе и трон, и титул. Так что это был тонкий политический ход, а вовсе не шутовство, приступ безумия или что-то подобное, что царю вменяют те, кто упускают специфику постордынской легитимности.
Этот экскурс был необходим для понимания остроты «казанского вопроса». Впрочем, для «государя государей» Юсуфа он стал предельно болезненным еще и из-за дочери – легендарной царицы Сююмбике.
Башня, названная в ее честь, является одним из самых узнаваемых архитектурных символов Казани. И с самим этим сооружением, и с царицей связаны увлекательные легенды.
Согласно одной из них Сююмбике была настолько прекрасна, что страстью к ней воспылал сам Иван Грозный. Но взаимности не добился. И тогда пошел в поход на Казань. Вот какова, согласно сказаниям, его подлинная причина! Чтобы избавить город от разрушений, а его жителей от истребления, царица приняла предложение Грозного, но в качестве условия выдвинула требование построить за семь дней высокую башню. Русский государь мобилизовал все ресурсы и выполнил поставленную задачу.
Тогда Сююмбике поднялась на самый высокий ярус и бросилась головой вниз – погибла, чтобы посрамить завоевателя.
Вторая версия не столь драматична. Но тоже трогательна. Якобы Сююмбике построила башню в память о своем любимом муже Сафа-Гирее. Ее возвели рядом с могилой хана. И отправляясь в плен в Москву, царица, лишенная престола, проливала здесь горючие слезы.
На самом деле, как часто бывает в подобных случаях, исторические события переплетены здесь с бродячими сказочными сюжетами. Не только реальная Сююмбике не прыгала с этой башни, но и, по мнению многих исследователей, строение это было возведено уже после взятия Казани, в российский период жизни этого замечательного города. И тем не менее в этих легендах передано главное – трагичность судьбы последней ханши.
За влияние на Казань после разгрома Большой Орды спорили Москва и Крымское ханство. На ее престоле сменялись ставленники то одной, то другой стороны. И вот в 1532 году в результате интриг, инспирированных московскими агентами, в Казани вспыхнули волнения, и представитель Крымской династии Сафа-Гирей был свергнут с престола, но не убит, а лишь изгнан.
Местная знать согласилась принять того, кто будет представлять интересы Москвы. Но очень просила, чтобы не присылали уже сидевшего на казанском троне и очень не полюбившегося жителям касимовского хана Шах-Али. Соглашались принять его младшего брата Джан-Али.
Но кто такие касимовские ханы? С ними связан зримый процесс перетекания власти в Евразии от различных осколков Орды к московским сначала князьям, а потом царям.
Основателем династии стал сын казанского хана Улу-Мухаммеда Касим. В 1445 году его отец Улу-Мухаммед и брат Юсуф были убиты, а ему удалось бежать к великому князю Московскому Василию II, внуку Дмитрия Донского. Это был не первый прецедент, когда ордынцы, воспринимая растущее русское государство как прочный берег в океане степной смуты, переселялись на его земли.
Но впервые это сделал столь высокий представитель степной элиты. Князь выделил Касиму Городец Мещерский, названный по его имени Касимовом. И здесь образовалось автономное царство, ханы и подданные которого служили Москве. Поэтому для Василия III, отца Ивана Грозного, было не принципиально, какой из братьев будет отстаивать его интересы в Казани.
Джан-Али взошел на престол 29 июня 1532 года. А уже в июле в Москву поступило прошение дать согласие на его брак с дочерью Юсуфа Сююмбике. И возражений не последовало. Этот союз должен был обеспечить стабильность новой власти. Расчет был вполне очевиден. Прежний, свергнутый казанский хан Сафа-Гирей вовсе не вернулся за Перекоп, он обосновался в кочевьях ногайского мирзы Мамая. И для нового хана Джан-Али, конечно, принципиально важно было обезопасить себя с этой стороны. Наилучший способ – жениться на дочери другого ногайского вождя – Юсуфа.
После свадьбы казанская элита получила от ногаев грозное предупреждение, что если они начнут злоумышлять и против этого хана, теперь зятя Юсуфа, то у них возникнут серьезные проблемы – степняки ударят по ним в союзе с Москвой.
Но все обернулось совсем иначе. Брак оказался несчастливым. И Сююмбике начала жаловаться отцу, что муж ее не любит, и вообще она хочет домой. Разумеется, Юсуф немедленно изменил свою позицию. И потребовал от казанской знати сместить Джан-Али с престола. Те охотно откликнулись и убили молодого хана. Так все результаты московской политики пошли прахом – в Казань вернулся, при поддержке все тех же ногаев, Сафа-Гирей. И вскоре взял в жены Сююмбике, оставшуюся без супруга. Брак этот санкционировал, разумеется, и сам Юсуф.
На этот раз союз был более удачным. В нем родился наследник ханского престола Утямыш. Но воспользоваться своим правом ему не довелось. Возвращение Сафа-Гирея и его более или менее устойчивое правление пришлись на период малолетства Ивана IV, потерявшего в трехлетнем возрасте отца, а в восьмилетнем возрасте – мать, талантливую правительницу Елену Глинскую. Но как только московский владыка «вошел в возраст», у Сафа-Гирея начались проблемы.
В 1546 году вспыхивает новое восстание. Хан бежит к ногаям и вновь просит их помощи. В Казани тем временем опять воцаряется Шах-Али, неизменный московский ставленник. Но совсем ненадолго. Сафа-Гирей возвращается во главе ногайского войска и снова захватывает престол. Но уже через три года хан внезапно умирает. Точные причины нам неизвестны. Однако прекрасно известны последствия.
Два года Казанью правила Сююмбике в качестве регентши при своем малолетнем сыне. А потом царь Иван потребовал выдать ее Москве, а на трон снова посадил свою марионетку Шах-Али. Впрочем, Грозный прекрасно понимал, что тот слаб, не пользуется авторитетом у подданных, а значит, надо решать казанскую проблему окончательно и бесповоротно. Уже было решено, что хан сдаст город русскому воеводе. Но прознав об этом, жители вновь взбунтовались и пригласили на престол астраханского царевича Ядыгар-Мухаммеда. Вот этого царь Иван уж точно стерпеть не смог и лично повел войско на беспокойный город, который был взят и присоединен к Русскому царству.
За всеми этими событиями бий Юсуф наблюдал безо всякого энтузиазма. Ему совершенно не нравился рост могущества Москвы. Более того, став властелином ногаев, он потребовал от правительства Ивана IV признания и себя равным по рангу золотоордынским и крымским ханам. Кроме того, как только в Московских землях оказались фактически в плену его дочь и внук, он начал требовать их выдачи.
Но царь не собирался ни статус его признавать, ни Сююмбике с Утямышем выдавать. В ответных посланиях Юсуфу разъяснялось, что они и на Руси себя прекрасно чувствуют. А чуть позднее Сююмбике выдали замуж в третий и последний раз за хана-неудачника Шах-Али, и она поселилась в его «царстве» – Касимове. И оттуда стали приходить в степь какие-то совсем тревожные слухи. Рассказывали, что злобный и уродливый Шах-Али изувечил Сююмбике, изрезав ей лицо. Москва организовала оперативное посещение Касимова ногайскими послами, дабы они удостоверились, что женщина жива и здорова. Впрочем, уже вскоре (когда, точно неизвестно) она умерла. Возможно, это случилось в 1554 году, когда был убит и ее отец бий Юсуф.
Кто же поднял на могучего бия руку? Его собственный брат Исмаил. Он же многие годы фактически блокировал попытки брата перейти от дипломатических конфликтов с Москвой к вооруженному. И убив бия, он написал в Москву, что сделал это ради царя. Иван ему этого, конечно, не приказывал, но таким итогом был доволен. Исмаил никак не мог тягаться с Юсуфом авторитетом. А кроме того, убийство немедленно развязало очередную братоубийственную войну в ногайских степях.
Когда Юсуф стал бием, Исмаил был провозглашен нурадином – вторым человеком в орде. Если Юсуф контролировал коренные земли ногаев – от казахских степей до Волги, то Исмаил кочевал на правом берегу великой реки. И таким образом, геополитически братья тяготели к разным центрам. Первый – к Бухаре, а второй – к Москве. Исмаил имел право (и активно им пользовался) самостоятельно вести дипломатические дела с царем.
С подданными государя всея Руси он вел и торговые операции. И подарки из Москвы получал. Поэтому, когда Юсуф в 1552 году собрал войско, чтобы воспрепятствовать планам Ивана Грозного подчинить Казань, брат отказался присоединиться к нему со своими воинами. И операцию пришлось отменить.
И через год он опять сорвал поход. Зато вскоре до Юсуфа дошли слухи, что брат готов присоединиться к русским войскам в их походе на Астрахань. Тут терпение бия лопнуло. И брат пошел на брата. Впрочем, возможно, еще был шанс примириться. Две силы сошлись в степи, постояли друг против друга и разошлись. И тем не менее известно, что в конце 1554 года бой все же произошел. И Юсуф пал в этом сражении.
Реакцией на гибель бия стала внутренняя распря такого масштаба, который был еще не известен ногаям. Восемь сыновей Юсуфа жаждали мести. Прочие потомки Едигея разошлись по двум лагерям, и началась борьба не на жизнь, а на смерть. Взаимоистребление и разорение достигли такого размаха, что в степи разразился голод.
Надо отметить, что Иван Грозный, наблюдая за этими процессами, вовсе не стремился обеспечить победу Исмаила. Он с интересом присматривался и к сыновьям Юсуфа, и они не считали царя своим врагом.
Поэтому в 1558 году, после очередного раунда противостояния старший сын Юсуфа Юнус объявился в Астрахани и изъявил желание поступить на службу к Ивану. Наследник убитого бия был принят в Москве с распростертыми объятиями, и царь даже объявил, что признает его права на титул отца. Почет, оказанный племяннику в Москве, совершенно обескуражил Исмаила.
И хотя Юнус скончался через три года, это вовсе не означало, что его братья сложат оружие. В 1563 году двое из них, Ибрагим и Иль, попали к дяде в плен. Рука на них у Исмаила не поднялась. Но угроза от братьев, безусловно, исходила, поэтому бий предпочел передать их московскому послу как бы в заложники. Возможно, он надеялся, что таким способом, не обагряя лишний раз руки кровью родственников, он просто выведет их из игры. И оказался прав.
Иван IV их, как и старшего брата, уважил и предоставил им во владение городок Романов (ныне Тутаев) с деревнями и селами. Ибрагим этим даром не соблазнится и позже уедет к крымскому хану, одному из самых опасных врагов царя Ивана. А вот Иль останется верен новому сюзерену. Его-то прямые потомки и станут князьями Юсуповыми.
Глава IV
На царевой службе
Иль-Мурза – Сеюш-Мурза – Дмитрий Сеюшевич
середина XVI – конец XVII в
Иль-Мурза, в отличие от брата, всерьез и основательно решил строить жизнь свою и своих потомков заново, не особо, видимо, вникая в то, что творилось в дальнейшем в Ногайских степях. И строго говоря, немудрено. Он получил возможность более стабильной и богатой жизни, нежели та, которую он с юности вел в родных ковыльных просторах.
Иль-Мурза получил весьма обширные наделы – ему и его сыновьям были переданы даже некоторые дворцовые, то есть государевы, села. Доходы (в том числе с ямского промысла) с них шли в счет жалованья мурзы. Впрочем, с этих доходов он должен был содержать служилых татар с казаками, которые там проживали. Мурза, разумеется, отвечал не просто за их сытость, но и за полную боеготовность. А нужда в опытных воинах у Ивана Грозного была большая.
Середина 60‐х годов XVI века, когда Иль-Мурза начинает обживаться на Руси, – это время очень сложное и воистину переломное. Прежде всего, начинаются серьезные проблемы в ходе Ливонской войны. Начавшаяся в 1558 году блестящими победами над Ливонским орденом, а потом его полной ликвидацией, в дальнейшем она обернулась долгим противостоянием с Речью Посполитой, которая возникла в результате унии Польши и Великого княжества Литовского.
В 1565 году Иван Грозный учреждает опричнину. Это явление по сей день – предмет споров историков. Мы не будем давать ему оценки. Лишь отметим, что как раз новых татарских подданных царя карательные акции того периода не затронули. Иван им-то как раз доверял, в отличие от представителей старинных русских родов. Характерный пример – описанная ранее коллизия с временной передачей трона Чингизиду Симеону Бекбулатовичу.
Татарские контингенты активно использовались в ходе Ливонской войны. Неоднократно в свидетельствах современников, как русских, так и иноземных, упоминаются ногайские всадники. Но сам Иль-Мурза не особенно заметен на страницах хроник тех лет. Другое дело его родственник, известный нам муж, а в описываемый период уже вдовец прекрасной Сююмбике, и в прошлом казанский хан – Шах-Али.
В исследовании Ярослава Пилипчука «Татары в Ливонской войне» подробно рассматриваются деяния его воинов. Он, в частности, отмечает: «Наиболее обстоятельно о событиях Ливонской войны сообщал Балтазар Руссов. Он рассказывал, что опустошениями занимались русские, а войско возглавлял пленный татарский правитель Сигалей, а также, что ливонцы не исполнили своего обещания русским, и поэтому царь послал татарина им отомстить. Чтобы прекратить русские набеги, ливонцы должны были заплатить дань в 40 тыс. Под 1560 г. сообщалось, что русские устроили триумф и на нем были два пленных татарских царя: казанский и астраханский. Один из них плюнул на пленных ливонцев и назвал их немецкими собаками. Балтазар Руссов указывал, что русское войско вторглось в земли Ливонского Ордена в землю Вирланд, воевали близ Дерпта и Риги. Сигалею было приказано осуществить вторжение в Лифляндию. Для сообщений всех немецких хронистов общим является то, что татары жестоко опустошили ливонские земли. Швед Петер Петрей же изображал Шах-Али «уродом», который был непопулярным среди татар (шведский хронист заимствовал сей пассаж у Сигизмунда Герберштейна). Нужно отметить, что, по мнению А. Белякова, рассказы немцев о зверствах татар могли быть одним из приемов ведения информационной войны против русских, хотя в отдельных случаях, как, например, при взятии Ашерадена в 1577 г., сведения о жестокости татар не лишены оснований».
Участвовал в Ливонской войне и сын Сююмбике и, соответственно, племянник Иль-Мурзы царевич Утямыш, принявший крещение под именем Александр. В 1563 году в составе государева полка он участвовал в походе на Полоцк.
После смерти Грозного Иль-Мурза остается уважаемым и ценимым московским двором подданным. Известно, что он обращался к царю Федору Иоанновичу с просьбой не учитывать доход с принадлежавших ему деревень в счет его жалованья, утверждая, что такая практика применяется в отношении других татарских владетелей. И государь его пожаловал.
Спорной является роль Иль-Мурзы и его сыновей в событиях Смутного времени. Автор двухтомного сочинения «О роде князей Юсуповых» князь Николай Борисович Юсупов – младший, разумеется, старается доказать, что его далекий предок не признавал легитимности самозванцев. Однако то, что и первый, и второй Лжедмитрии подтверждали его права на имевшиеся владения и давали новые пожалования, говорит скорее об обратном.
Довольно подробно и основательно этот вопрос разбирается И.И. Смирновым в статье «К характеристике политики Лжедмитрия II по крестьянскому вопросу».
«Жалованная грамота Лжедмитрия I от 5 января 1606 г. представляет собой подтвердительную грамоту, выданную взамен (жалованной грамоты царя Федора Ивановича (“…велел тое грамоту переписати на свое царское имя, и велел им на их села я деревни дати сю свою царскую жалованную новую грамоту, таковую ж, какова у него, прежде сего, брата нашего жалованная грамота была”). В соответствии с этим основная формула грамоты Лжедмитрия I, определявшая права Иль-Мурзы Юсупова в отношении его владений, гласила: “Пожаловал есми его Иль-Мурзу с детьми, теми селы, со всеми доходы, по прежнему, и доходы ему свои с детьми имати со хрестьян, чем их он изоброчит”», – приводит исследователь доказательства лояльности Иль-Мурзы Лжедмитрию I.
Со вторым самозванцем отношения сына бия Юсуфа были сложными и неоднозначными. И все же говорить о неприятии им человека, прозванного «Тушинским вором», никак не приходится.
Смирнов указывает: «Вторая из жалованных грамот – грамота Лжедмитрия II – относится к самому концу деятельности второго самозванца, ко времени его похода на Москву, летом 1610 г. Она была дана (как говорится в тексте грамоты) “на нашем стану, под Москвою, в Коломенском”. И хронология, и обстановка получения Иль-Мурзой Юсуповым жалованной грамоты Лжедмитрия II стоят в прямой связи как с положением, в котором находился в это время Лжедмитрий II, так и с некоторыми моментами поведения самого Иль-Мурзы Юсупова. Когда в октябре 1608 г. в Романов были посланы эмиссары Лжедмитрия II – Тимофей Бирдюкин-Зайцев и др. для приведения населения к присяге на имя Лжедмитрия II, то Иль-Мурза Юсупов “с своими детишками и с племянниками своими государю царю и великому князю Дмитрею Ивановичю, всея Руси, по своей вере шертовал и со всеми своими с татары”. Однако уже в марте 1609 г. народно-освободительное движение против Лжедмитрия II и польских интервентов привело к освобождению Романова из-под власти тушинцев. Во время боев за Романов между отрядами народного ополчения и воеводами Лжедмитрия II Иль-Мурза Юсупов выступал на стороне Лжедмитрия II и, как он сам писал ему, “под Романовым, с нашими изменники бился”, а затем ушел из Романова в Ростов. Однако этот последний шаг – то, что Иль-Мурза Юсупов не поехал к Лжедмитрию II в Тушино, а предпочел остаться в Ростове – был расценен Лжедмитрием II как нелояльный поступок и повлек за собой соответствующие санкции. Уже 13 мая 1609 г. касимовский царь Уразмагмет (тоже сторонник Лжедмитрия II) в отписке Яну-Петру Сапеге пишет о том, что “государь, царь и великий князь Дмитрей Иванович всея Русии”, т. е. Лжедмитрий II, “пожаловал” его “своим царским жалованьем, в Романовском уезде Иль-Мурзинским поместьем, волостью Богородицкою и с деревнями”. Вряд ли это пожалование имело практическое значение, так как власть тушинцев и Лжедмитрия II над Романовским уездом в это время уже была потеряна. Но самый факт такого пожалования, означавший конфискацию владений у Иль-Мурзы Юсупова и, несомненно, известный последнему, конечно, не мог его не беспокоить. Это заставляло Иль-Мурзу Юсупова добиваться новой жалованной грамоты Лжедмитрия II на свои владения в Романовском уезде, что ему и удалось в августе 1610 г., когда Лжедмитрий, подошедший к Москве, стоял в Коломенском. К этому моменту отношения между Лжедмитрием II и Уразмагметом резко ухудшились. Когда 27 декабря 1609 г. Лжедмитрий II бежал из Тушина в Калугу, Уразмагмет не последовал за ним, а поехал в лагерь к Сигизмунду III под Смоленск, а затем вместе с гетманом Жолкевским участвовал в походе на Москву. Правда, после Клушинской битвы Уразмагмет вновь переехал к Лжедмитрию II. Но это не изменило враждебного отношения Лжедмитрия II к касимовскому царю, и 22 ноября 1610 г. он был убит в Калуге Лжедмитрием II».
Из этого короткого рассказа становится вполне очевидно, как непросто было разобраться в то во всех смыслах смутное время, за кем правда и кто имеет реальные политические перспективы. Поэтому с высоты нашего знания последующей истории России судить Иль-Мурзу абсолютно некорректно. Ведь не замешанными в сотрудничестве с кем-то из самозванцев или поляками из тогдашних влиятельных людей Русского царства остались буквально единицы.
И кстати, Иль-Мурза был человеком явно осторожным и отнюдь не рвался в первые ряды сторонников самозванцев. Потому и не поехал в Тушинскую ставку второго Лжедмитрия. Он только всячески старался закрепить за собой и потомством своим пожалованные еще Иваном Грозным земли. А кем на самом деле являются оба Лжедмитрия, он вникать не хотел.
Зато чрезвычайно активен был еще один родственник Иль-Мурзы – Петр Урусов. Он был внуком ногайского бия Уруса. А сам Урус был сыном, представьте себе, того самого Исмаила, убийцы Юсуфа, который и сыграл решающую роль в судьбе Иль-Мурзы и его братьев.
В 1580 году Урус-бий и его сыновья принесли присягу на верность Ивану Грозному. А внуки нового правителя ногаев после его гибели в очередной битве за власть над степью были отосланы как заложники в Москву и там крещены. Так Урак бин Джан-Арслан превратился в Петра Урусова.
Несмотря на кровавую распрю, которая кипела между двумя ветвями рода потомков Едигея на их беспокойной родине, на Руси вражда между ними утихла. И Юсуфовы, и Урусовы стали русскими княжескими родами, и их представители включились в сугубо русские дела. Одну из национальных проблем того времени, вошедшую в историю под именем Лжедмитрий II, успешно решил Петр Урусов.
Завязка этой коллизии упомянута выше, во фрагменте из исследования Смирнова. Два татарских аристократа – касимовский хан Ураз-Мухаммед и Петр Урусов, в отличие от Иль-Мурзы, со всей страстью погрузились в авантюрные сюжеты Смутного времени. В подмосковный лагерь в Тушине, где обосновался человек, выдававший себя за спасшегося от расправы сына Грозного Дмитрия, стекались очень разные личности. От представителей знатнейших родов до совершенно безродных казачьих вожаков. И все стремились в этой мутной, а точнее кровавой воде, поймать «золотую рыбку» покрупнее.
Если по поводу первого самозванца сложился какой-никакой исторический консенсус (хотя это и не означает, что все так и было) – он считается беглым монахом Григорием Отрепьевым, – то по поводу второго вообще ничего определенного сказать нельзя. И если насчет первого Лжедмитрия многие современники могли искренне заблуждаться и действительно считать его законным наследником, то поверить, что он мог выжить после того, как в Москве его тело сожгли, а пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши, никто из представителей высших слоев не мог.
Тем не менее прервалась династия Рюриковичей, правившая на Руси искони, и для людей той эпохи это означало, что теперь возможно всё. Кроме того, вряд ли что-то могло стеснять представителей татарской знати, у которых были личные обязательства по отношению к покойному Ивану Грозному, но никак не по отношению к России как таковой. Да, и не было тогда еще такого, как в наши дни, понимания Родины и патриотизма. Было стремление защитить православие от католиков поляков. Но у татарских князей и этого не было.
Поэтому ни Петр Урусов, ни его друг Ураз-Мухаммед не сочли чем-то предосудительным поиск более выгодного сюзерена. Король Польши Сигизмунд III, стоявший с войском под Смоленском, принял их весьма благосклонно. Зачем они вернулись к Лжедмитрию, доподлинно неизвестно. Но самозванец решил, что они готовят его убийство.
И решил сработать на упреждение – во время охоты зарубил Ураз-Мухаммеда и сбросил его тело в реку. Свите он объявил, что хан напал на него первым. И только Урусов рискнул обвинить «царя» в убийстве. За это был немедленно схвачен и посажен под арест. Но за него по неизвестной нам причине ходатайствовала Марина Мнишек, и его выпустили из узилища.
Как только он обрел свободу, немедленно на ближайшей же охоте зарубил уже самого Лжедмитрия. И тем самым фактически закрыл один из этапов Смуты. Впрочем, не утихомирился, а напротив, попытался в Астрахани выдвинуть собственного самозванца, а когда интрига не удалась, бежал в Крым, где был казнен. Хану был ни к чему такой беспокойный персонаж.
Вот в такой калейдоскопически меняющейся обстановке воину уже преклонных лет Иль-Мурзе приходилось лавировать, чтобы не допустить фатальной ошибки. Князь Николай Борисович Юсупов в своей истории рода утверждает, что два его сына Бай-Мурза и Инь-Мурза «кончили жизнь свою, по всей вероятности, на поле битвы против поляков». Сам Иль-Мурза скончался по вполне естественным причинам в 1611 году. И последнему его сыну Сеюш-Мурзе пришлось заново доказывать свои права на город Романов и окрестности.
«Бояре князь Трубецкой и Заруцкий, “по совету всей земли” утвердили за Сеюш-Мурзою поместье его», – пишет Николай Юсупов. А кто определил Трубецкого и Заруцкого в бояре (последний просто казачий атаман)? Все тот же покойный уже Лжедмитрий II. Они, впрочем, сделали оговорку в грамоте, подчеркнув, что пожалование это еще предстоит утвердить новому, пока неведомому государю. Поэтому скреплен был временный документ черной печатью, а вот царев уже получил бы, как полагается, красную. Черная печать символизировала скорбь в связи с отсутствием богоданного самодержца.
«Боярин» Иван Заруцкий скорбел, похоже, не очень, потому что не признал вскоре избранного Земским собором Михаила Романова и вместе с Мариной Мнишек попробовал начать очередной раунд Cмуты. Но был схвачен и посажен на кол. А вот Сеюш-Мурза сумел пройти через искушения и опасности того драматичного периода без потерь и получил в итоге подтверждение прав на всё пожалованное прежними правителями его отцу и стал преданным слугой новой династии.
В 1649 году Сеюш-Мурза Юсупов-Княжево (так именовались потомки Юсуфа с того периода и вплоть до конца XVIII века) участвовал в походе русских войск против извечного врага Москвы – крымского хана. И в целом являл пример верного и отважного воина. Скончался он в 1656 году. У него было четверо сыновей от двух жен, но трое умерли, не достигнув зрелых лет, так что все движимое и недвижимое состояние отошло единственному выжившему – Абдул-Мурзе. Если верить в легенду о фамильном проклятии, то действие его началось еще до перехода Юсуповых из ислама в православие. Более того, совершил его как раз тот наследник, который и уцелел. Причем произошло это в связи с довольно анекдотическим случаем.
Согласно фамильному преданию, как-то в пост к Абдул-Мурзе пожаловал в гости высокопоставленный представитель духовенства. Говорят даже, что это был патриарх Иоаким. Однако Николай Юсупов в своем летописании истории рода не называет имени. Не будем и мы ничего утверждать. Этот священнослужитель, естественно, был приглашен отведать изысканно приготовленные кушанья, ел да похваливал.
А после трапезы поинтересовался у хлебосольного хозяина, что это за странная рыба была, которая ему так понравилась. Абдул-Мурза рассмеялся и сообщил, что это вовсе не рыба, а гусь. После этого ему, впрочем, стало совсем не до смеха. Гость прогневался не на шутку, поскольку мусульманин ввел его в грех – накормил мясом, что строжайше в этот день воспрещалось. Но упреками со стороны владыки дело не ограничилось.
О происшествии было доложено государю. А сын Алексея Михайловича, Федор Алексеевич, был в этих вопросах строг. Все случившееся было расценено как тяжкое оскорбление, нанесенное священнослужителю, и Абдул-Мурза угодил в опалу, а большая часть его земель была изъята в казну.
Современному человеку может показаться странной и даже невероятной такая резкая реакция на столь незначительный проступок. Но в те времена мыслили совершенно иначе. Вспомним, что это был период, который позже назовут страшным словом раскол. Он был вызван стремлением патриарха Никона и царя Алексея Михайловича привести русские богослужебные тексты и практики в соответствие с общеправославными. И делалось это неспроста, а потому, что царя всея Руси начинают рассматривать как потенциального главу всего восточного христианства.
То есть на кону стояла, как сейчас бы сказали, геополитика. А кроме того, царь Алексей Михайлович искренне был уверен, что у греков все правильнее, чем у русских, а значит, надо все исправлять и приводить в соответствие. И эта политика наталкивается на сопротивление ревнителей старины, во главе которых стоял протопоп Аввакум. Очень характерны его слова «Умрем за единый Аз». То есть святость всего изначально принятого и утвержденного несомненна. И ни одна буква, ни один жест не могут быть изменены.
Его бесстрашной последовательницей (ныне почитается старообрядцами как святая) была княгиня Евдокия Урусова, сестра знаменитой боярыни Морозовой, той самой, которой посвятил свое выдающееся полотно Василий Суриков. Ногайскую фамилию она получила от мужа, князя Петра, праправнука бия Уруса. Так вот, Евдокию вместе с сестрой за несогласие с богослужебными исправлениями, несмотря на пол и высокородность, подвергли пытке на дыбе, а потом уморили голодом в земляной тюрьме. А от сожжения их спасла только принадлежность к самым элитным семьям.
А вот Аввакума, их учителя, ничего не спасло. Пока жив был хорошо лично его знавший царь Алексей Михайлович, он протопопа щадил. Но Федор Алексеевич, обидевшись на весьма нелестные высказывания проповедника в адрес батюшки, велел спалить его в срубе – традиционно русская форма огненной казни.
Так что на фоне таких ужасов Абдул-Мурза понимал – его легкомысленное игнорирование постных ограничений может обойтись ему очень дорого. И он объявил о желании принять православие. В крещении он получил новое имя – Дмитрий, и все у него пошло на лад. Отнятое было возвращено. Более того, служилые мусульмане были лишены права иметь крещеных крепостных, но новоявленный православный никакими подобными ограничениями теперь стеснен не был.
Darmowy fragment się skończył.