История России. Московско-литовский период, или Собиратели Руси. Начало XIV – конец XV века
Tekst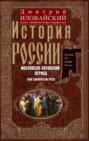


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 860 str. 2 ilustracje
- Kategoria: historia Rosji, literatura historyczna, klasyka rosyjska
Как бы то ни было, Димитрий Иванович обнаружил сильное неудовольствие на Олега за его отступление от союза и двусмысленное поведение в эпоху Куликовской битвы. Однако на этот раз до войны не дошло; новым договором с Москвой (1381) Олег уступил ей некоторые пограничные места и обязался иметь с Димитрием общих врагов и друзей; следовательно, принужден был признавать себя в некоторой от него зависимости. Но подобные условия в те времена редко исполнялись добросовестно32.
Меж тем в Орде совершались события и перемены, имевшие важные следствия для Руси. Несмотря на страшное поражение, Мамай успел собрать новые силы и, злобствуя на великого князя Московского, намерен был отомстить ему внезапным набегом на его землю. Но соперником ему явился хан Заяицкой, или Синей, Орды, по имени Тохтамыш. Этот последний в юности, спасаясь от преследования своего родственника (Урус-хана), нашел убежище у властителя джагатайских татар, знаменитого Тамерлана, и впоследствии с его помощью сел на престол Синей Орды! Так же как и ханы Кипчакской или Золотой Орды, Тохтамыш происходил из рода Джучидов, именно от старшего Батыева брата. Естественно, он не хотел признавать саранским ханом Мамая, завладевшего престолом не по праву, и воспользовался его поражением на Дону, чтобы самому сесть в Сарае. Собранные против Дмитрия силы Мамай должен был обратить на Тохтамыша. Счастье и тут ему изменило: у Азовского моря на берегах Калки, когда-то видевшей первое поражение русских от татар, Мамай был разбит соперником. Царевичи и темники золотоордынские покинули побежденного хана и передались Тохтамышу. Спасаясь от погони, Мамай с немногими людьми укрылся в таврический город Кафу, или Феодосию, к своим прежним союзникам, генуэзцам; но жители Кафы вероломно его убили, чтобы воспользоваться оставшимися у него сокровищами.
Восстановив единство и могущество Джучиева улуса, соединив под своей властью обе Орды, Золотую и Синюю, или Волжскую и Заяицкую, энергичный Тохтамыш, естественно, хотел получать дани со всех тех земель, которые повиновались Батыю и Узбеку, и немедленно известил русских князей о своем воцарении в Сарае. Князья с честью приняли и проводили его послов, а вслед за ними отправили своих бояр с подарками к хану, его женам и вельможам. Тохтамыш, конечно, понял, что великий князь Московский после куликовской победы считает себя как бы независимым от татар и намерен ограничиться одними посольскими отношениями и подарками. Хан попробовал по прежнему обычаю отправить на Русь большого посла, по имени Акхозю, с отрядом татар. Он дошел до Нижнего, но в Москву ехать не решился; послал туда несколько человек из своей свиты, и те не осмелились войти в самый город. Очевидно, после Куликовской битвы русские, особенно москвичи, враждебно и самоуверенно стали относиться к самим золотоордынским татарам; а последние, наоборот, сделались боязливы. Тогда Тохтамыш задумал нанести внезапный и сильный удар, чтобы восстановить прежние отношения. Но и сам он, вероятно, находился под общим впечатлением Куликова поля и потому употребил все меры, чтобы не дать Димитрию времени собрать полки, а захватить русских гостей, особенно в болгарах, и товары их пограбить; гостей захватили главным образом с той целью, чтобы они не дали знать в Москву о приготовлениях хана к походу. Потом Тохтамыш переправил свою рать на правую сторону Волги и быстро пошел на Русь. В Нижнем, однако, узнали о походе; тесть Димитрия Донского, Димитрий Константинович, на этот раз так же изменил зятю и общерусскому делу, как и во время Куликовской битвы. Он отправил двух сыновей своих, Василия и Семена, с изъявлением покорности. Хан шел так скоро, что суздальские князья едва нагнали его уже близ рязанских пределов. Подобно Димитрию Суздальскому, Олег Рязанский, несмотря на недавний договор с Москвой, думал только о спасении собственной области от нового разорения; встретил с дарами Тохтамыша, упросил его не воевать Рязанской земли и, обведя около ее пределов, указал ему броды на Оке и дал проводников. А в Москву на этот раз он не послал и вестей о татарском нашествии.
Однако у московского великого князя в ордынских пределах были устроены «доброхоты», как выражается летопись, то есть между самими татарами находились люди, получавшие от князя подарки и за это извещавшие его о том, что делалось в Орде. От них, а также из Нижнего Новгорода Димитрий успел получить вести; он начал собирать войско и вместе с братом Владимиром уже двинулся было к Коломне навстречу татарам, разослав гонцов к подручным князьям, чтобы спешили к нему на помощь. Но тут сказались последствия того страшного напряжения, которое Северная Русь сделала в эпоху Куликовской битвы. После испытанных в ней огромных потерь Русь, по выражению летописи, «оскудела» ратными людьми. Требовался довольно продолжительный отдых для восстановления сил и для нового возбуждения воинственных инстинктов в народе. Удельные князья, также истощенные потерями и, может быть, не совсем довольные усилившейся московской зависимостью, на этот раз не обнаружили ревности к борьбе с татарами. Никто не спешил на помощь Димитрию.
В среде его собственных воевод, по-видимому, возникло разномыслие. Напрасно кто-то из тысяцких предлагал идти к Оке, стать на переправах и оттуда послать к хану посольство с дарами и с мольбой укротить свою ярость; если же просьбы и дары не подействуют, то, отступая, всеми средствами задерживать татар на их пути и тем дать время для сбора рати. Донской герой не принял этого совета и не решился ждать татар с теми малыми силами, какие у него были под рукой. Он отступил к Переяславлю, а оттуда мимо Ростова прошел в Кострому; брата Владимира Андреевича отрядил к Волоку (Дамскому), чтобы там он ожидал помощи от новгородцев и от тверского князя, к которым отправлены были гонцы. В Москву Димитрий послал приказ готовиться к обороне; княгине же своей велел с детьми спешить к себе в Кострому.
Тохтамыш беспрепятственно перешел Оку; взял и сжег Серпухов и затем двинулся прямо на Москву, пленя и разоряя все на своем пути.
В покинутой великим князем столице весть о приближении татар произвела большое смятение. По выражению летописца, народ в эту минуту походил на овец без пастыря. С одной стороны из окрестностей многие жители со своей рухлядью спешили укрыться в Москву; с другой – богатые граждане спешили с имуществом и семьями выехать из города, чтобы бежать в дальние места; но чернь подняла мятеж и если отпускала их, то предварительно ограбивши. Мятежники звонили в колокола и собирались на шумные веча; решено было занять все ворота стражей и не выпускать никого из города. Бояр перестали слушаться. Высшим лицом в городе оставался митрополит Киприан, которого в предыдущем году великий князь призвал в Москву и торжественно принял в митрополию. Но он первый потерял голову; думал только о своей личной безопасности и решил уехать вместе с великой княгиней Евдокией и ее детьми. Чернь едва согласилась выпустить их из города. В это время в Москву прибыл, вероятно назначенный от великого князя воеводой, один из православных литовских княжичей, внук Ольгерда, прозванием Остей (может быть, сын Андрея Ольгердовича Полоцкого). Он принял начальство, восстановил некоторый порядок в городе и приготовил его к осаде. Выстроенные Димитрием каменные стены представляли надежную защиту; жители вооружились, в том числе сурожане, суконники и другие купцы, и вместе с множеством граждан и крестьян, сбежавшихся из ближних городов и волостей, составили значительную рать. Скоро от страха и смятений они перешли к противоположной крайности, то есть к излишней самоуверенности и пренебрежению неприятелем.
23 августа 1381 года передовые татарские отряды появились под Москвой. Стража с городских ворот, увидав их, затрубила в трубы. Татары остановились за два или за три перестрела от города. Толпа неприятелей подъехала к стенам и спрашивала о великом князе. Им отвечали, что он отсутствует. Татары начали ездить вокруг города, осматривая его рвы, забрала, ворота, башни. Кругом все было чисто: так как граждане пожгли все посады и даже загородные монастыри; не оставили ни одного тына или бревна, из опасения примета к городу. Между тем как добрые люди молились, постились и причащались в ожидании горькой смерти, буйная часть граждан предавалась пьянству и грабежу тех домов, хозяева которых бежали из города; особенно опустошались запасы меда и вина, находимые в их погребах; причем много было пограблено кубков серебряных и стеклянных. Разгулявшиеся буяны, шатаясь, ходили по городу и хвастались своей будущей победой над врагами; некоторые влезали на стены, оттуда сквернословили, плевали на татар и вообще делали против них разные бесстыдные выходки. В ответ на это татары грозили обнаженными саблями и знаками показывали, как они будут рубить головы. Граждане ошиблись, думая, что перед ними вся татарская рать; на следующее утро пришел сам Тохтамыш с главными силами, и темные тучи варваров облегли город со всех сторон. Осажденные первые начали бросать стрелы в неприятеля; в ответ на это татары открыли частую и меткую стрельбу; стрелы их сыпались, как сильный дождь, и омрачали воздух; многие граждане падали мертвыми на забралах. Были у татар и такие искусные люди, которые стреляли без промаха с коней на всем скаку, направо и налево, вперед и назад. Во время этой перестрелки часть варваров приставила лестницы и полезла на стены. Москвичи обливали их кипящей в котлах водой и отразили приступ. Он возобновлялся три дня сряду, но безуспешно: башни и забрала были снабжены самострелами и камнеметательными орудиями, каковы: пороки, тюфяки и даже пушки, тут впервые упоминаемые. Были и в числе москвичей искусные стрелки; так, некий суконник, по имени Адам, с башни над Фроловскими воротами поразил из самострела прямо в сердце одного из первых ордынских князей, чем причинил большую печаль самому хану.
Видя, что город нельзя взять открытой силой, и опасаясь пришествия великокняжеской рати, варвар употребил коварство.
На четвертый день к стенам по оласу (парламентерами) подъехали знатные татарские вельможи с такими речами: «Царь вас своих людей и своего улуса хочет жаловать; вы не виноваты; не на вас он гневается, а на великого князя Димитрия. От вас же он ничего другого не требует, а только то, чтобы вышли к нему с честью и дарами купно с вашим воеводою; царь хочет только видеть ваш город и побывать в нем». Такое предложение, конечно, было сделано слишком неискусно и подозрительно, чтобы ввести в заблуждение сколько-нибудь осторожных людей. Но в числе ханских посланцев находились два суздальских князя, помянутые Василий и Семен Дмитриевич. Застращенные Тохтамышем или сами поверившие его лживой клятве, они на кресте присягнули, что хан говорит искренно и что он не сделает никакого зла гражданам, если те послушаются его. Их присяга показалась многим москвичам достаточным основанием для того, чтобы поверить хану и смириться перед ним. Напрасно князь Остей и некоторые воеводы пытались убеждать граждан, чтобы они повременили еще немного, пока Димитрий и Владимир Андреевич соберутся с силами и придут на помощь. Толпа зашумела и настояла на своем. Отворились кремлевские ворота, и Остей в сопровождении бояр вынес дары хану; за ним следовали архимандриты, игумены и священники с крестами; потом шли черные люди. Тут, по данному знаку, одни татары бросились на эту процессию и произвели избиение; другие устремились в отворенные ворота и ворвались в город; третьи влезли на стены по приставленным лестницам. Начались страшные сцены убийств и грабежа; граждане, застигнутые врасплох, метались во все стороны и более не думали о сопротивлении. Избиение прекратилось тогда, когда руки татар утомились и сабли их притупились. Многие искали спасения в каменных церквах; но татары разбивали их двери, и, посекши христиан, расхищали церковную утварь или обдирали дорогие украшения с икон и книг. Кроме храмов, варвары разграбили богатства, десятилетиями накопленные в боярских дворах, и склады товаров в домах сурожан, суконников и других купцов. Насытившись грабежом, убийством и захватив огромный полон, состоявший преимущественно из здоровых мужчин, молодых женщин и девиц, варвары зажгли город и тем произвели его окончательное разорение. «Дотоле, – говорит летописец, – город Москва был велик и люден; он кипел многолюдством; славою и честию превзошел все грады Русской земли; в нем обитали князья и святители. А в сие время отошла слава его, и вся честь в единый час изменилась, когда он был взят и пожжен». Это бедствие случилось 26 августа 1381 года. В особенности невозратима была потеря сгоревшего в соборных храмах великого множества книг; кроме собственных рукописей, в них снесены были на хранение книги из всех окрестных монастырей и посадских церквей. Нет сомнения, что в этом пожаре погибли и многие памятники отечественного бытописания. Не одна Москва пострадала в это нашествие. Когда была взята столица, Тохтамыш разослал отряды опустошать волости и другие города Московского княжения. Татары разграбили тогда и пожгли Владимир, Звенигород, Можайск, Юрьев, Дмитров, Боровск, Рузу и Переяславль-Залесский. В этом последнем многие граждане спасались тем, что сели на суда и отплыли на середину озера.
Во время этого разорения один татарский загон, подошедши к Волоку, наткнулся на стоящего там Владимира Андреевича; последний ударил на татар и поразил их. Беглецы принесли о том весть Тохтамышу. Этой небольшой победы было достаточно, чтобы напугать хана: таково было впечатление Куликовской битвы. Опасаясь прибытия великокняжеской рати, боясь потерять добычу и бесчисленный полон, хан стянул свои загоны и стал поспешно уходить. На обратном пути, однако, татары успели взять Коломну, а потом пограбить и попленить землю Рязанскую. Таким образом, и Олег Иванович был достойно наказан за свое малодушие и близорукую, эгоистичную политику. По некоторым известиям, и в этом случае поведение двух суздальских князей, сопровождавших хана, было позорное: по своим личным расчетам и неприязни к Олегу, они не удерживали, а еще натравливали татар на разорение Рязанской земли. В награду за то хан послал в Нижний к Димитрию Константиновичу своего шурина Шихомата и князя Семена Димитриевича с ярлыком на великое княжение Владимирское; а другого Димитриева сына, Василия, взял с собой в Орду в качестве заложника.
Когда Димитрий Иванович с братом Владимиром и боярами воротился в столицу, то проливал горькие слезы, смотря на московское пепелище. Везде лежали кучи трупов и стояли обгорелые развалины. Он немедленно принялся созывать из лесов разбежавшихся жителей, возобновлять город и очищать его от трупов; причем велел давать по рублю за восемьдесят тел людям, занимавшимся погребением их. Роздано было 300 рублей; следовательно, число погребенных простиралось до 24 тысяч; да, кроме того, много народу сгорело во время пожара или потонуло в реке, куда бросались от страха перед варварами. А если определим число уведенных в неволю москвитян хотя бы в 20 или 25 тысяч, то город Москва и ее окрестности лишились в это нашествие по меньшей мере от 50 до 60 тысяч своего населения.
Конечно, нам легко было бы теперь обвинять Димитрия в том бедствии, осуждать его за нерешительность и оставление Москвы на жертву варварам. Но мы не должны забывать о том, каких усилий и сколько времени требовалось тогда, чтобы собрать и вооружить ополчение в несколько десятков тысяч человек; особенно после куликовских потерь. Нет сомнения, что в народе уверенность в освобождении от ига сменилась на время горьким разочарованием, когда он увидал свежие полчища варваров, разорявших его землю, и это разочарование отразилось в нерешительном образе действия самих вождей. Затем, если мы у самого Димитрия не находим той бодрости, предусмотрительности и воинского пыла, которые он обнаружил в эпоху Вожи и Куликова поля, то имеем основание предполагать, что его здоровье и энергия были надломлены чрезмерным напряжением сил в достопамятный день 8 сентября 1380 года. Принимая в расчет все эти обстоятельства, не можем, однако, освободить его от упрека в недостатке распорядительности и заботливости о своей столице в эпоху Тохтамышева нашествия. Если бы она была вовремя поручена надежным воеводам и не была так предоставлена на волю случая и мятежной толпы, то могла бы продержаться столько времени, сколько было нужно для помощи. Может быть, великий князь слишком понадеялся на присутствие митрополита Киприана для поддержания порядка в столице. Этот ученый серб не мог заменить такого патриотичного пастыря, как св. Алексей, и в минуту бедствия думал только о своей личной безопасности. По крайней мере, известно, что Димитрий гневался на Киприана за то, что он покинул Москву и удалился именно к старому сопернику московского князя, Михаилу Тверскому, который отправил к Тохтамышу посла с дарами и с мольбой не воевать Тверского княжения и получил от хана милостивый ярлык. Вскоре по возвращении Киприана в столицу Димитрий изгнал его из Москвы, и тот снова воротился в Киев. А на Владимирскую или Восточнорусскую митрополию великий князь вызвал из заточения опального Пимена.
После Тохтамышева нашествия московскому князю волею-неволею приходилось снова признавать себя данником Золотой Орды. С одной стороны, надобно было предупредить дальнейшие нашествия, а с другой – к тому же побуждала измена общерусскому делу и соперничество с Москвой больших соседних княжений, то есть Рязанского, Суздальско-Нижегородского и Тверского. Тотчас после нашествия в Орду на поклон к Тохтамышу отправились сын Димитрия Константиновича Семен, брат Борис Городецкий и Михаил Александрович Тверской с сыном. Тверской князь не замедлил воспользоваться бедствием Москвы и возобновил свои домогательства о ярлыке на великое княжение Владимирское. Надобно было помешать его домогательствам. Димитрий, однако, сам не поехал, а отправил в Орду своего старшего сына Василия (1383). Хан остался доволен изъявлением покорности со стороны сильного московского князя и оставил за ним великий владимирский стол; однако молодого Василия удержал при себе, требуя за него 8000 рублей окупа. Если тесть великого князя Димитрий Константинович Нижегородский не спешил лично явиться перед ханом, тому препятствовало его болезненное состояние; в том же 1383 году он скончался. Этот князь омрачил конец своей жизни изменой собственному зятю и раболепием перед татарами. Но судя по местным свидетельствам и преданиям, он пользовался уважением своих нижегородцев. Димитрий Константинович памятен еще в русской истории тем, что при нем монах одного нижегородского монастыря Лаврентий переписал летопись или составил летописный свод (так называемый Лаврентьевский). Сыновья и брат Димитрия Константиновича, бывшие в Орде, немедленно подняли распрю о нижегородском столе, как старшем в их семье. Хан решил спор в пользу дяди, то есть Бориса Константиновича.
Первое время после Тохтамышева нашествия было очень трудно для Московского княжения: пришлось заплатить большую дань, потому что хан, вероятно, потребовал платежа и за предыдущие годы. На это собирались деньги со всякой деревни по полтине (а деревней назывались тогда небольшие поселки в несколько дворов); «тогда же и золотом давали в Орду», прибавляет летописец. А во Владимире, по его словам, пребывал в то время лютый или хищный ханский посол, по имени Адаш. Но это тяжелое время продолжалось недолго. Спустя два года молодому князю Василию Димитриевичу удалось убежать из Орды в Подолию, откуда он ушел в землю Волошскую к воеводе Петру, а потом пробрался в Германию. Во владениях Прусского ордена он встретился с Витовтом Литовским. Витовт, по возвращении на родину, помолвил за него свою дочь Софью и с честью отпустил его в Москву в сопровождении польских и литовских бояр. В этих странствиях Василий провел около двух лет, пока наконец воротился к отцу. Не видно, чтобы его бегство из Орды навлекло на Москву какое-либо наказание от хана. Вообще в последние годы своего княжения Димитрий Иванович снова перестал унижаться перед татарами и, кажется, ограничивался только легкой данью. Куликовская победа все-таки оказала свое действие на отношения Руси к Орде. А такие внезапные, и потому удачные, набеги на Москву, как Тохтамышев 1381 года, не всегда могли повторяться33.
В эти последние годы удалось Димитрию покончить возникшую из-за татар вражду с Олегом Рязанским.
В первое время после Тохтамышева нашествия великий князь, очевидно, был сильно возмущен тем пособничеством, которое вероломный Олег оказал хану против Москвы, несмотря на их недавний договор. Пользуясь силами, собранными против татар, Димитрий посылал на Рязанскую землю свои полки, которые и наделали ей зла более Тохтамыша. Олег затаил желание мести и три года не обнаруживал никаких признаков вражды, собираясь с силами и дожидаясь удобного случая. В 1385 году он вдруг появился под Коломной; 25 марта, в день Благовещения, город был взят и разграблен; а коломенский наместник Александр Андреевич Остей вместе со многими боярами и лучшими людьми отведен в плен. Возникшая отсюда новая война не была удачна для Москвы, хотя Димитрий послал на Рязань многочисленную рать под начальством Владимира Храброго. В решительной битве москвитяне потеряли многих бояр, в том числе Ольгердова внука Михаила Андреевича, и должны были отступить. Димитрий предложил мир; Олег потребовал слишком больших уступок. Несколько раз посылал к нему своих бояр великий князь, но Олег оставался непреклонен.
В сентябре 1386 года Димитрий Иванович вновь посетил Троицкий монастырь и его знаменитого основателя. Набожный князь велел отслужить молебен, накормил братию, роздал милостыню, а потом обратился к Сергию с просьбой, чтобы он принял на себя посольство в Рязани и уговорил бы Олега к вечному миру. Лучшего посредника невозможно было выбрать. Роль миротворца в те времена княжеских междоусобий была одной из главных заслуг духовенства. И кто же мог сильнее всех подействовать на упрямого рязанца своими увещаниями, как не Сергий, о святости которого уже давно разглашала народная молва? Той же осенью он отправился в путь, сопровождаемый несколькими старшими боярами великого князя. Прибыв в Переяславль-Рязанский и вступив в княжий терем, по словам летописи, чудный старец долго беседовал с князем о пользе душевной, о мире и о любви. Его тихие и кроткие речи произвели такое впечатление на суровое сердце Олега, что он умилился душой, забыл свою вражду и заключил с Димитрием вечный мир и любовь в род и род. С великой честью и славой после того воротился в Москву преподобный Сергий. В следующем году политический союз был скреплен родственными отношениями: сын Олега Федор женился на Софье, дочери Донского. Мир 1386 года в действительности оправдал свое название «вечного»; с того времени не было ни одной войны не только между Олегом и Димитрием, но и между их потомками.
В то же самое время удалось московскому князю смирить строптивых новгородцев.
Причиной ссоры с ними были разбои новгородской вольницы, которая на своих ушкуях ходила по Волге и Каме и грабила их прибрежные волости, а иногда нападала на значительные города, как русские, так и болгарские, например Ярославль, Кострому, Нижний, Жукотин, Великие Болгары и прочие. Разграбление последних городов, принадлежащих тогда татарам, навлекало гнев золотоордынских ханов. Димитрий не раз грозил новгородцам и требовал, чтобы они уняли свою вольницу; но тщетно. Постоянно отвлекаемый более важными делами с Тверью, Литвой, Рязанью и татарами, он принужден был долгое время оставлять Новгородские разбои безнаказанными. Между тем дерзость их возрастала: в 1375 году, во время последней войны Димитрия с Михаилом Тверским, новгородские ушкуйники, в числе 1500 человек, явились под Костромой. Местный воевода Плещеев (как говорят, брат Алексея митрополита) вышел против них с пятитысячной ратью. Одна часть новгородцев встретила Плещеева, а другая спряталась в лесу, в засаде, и, выждав минуту, ударила в тыл костромичам. Последние были разбиты; после того разбойники взяли город и грабили его целую неделю. Забрав с собой более ценное имущество и множество плененных жителей, они поплыли далее; разграбили и сожгли Нижний. Потом разбойничали на Каме; в Болгарах продали пленных жен и девиц мусульманам, а сами отправились вниз по Волге, грабя гостей христианских и бесерменских. Таким образом, разбойники достигли Астрахани; но здесь получили себе достойное возмездие: князь Астраханский захватил их обманом и велел избить всех до единого; награбленная ими добыча вся досталась бесерменам.
Такой погром Костромы и Нижнего сильно разгневал великого князя; но он все еще не находил удобного времени наказать новгородцев. Наконец, к разбоям присоединилась еще распря Новгорода с Москвой в 1385 году, по поводу так называемого «черного сбора», то есть подати, которую собирали бояре великого князя с новгородских волостей. Эта распря ускорила разрыв. В следующем году, помирившись с Олегом Рязанским, Димитрий Иванович лично отправился против Новгорода с братом Владимиром Андреевичем и со всеми подручными князьями. Новгородские послы встретили его на пути с челобитьем о мире. Димитрий не дал мира и продолжал поход. Он остановился в 15 верстах от Новгорода. Сюда явился послом сам новгородский владыка Алексей с той же мольбой о мире и с предложением внести князю 8000 рублей за виновных граждан. Но Димитрий был так разгневан на Новгород, что владыку отпустил без мира. Ввиду близкой опасности новгородцы проявили решительность и энергию: они вооружились, укрепили город новым острогом, пожгли и все строения вне городского рва и решили обороняться до последней крайности. Эта решимость, вероятно, подействовала на великого князя, который не желал довести дело до большого кровопролития, и, когда к нему явилось третье посольство, состоявшее из одного архимандрита, семи священников и пяти житьих людей, от каждого конца по человеку, Димитрий смягчился и согласился на мир. Новгородцы взяли 3000 рублей у Св. Софьи с полатей, то есть из своей общественной казны, и внесли немедленно великому князю; остальные 5000 рублей решено было доправить с Заволочья, так как и заволочане участвовали в волжских разбоях. Великий князь воротился в Москву, послав в Новгород своих наместников и черноборцев.
Любопытно, что как ни велики были дружба и согласие Димитрия Ивановича с его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, однако и между ними под конец княжения не обошлось дело без маленькой ссоры. Виновниками ее, по-видимому, были бояре младшего брата, чем-то недовольные. Не знаем, из-за чего, собственно, возникло неудовольствие; вероятно, из-за каких-либо сел и деревень; известно только, что в 1388 году великий князь велел взять под стражу некоторых бояр Владимира и заточить их по разным городам. Владимир, со своей стороны, захватил несколько деревень великого князя. Однако ссора быстро кончилась, и примирение было скреплено новой договорной грамотой, которая определяла взаимные отношения братьев. Эта грамота ясно свидетельствует о постепенном возрастании великокняжеской власти в отношении к младшим родственникам. Димитрий здесь уже называет себя «отцом» Владимира; а сын Димитрия Василий именуется «старшим братом» своего дяди. Владимир обязывается держать «честно и грозно» великое княжение под Димитрием и его сыном Василием и служить великому князю «без ослушанья». Димитрий только подтверждает за Владимиром его наследственный третной удел и треть московских доходов. Любопытно следующее выражение грамоты: «А оже ны Бог избавит, ослабонит от Орды, ино мне два жеребья, а тебе треть». В этих словах ясно видно сознание Димитрия, что окончательное свержение ига есть только дело времени, что, может быть, оно очень близко. Тут же определена приблизительно и сама ордынская дань в 5000 рублей, из которых на долю Владимира приходилось 320 рублей. В этой грамоте видно вообще старание великого князя определить и обеспечить присягой подчиненные отношения своего двоюродного брата к своему сыну и преемнику Василию. Димитрий как бы предчувствует собственную близкую кончину34.
От природы своей Димитрий Иванович, по всем данным, отличался крепким телосложением и цветущим здоровьем. Летописцы особенно хвалят его умеренность в образе жизни, его целомудрие до брака и после брака. Казалось бы, его ожидала долгая жизнь и глубокая старость. Но судьба решила наоборот. Мы имеем полное право предположить, что чрезвычайное напряжение и сильные ушибы, понесенные им в походе 1380 года и в самой Куликовской битве, надломили его здоровье. Дотоле деятельный и всегда готовый сесть на коня, чтобы лично встретить неприятеля, после того он как бы уклоняется от личного участия в войне, и мы видим его только один раз во главе ополчения, именно в походе 1386 года на Новгород – в походе, окончившемся без битвы.
Весной 1389 года великий князь опасно занемог. Первой его заботой было составить новое духовное завещание; ибо после составления первого (в 1370-х гг.) некоторые обстоятельства уже изменились и прибавилось число сыновей: теперь их было пятеро, да его супруга Евдокия находилась в последнем периоде беременности. В завещании своем Димитрий разделил города Московского княжения между четырьмя сыновьями: Василию дал Коломну, Юрию Звенигород, Андрею Можайск, Петру Дмитров (пятому, хилому Ивану, вскоре потом умершему, назначил несколько сел). Свои две трети города Москвы он разделил таким образом: половину дал старшему сыну Василию, а другую половину трем остальным сыновьям. Но главное, чем он обеспечил решительное преобладание старшего над его братьями, это – передача ему великого княжения Владимирского: «А се благословляю сына своего князя Василия своею отчиною великим княжением». Димитрий это княжение называет уже своей отчиной и не допускает мысли о переходе его в какой-либо другой княжеский род. Он не только не рассчитывает в этом отношении на будущие ханские ярлыки, но вновь выражает надежду на полное избавление от ига; очевидно, сознание, что Куликовская победа не пропала даром, не покидало великого князя и на смертном одре. «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода, и который сын мой возьмет дань на своем уделе, то тому и есть», – говорится в духовной по поводу распределения между братьями 1000 рублей дани, назначавшейся с волостей собственно Московского княжения. Василий получил также удел Переяславский и Кострому, которые причислялись к великому княжению Владимирскому. А «куплю» своего деда Ивана Калиты, города Галич, Белоозеро и Углече-Поле, Димитрий разделил между тремя другими сыновьями. Он наделил также свою супругу многими селами и доходами; поручил сыновьям во всем слушать свою мать, и особенно подчиняться ее решению при разделе волостей (в случае смерти кого-либо из братьев). Свидетелями при составлении духовной записаны два игумена, Севастьян и знаменитый Сергий, десять знатнейших бояр.
