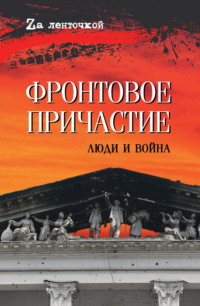Czytaj książkę: «Фронтовое причастие. Люди и война», strona 3
Станислав Кочетков
Причастие
Анекдот:
Сбежали семинаристы богословского факультета на пляж: все вокруг загорают, купаются, музыка, пиво, женщины. Вот и к ним шикарная такая блонда:
– Мальчики! Вы волосатые и бородатые, не пойму, вы хиппи или бомжи?
Всеобщее возмущение: да как Вы могли, да ни в коем случае…
– Значит, вы умные? Тогда объясните мне, что такое причастие?
Битый час объясняли, в конце концов:
– Ага, кажется, теперь поняла. Тогда расскажите мне, что такое деепричастие?
– Миром Господу помолимся! – густой сочный бас бочкообразного низкорослого диакона заполнил весь громадный объём старого пустого храма, а троекратное «Господи помилуй» женского хора потонуло в раскатах гулкого эха вплоть до полного неразличения слов.
И наступил тот самый миг между небодрствованием и явью, который естественен после трёх дней тяжёлого пути, да ещё и с добровольным говением. Олег как будто выпал из реальности, отстранился и от этого громадного храма с парой десятков прихожан, пятью престарелыми хористками и тремя батюшками, и от службы, и от обстрела, гулко бахающего где-то за стенами старой казачьей церкви. И на грани так и не случившегося изумлённого «зачем я здесь» всплыли воспоминания о только что закончившейся поездке.
Олег с напарником Димкой возил гуманитарку. В Город. В котором родился и вырос, в котором подружился с Димкой бездну лет назад. С которым вместе был в ополчении и после ранения в одном госпитале. Не в Республике, в России. Только Димка после госпиталя вернулся домой, в Город, к семье. А Олег – не смог. Что было причиной тому – сейчас он и сам бы не назвал точно. Намешалось и обиды за то, что после ранения «с дырочкой в правом боку» он уже воевать не годен; и вечное непонимание в семье, где ни жена, ни дети не могли понять, зачем и почему им нужно бросать свой налаженный быт, свою учёбу и работу и идти в ополчение, защищать Республику; и огненно-рыжая казачка-медсестричка в госпитале, так восхитительно-завлекательно стрелявшая в Олега своими громадными акварельно-зелёными глазками и так мелодично смеявшаяся, показывая снежно-белые зубы. Он тогда, выйдя из госпиталя и получив увольнительные, просто опустил, снял с седла тягача самодельный семейный дачный трейлер (целых две комнаты! да ещё и санузел с душевой!), сел за руль своего седёльного тягача (ну и что, что конца семидесятых, ну и что, что медленный, зато мощь! зато проходимость! зато надёжность!) и уехал в Россию, к рыжей, к Лизаньке.
Да, конечно, ничего у них не получилось, и разница в годах, двадцать лет ведь не шутка, и совсем разные жизненные установки. Всю жизнь работавший «на дядю» Олег с трудом «переделывался» в бизнесмена, хозяина собственного дела, а Лизавете был нужен именно такой муж. Да чтоб ещё и весёлый, и сильный, и на всю ночь в загул, и выпить совсем не дурак, а у Олега – рана, «дырочка в правом боку». Вот «на выхлопе» и получился чуть-чуть такой себе индивидуальный предприниматель, специалист поставить-починить любое отопление или охлаждение, газ-воду-электричество, вроде как даже целый хозяин собственного бизнеса, только доходов как бы ни меньше, чем если бы работал «на дядю», а головной боли – у-у-у!..
Нет, семье он, конечно, помогал, и в Город приезжал, регулярно, раз в три месяца, когда позволял себе взять недельный выходной, тут у него уже внуки пошли, но… Но жена не могла ему простить предательства, той самой «лисы Лизы», а он, понимая, что виноват перед женой и детьми, всё так же не мог простить им полное отсутствие патриотизма, почти что «хатаскрайничества», как говорил Димка, «мелкотравчатости». Вот у Димки всё хорошо, всё ясно и понятно: жена – врач в госпитале, сам Димка, хоть и комиссован, работает в пресс-центре ремзавода боевой техники, а вот Олег…
Может, поэтому, может, потому что сидеть без дела Олег не любил, а может, старый любимый друг, седельный тягач, скучал, простаивая без дела, год назад решился Олег примкнуть к волонтёрам. Которые гуманитарку возили. Неимущим и обездоленным из Города. Договорились просто: раз в неделю, по выходным, они собирают прицеп, а он довозит прицеп до Города. В четыре утра выехал, к двадцати ноль-ноль в Городе. Переночевал в кабине – и обратно. Оплаты не надо, только солярка и амортизация. И пока не началась «горячая фаза», всё вполне в этом духе и происходило, а вот сейчас…
Сейчас уже больше трёх месяцев идёт специальная военная операция, и гуманитарки нужно больше, много больше, в разы. А возить её из приграничных районов уже невыгодно, цены-то тут тоже поднялись. Так что теперь у Олега «плечо» целых три дня: забросил он свой частный бизнес, перешёл полностью на волонтёрку – а что? Есть-пить в дорогу дают, если напарник есть, то и отоспаться в машине можно, а на помыться-побриться вполне хватает тех суток на базе, пока документы оформляют, новый прицеп грузом набивают. Зато всё, как хотел, «всё для фронта, всё для победы», а недовольных он из-за руля не видит и не слышит.
Тут-то и Димка пригодился: его ремзавод разбомбили, да и Димке опять прилетело, контузия. Ни на службу, ни на работу не берут, врачи не пускают. А сам он в рейс – да хоть вчера, не говоря про «прям сейчас».
Так и стали Олег со старым дружком напарниками.
А у Димки – радость пополам с горем. У старшей дочки сын родился, а муж её, зять Димкин – ранен, в госпитале. Так что забрали Димкины дочку с новорождённым опять к себе, а квартиру их сдают, чтоб было за что раненому в госпитале помогать. И позвал Димка Олежку стать маленькому Николушке крёстным.
Сам-то Димка ох как непрост! Хоть и числился в ополчении, так же как и Олег, мехводом, но «верхних» образований у него аж три: учитель, журналист, потом вот ещё семинария духовная. Работал, правда, до войны только журналистом, то в газете, то на телевидении местном, то на радио, и даже в Интернете что-то писал, но так в церковный путь и не пошёл. Может, не успел, а может, и сам не захотел. Отнекивался, мол, в церкви по несколько лет ждут, пока место где-то освободится. Но ведь Олег Димку давно знает, не очень и верил: Димка он как ветер, ему всё интересно, он, как любопытный котёнок, всюду нос свой сунет, а вот чтоб потом взять и сделать – тут вот и слабина. Основательности ему не хватает, массивной решимости, инерции разгона. Ну как у легковушки-седана по сравнению с седельным тягачом: взялся – делай, не петляй и не вихляй…
* * *
– Миром Господу помолимся! – снова возопил диакон и выдернул Олега из размышлений внутрь храма. Под неразборчивое дребезжание хора «на сцене», как подумал Олег, наметились изменения: сбоку от Царских Врат открылась дверца, и ещё один батюшка вынес сначала аналой, а потом толстенный том Евангелия. Вынес, положил и опять ушёл в алтарь, или как это называется. И опять гулкое эхо, высокие старческие голоса, неразборчивые слова – Олег опять поплыл, провалился в созерцания-воспоминания.
Не успел Олег согласиться стать крёстным отцом («ха! крёстный отец – это почти что как у Марио Пьюзо, да?»), как тут же нарвался на целую лекцию, точнее даже целый курс лекций о том, что такое крёстный отец в православии, и почему крёстный отец мафии – это кощунство даже для католической ереси, не говоря уже об истинной вере. Олег даже спорить пытался, мол, всё правильно дон Карлеоне делал, вот посмотри, по заповедям ведь так положено, но переспорить Димку было невозможно: откуда-то взялся жар веры и ярость проповеднического дара у старого дружбана.
Но больше всего поразила Олега мысль, мол, мы судим в гордыне своей о чужих и своих грехах, не отделяя их от Даров Божьих: ведь если дон Карлеоне так всё обустроил, это не он сам такой, это Бог ему дал, а вот использовать Дар во благо или во зло – это уже от человека. «Что же получается, моя нелюбовь болтать – это тоже Дар? И любовь к дороге, к перемене мест, ехать и смотреть – не слабость, а Его Дар? И вот эта нетерпимость, непримиримость хоть с женой, хоть с Лизаветой – тоже Дар? А как я могу их использовать? И то, что я это грехом считал – это какой грех?»
Так всю дорогу до базы в прошлой поездке Димка про это и трещал, даже утомил Олега. Даже «на слабо» выдержать пост и евхаристическое говение старого дружка ловил. А когда уже на базе спать ложились, вымытые-чистые, да на белые простыни да мягкие кровати, чтоб угомонить поток слов друга или чтоб самому себе путь отступления закрыть, молвил Олег, как отрезал: «Хорош базлать! Сказал – сделаю! И пост, и это твоё, как его, говение!» Димка только хмыкнул «Ну-ну!»
А наутро, не успел Олег в столовке на выдаче заказать свою любимую яичницу, тут же напомнил: пост полный, то есть ничего, имеющего животное происхождение. Птицы – тоже животные, яйца их и подавно!
Только хрюкнул Олег, взял четыре булки с разным сладким, один кофе, два стакана чаю и песочных коржиков. И целых полчаса это всё в себя запихивал под удивлённые взгляды столовкинских.
Зато в обед Димка сам Олегу картошку пожарил с грибами. Да ещё хлеб поджарил. И пока Олег это всё наворачивал – ох и вкусно Димка готовить умеет! – ещё гречку на ужин замочил и поджарку овощную к ней сделал. И тарахтел, и тарахтел, и всё на божественные темы, то проповедь, то молитву, то Символ веры с пояснениями – еле утихомирился, когда за руль сел. А Олег за спину, на полку для сна, и, как ни странно, заснул как убитый, хоть и не любил спать днём.
Так и пошёл их путь в этой поездке: когда один за рулём, другой спит, общаются только на стоянках, при трапезе (он уже три дня сказать «еда» не может, только «трапеза»). Зато сон сразу стал как у младенца, и даже от запаха курева Олег не просыпался, хоть и сам курит, но во сне терпеть этот запах никогда не мог.
И, размышляя о сути Крещения, и вспоминая свою жизнь, Олег уже по-другому видел всё то, что с ним в жизни случилось, где-то чуть-чуть, а где-то и совсем по-другому. Но дорога лучше не становилась, а чем ближе к Городу, тем, наоборот, хуже. Даже на свои крейсерские восемьдесят в час Олег теперь гнать тягач не решался, сорок – пятьдесят, иначе и тягач, и груз угробишь.
А в последний день Димка Олегу как будто испытание устроил: ранним утром, после ночи за рулём, Олег картоху в мундире в соль да в масло постное, а Димка ту же картошечку мелко нарезал, да с салом и яишней; в обед, проснувшись, Олег гречу с уже поднадоевшей поджаркой, а Димка с фрикадельками в томате; на ужин – это они уже на таможне стояли, – Олег осточертевшие макароны как резину жуёт, а Димка их со сгущёнкой, да с сыром… Олег только вздохнул, кусок хлеба намочил, в сахар макнул, на жаре плитки сахар расплавил и с такой карамелиной за руль и полез, как раз подъезжать нужно было.
* * *
Тут и исповедь началась: первым был дедуля с палочкой, такой дряхлый, что, кажется, чихнёт и развалится, второй бабулька божий одуванчик, её две внучки к аналою под руки вели, дальше уже и Олегова очередь.
Посмотрел Олег на аналой с Евангелием и большим крестом с камушками, на батюшку молоденького, щупленького да подслеповатого, мелкого – на две головы ниже Олега, – и шагнул вперёд, как в воду холодную, прорубь крещенскую. Шагнул, положил обе руки на Евангелие, глянул в глаза батюшке и выдал:
– Грешен я, отче!
Выдал и подумал, а почему это он к батюшке сейчас, как в юности, в секции французской борьбы; чуть ли не глаза в глаза, как с противником, разве что ещё руки его, тоже на аналое лежащие, не схватил для броска? Но уже не мог остановиться, понесло служивого:
– Грешен прежде всего грехом гордыни. Тем, что сам о грехах и Дарах Божьих рассуждать гордыню себе позволил. Не только о своих, но и о чужих. Ведь это грех, батюшка? – и глянул прямо в глаза молоденького попика, и сам себя поймал, что смотрит в глаза батюшке, как в визир скорострелки БМП, цель для стрельбы ищет. Тут и батюшка проблеял:
– В-вы, наверное, хотите исповедоваться? По-п-просить от-тпущения грехов? В-вам нужно причастие?
И Олег как будто два камня со своих плеч сбросил, на голову щупленького батюшки скинул:
– Так точно! – и поцеловал Крест и Святое Евангелие.
Накрыл батюшка голову Олега своим облачением, да затараторил, запричитал что-то очень важное, судьбоносное, молебенное, божественное, но водитель его уже не слушал, точнее, слушал, но не слышал. Он опять вспоминал.
* * *
Долго стояли на таможне, очередь большая: сначала Россия не выпускала, чего-то там у кого-то нашла, а потом Республика не впускала, затор из машин у них. Практически часов пять на солнце жарились, Олег уже успел сходить огурцов-помидоров домашних купить, с лучком салат должен получиться знатный. Забрались в кабину, на солнце раскалённую, завелись, да вниз с таможни, в стоялую безветрием вечернюю жару со своим прицепом и окунулись.
Олег опять за рулём, а Димка не спит, справа на пассажирском сидит. И видит Олег, что с Димкой что-то не в порядке: лицом раскраснелся, дыхание частое да прерывистое, глаза слезятся, речь сначала неразборчивая, а потом вообще заикаться начал. Тут и вспомнилось, что сам за после обеда уже раз пять по маленькому сбегал, а дружбан ни разу. Олег за руку Димку схватил, а у того и пульс частит, и бухает так сильно, что кошмар.
«Э-э-э, да это криз гипертонический!» – сообразил Олег, у самого такое было. Остановился, все окна настежь – а толку, за окном всё ещё жара! – Димку на лежанку за спинки, спинку пассажирского вниз, на сидушку, и ноги дружбана ремнём безопасности, чтоб не вздумал наверх поднять. И в аптечку, а там уже и каптопреса нету. Как же так, при погрузке два лепестка таблеток было? Выходит, Димка сам, в одно горло, все двадцать таблеток и приговорил?
Дело как раз на развилке было, им направо, в Город ехать, но это ещё полторы сотни километров ни одной толковой больнички. Зато если налево вперёд, то всего через двадцать – тридцать кэмэ госпиталь армейский. Там точно помочь смогут, но вот возьмут ли их, гражданских? Да и дороги на этих кэмэ отродясь не водилось, доедет ли Димка?
Огурцы! – вспомнил. Это ведь тоже мочегонное! А ну-ка, в аптечке тоже фуросемид водиться должен… Точно, есть! Так, выпей таблетку! И вот я тебе мякоть из огурца, ложкой – жуй! Жуй, кому говорю! И вот ещё одну! И вот тебе ещё пара килограммов огурцов, хочешь – целиком, хочешь – только мякоть, но чтоб через полчаса не было ничего! Это приказ, солдат! – гаркнул Олег на друга и повернул налево.
Целый час полз эти несчастные километры, такая дорога, что с прицепом – почти совсем никак. А бросить прицеп с гуманитаркой на трассе… Нет, этого уже совесть позволить не могла. Как раз они подъезжали, как обе створки ворот открылись, одна на въезд скорой, другая на выезд, вот туда-то Олег и протиснулся, включив свет в кабине и подфафакивая, и прямо за скорой в приёмный покой, на руках Димку тащит.
Врачи только глянули – всё сразу поняли, укол, капельница, тут Димка утку и попросил. Глянул Олег на то оранжево-мутное, почти коричневое, что в утку лилось, тут ему и самому поплохело. А врач ему:
– А чем вы мочегонное стимулировали? Огурцом? Правильно, верное решение, а то бы не довезли. А теперь давайте оформим документы…
Вот тут-то всё и понеслось. Чуть было не арестовали, ведь, по идее, он об этом госпитале и знать не должен. Хорошо, личная карточка в архиве сохранилась с пятнадцатого, и его, и Димки.
Почти в полночь выехал Олег на ту самую развилку, за это время и наговорился, и наоправдывался, и накурился, и кучу бумаг наподписывал, так что вообще ничего не хочется. Сунул руку в пачку сигарет – а там пусто. Глянул на бутылку с минералкой в держаке возле руля – тоже пустая. В бардачке сигареты есть, в холодильнике вода тоже, но отвлекаться посреди ночи по таким дорогам – себе дороже. И тут же вспомнилось, с полуночи до исповеди и причастия не есть, не курить, сексом не заниматься! Не вопрос, подумалось, если не считать сексом то, как ему только что мозг полоскали, то на то и еврахистическое говение, не курить, не есть, получается, и не пить. И быстрее, нужно до четырёх успеть, пока на точке приёма та смена, которая его ждёт! Если не успеет, то поутру ещё кучу бумаг и тонны объяснений…
Успел. В последние минуты успел. Приехал, документы передал, прицеп в указанный бокс скинул, целостность пломб проверил-расписался, сдал-принял, и уже почти что в пять выехал за ворота склада. И почему-то никак не мог остановиться, как будто в спину его что-то толкало. Так к шести к ограде храма, центрального в Городе, он свой седельный тягач и припарковал. Патрульные и полиция подозрительно косились, но пропуск-«вездеход» волонтёрский на стекле имеется, действующий, значит, наверное, право имеет. И ещё почти что час ждал, пока служба начнётся, присел на лавочке возле входа в храм и ждал. Вот в таком же мареве, между обмороком и явью. И уснуть не получилось, и проснуться не удалось…
* * *
Как раз началось Святое причастие. Вынесли Святые Дары, выстроилась очередь, Олег опять за древней бабусечкой с внучками под ручку. Снова вопросы-ответы. Олег, не сообразив, хотел Символ веры вслух прочитать, но остановил батюшка, видно, самый главный, седой, благообразный, а тот самый мелкий и щупленький, которому водила исповедовался, по правую руку от главного стоит, что-то в ухо шепчет. Подали с длинной серебряной ложечки Святое причастие – мелкие куски просфоры, в кагоре вымоченные, а церковная староста – женщина, но помоложе, где-то Олегова возраста, – уже просфоры и святую воду в рюмке подаёт.
Закусил Олег, запил, стал среди других молящихся, и вдруг такое на него снизошло… Нет, слов лучше слышно не стало, да и как чувствовал себя прежде здесь не совсем на своём месте, так и теперь, но вот как будто очень трудное дело сделал, и сделал хорошо. Ну или гонку какую трудную сам с собой выиграл. Как будто победитель, но победитель прежде всего самого себя.
Дождался паузы в молении, бочком-бочком – и вышел из церкви. Смотрит, напротив главного входа в храм асфальт выщерблен, прилёт был! Как близко, а он и не слышал. Точнее, слышал, наверное, но внимания не обратил. Сунул по привычке руку в карман – а сигарет-то по-прежнему нету. Вон, тягач его седельный, там точно есть – пошёл к машине.
А в бардачке как раз на блоке сигарет – коробочка пластиковая прозрачная. В ней два яйца, пузырёк соли и игла – сообразил, что это Димка ещё вчера о нём позаботился, что яйца сырые. Аккуратно иглой проковырял яйцо, посолил, выпил. Ещё одно – сразу в мир как будто краски налили. Вздохнул с облегчением, потянулся к сигаретам – зазвонил телефон.
Димкин номер:
– А-алё, т-ты д-доех-хал?
– Всё нормально, Димуль, я уже из храма после причастия, самое главное – ты не волнуйся! Ты – как? Как здоровье?
– Жж-жить б-буду. Ч-чего зв-воню… К-крестин-нны п… перен-носятся!
– Да я и так уже всё понял! Подождём! Главное – ты выздоравливай! Жену твою, Люсю, к тебе не привезти?
– П-поз-звон-нили ей… Й-едет! С-сама! С доч-чкой и в-внуком!
– Ну вот и слава богу!
– Богу с-слава! – И отбой.
Вздохнул. Потянулся в почти нагревшийся холодильник, достал бутылку воды, открыл, чуть хлебнул, потом приложился и махом полбутылки. Оторвался, вытер пот, достал из блока пачку, распаковал, сигарету в зубы – и остановился. Мысль резанула, мол, если причастился, что, можно дальше грешить? Вспомнил заповеди, перевёл в список грехов, мол, с которого начнём?
Посмотрел на телефон в руке. И решительно затолкал сигарету в пачку, захлопнул пассажирскую дверцу, пошёл к водительской. Всё не так. Не во всём покаялся, не во всех грехах прощён. Теперь всё по-другому. Даже если не без греха. Сначала поедем. К жене. Мириться. Ведь не у всех Дар воевать и побеждать. Кому-то Он дал и Дар хранить дом. Хотя бы чтоб было куда воякам возвращаться. Даже прошлым. Бывшим. Не только с дырочкой в правом боку. А, даст Бог, ещё и с Победой…
Валерий Поволяев
Позывной «Север»
Раз позывной «Север» – значит, дело будем иметь с северным человеком. Так? Но Яско родился не на севере, а в Воронежской губернии. После окончания мореходки – училища, давшего ему среднее специальное образование и профессию, он очутился в Заполярье. Там, как всякий советский гражданин мужского, извините, роду, выполняя свой долг, одел военную форму. Через некоторое время получил звание мичмана и соответственно – мичманскую должность.
С подчиненными был строг, но при этом, если он давал кому-то наряд вне очереди, никто не обижался: мичман Яско был справедлив до дотошности, если можно так выразиться, и такую штуку, как правда-матка чтил примерно также, как устав воинской службы.
На Севере он и плавал, и на берегу работал, и в горы его забрасывали, и в тундру, и в снежное безмолвие – в крутые здешние пустыни, в которых даже полярные волки не водятся – где требовалась его голова и руки, там Яско и можно было найти. При этом просматривалась одна характерная вещь – почти всегда это была передовая линия, впереди находились лишь неприятельские окопы, заметим на всякий случай, – исключений не существовало. И к этому мичман Яско привык.
Жизнь его сложилась так, что после Заполярья и северных морей, способных укачать кого угодно, он служил на суше, заякорился на ней – это было на его родине, в Воронежской области, потом покорпел на гражданке – было и такое, и это ему очень не понравилось… Тогда он, перелистнув несколько страниц в своей биографии, вновь попросился на воинскую службу.
В результате оказался на Камчатке, в морской пехоте, в отдельном инженерно-саперном батальоне. Там Яско пришлось пройти все огни и воды и пролезть через медные трубы, которых оказалось невиданное количество, хлебнул он всякой маеты по горло; и награды там имел, и выговоры, и с несправедливостью столкнулся, и слава богу – со справедливостью. Очень непросто складывалась его жизнь.
На Камчатке он практически и выработал свой воинский ресурс. У военного народа ведь много разных ограничений, а особенно много – связанных с возрастом. Если, допустим, полковнику, очень толковому служаке, положено в пятьдесят пять лет уйти в отставку, то на пятьдесят шестой возрастной год в армии его может оставить только, как я полагаю, министр обороны… Ну еще два-три человека в министерстве и не более того.
Подошел «дембельский» срок и у командира взвода морской пехоты, прапорщика, обладавшего мощными инженерными знаниями… Делать было нечего, раз приказали идти на заслуженный отдых – значит, надо идти, Хотя он ощущал по себе, по своему состоянию, что еще лет пятнадцать мог бы носить погоны и с большой пользой служить Родине. Слово «Родина» в данном разе надо писать только с большой буквы, – не как это делают потерявшие всякую ориентацию, в том числе и половую, братья-украинцы.
Это они – они, а не москали – ввели в свой обиход, новое обществоведение, новую грамматику, новую историю, когда слово «сало» пишется с большой буквы, а «Москва» – с маленькой, это из их затейливых игр… А уж фраза, смахивающая на звонкую поговорку из трех слов, «Москоляку на гиляку», придумана и пущена гулять по белому свету западенцами, нынешними бандеровцами, соскучившимися по дедам и прадедам своим из Галиции и карпатских лесов, прославившихся в свое время умением сдирать кожу с живых людей чулком и делать из нее баретки.
Вообще-то Украина сделалась чужой с того проклятого дня, когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали бумагу о развале огромной страны – не побоялись ни народов своих, ни предков, ни потомков, ни суда истории, ни суда обычного, уголовного, – не думали ни о людях, ни о будущем земли своей, вообще ни о чем другом, кроме куска власти, который считали нужным захапать… Из-за этого и замахнулись без всякого сожаления на страну, в которой жили, разломали ее на ломти… Развели по обе стороны дороги близких родственников, родных братьев и сестер сделали чужими и даже не поморщились. Какую непотребную душу надо было иметь, чтобы все это сотворить.
Сотворили, не поленились, хотя пьяными особо, как слышал Яско, не были.
С тех беловежских Вискулей и начались гонения на русских. Только вот Донбасс с бандеровскими посягательствами да с гонениями не согласился – шахтеры, люди серьезные, взялись за автоматы. И тут современные киевские жовто-блакитные атаманы взвихрили свои хвосты до самого неба.
Дело дошло до того, что украинская власть даже запретила разговаривать на Крещатике по-русски – только на мове, либо на каком-нибудь другом языке, на английском или тарабарском, на малопонятных наречиях Крокодиловых островов либо мыса Сутулых обезьян, но не на русском… Иначе на первый раз штраф, на второй – кутузка с временной отсидкой, на третий – тюрьма с бандеровскими надзирателями, из которой вырваться уже вряд ли удастся… Забьют сапогами.
Это вызвало у Яско не то чтобы недоумение, а состояние некого холодного, очень горького ожога. Ведь для русского человека русский язык – кровь и плоть на все времена и во все времена кровью и плотью останется, это дыхание души, биение собственного сердца, если одного или другого вдруг не станет, то и человека не станет, вот ведь как. И Родины не будет.
Почему русский человек должен говорить на Крещатике, на киевских улицах по-тарабарски или трещать, будто насекомое, мовой мыса Сутулых обезьян? А когда русских начали убивать только за то, что они – русские, Яско достал из чемодана походную армейскую форму и поехал на донецкую землю – защищать Донбасс и Россию. И вообще понять: за что убивают русских?
За то, что они всегда относились к украинцам с братской нежностью, делили поровну победы и поражения, сладкое и горькое, белое и черное, ничего худого не таили, не прятали в скрадки что-нибудь лакомое и вкусное, чтобы потом съесть все в одиночку либо вообще воспользоваться правом «старшего брата» и подтянуть к себе не только тарелку, но и всю кухню с кулинарией, борщами, мясными блюдами и «десертной частью»… Не было этого, никогда не было.
Так какая же черная кошка пробежала между братьями, кто недоглядел?
Когда-то мичман Яско был человеком неверующим и по настоянию родного замполита внушал то же самое своим подчиненным; если кто-то поминал Бога, взгляд у мичмана делался железным, в него наползал холод.
Как-то поздней осенью, а если точнее – наступившей полярной зимой, столько в ней было холода, льда, ветра, страхов и опасностей, они вышли в море… Совсем не верилось, что море это подогревается теплым иноземным течением, не дающим льдам здешним слепить плотную кольчугу и накрыть ею здешние соленые просторы.
Погода была отвратительная, более, чем просто штормовая, эсминец мотало так, что из палубы вылетали заклепки, пулями уносились в мутную ночную высь. Яско проверял посты – не смыло ли кого? И в самом тряском месте обнаружил доходягу-матроса, совершенно синего, с пупырчатой от холода кожей на лице, и так мичману сделалось жаль его, что хоть плачь – загнется ведь парень в ближайшие часы, совершенно точно загнется…
И мичман, сдвинув шапку с крабом на нос, почесал пальцами затылок и сказал пареньку:
– Знаешь что, мореход ты мой отважный, дуй-ка ты в кубрик, отогрейся там… Не то у тебя сопли в ноздрях скоро в ледяные сосульки обратятся, понял? А это нехорошо. Командир корабля тебя за такие фокусы компота лишит.
Парнишка притиснул ладонь к шапке, просипел в ответ что-то невнятное – слова у него примерзали к зубам – и исчез. Паренька этого надо было беречь, к такому выводу пришел мичман Яско.
А эсминец продолжал идти в ночь, переваливался с боку на бок, резал носом тяжелые, будто из чугуна отлитые волны, пофыркивал маслянисто машиной – он служил людям, нес, как и они, свою вахту.
Прошло минут тридцать, ленты полярного сияния, лениво шевелившегося над головой, неожиданно ожили, обрели яркость и начали набирать цвет. Очень часто сияние бывает блеклым, почти выцветшим, – все зависит от силы мороза, движения высотных ветров и небесных перемещений.
Ночь начала понемногу отступать, света становилось все больше, в черных морских волнах начали танцевать яркие всполохи, они играли беззаботно, перескакивали с гребня одной волны на гребень волны другой. Света по-прежнему становилось больше, внезапно Яско даже присел от неожиданности.
Он поднял голову и увидел… увидел Бога. Да, он увидел Бога, живого, стоявшего в высоте с крестом в руках и смотрящего на него. Яско поспешно опустился на колени. Опустившись, стал молиться.
Он не знал ни одной молитвы – не получилось по жизни, и вообще его поколение, как и несколько поколений предыдущих, воспитывалось в духе атеизма, – Бога, мол, нету, и сам мичман много раз внушал своим подчиненным: его действительно нет, а он есть. Вот он, Всевышний, стоит среди облаков, освещенный лентами северного сияния, будто неоном, разглядеть его можно очень хорошо.
Молитвы одна за другой всплывали в его голове, возникая то ли из сердца, то ли из души, скорее, из всего этого, вместе взятого, помноженного на прожитую жизнь, на веру предков, на жизни тех из его рода, кого уже нет в живых – похоронены в Воронежской области, на влекущий нравственный зов, заложенный в нем, на веру его собственную. Человек без веры жить не может, без веры он превращается в недочеловека, который в этом мире долго не протянет.
В последующие годы Яско увидел Богородицу. Произошло это на Камчатке, в Петропавловске. В ненастную пору он стоял на автобусной остановке, ждал, когда же прибудет расхлябанный рейсовый, который в последнее время стал ходить очень уж редко. Богородица возникла в сером ветреном пространстве, находилась совсем близко, причем Яско отметил одно: он видел Матерь Божию, хорошо видел, а вот люди, толпившиеся рядом с ним под козырьком неказистого строеньица, защищавшего ожидавших от дождя и ветра, Богородицу не видели.
Позже, уже в Подмосковье, в вечернюю, почти ночную пору, ему было видение трех святых старцев. Мудрые, древние, похожие на изображения, которые Яско встретил лет пятнадцать назад на страницах рукописных рисованных книг в одном из питерских музеев… Изображения те притягивали к себе, хотелось смотреть и смотреть на них, понять, что за сила заложена в изображениях… Сила эта была добрая, очень добрая.
Появившиеся в его небольшой, хорошо протопленной комнате старцы были мичману знакомы – ну будто он сам очутился на страницах той самой рукописной книги. Он теперь знал молитвы, каноны и псалмы, по возможности соблюдал посты, причем Великий пост старался соблюдать неукоснительно, несмотря на его строгость и собственные служебные обстоятельства – боевые дежурства, походы и учения, и при первой же возможности обязательно шел в храм. Где бы он ни был, в каком городе или селе ни находился. Это стало у него правилом.
А что касается первого видения, освещенного полярным сиянием, то оно прошло с Яско через всю его жизнь. Как главная его икона, главнее не было. И всякий раз, когда ему делалось тяжело, судьба зажимала в свои железные тиски – так сдавливала, что дышать делалось нечем, он вспоминал бурное северное море с водой, имевшей минусовую температуру, волны с кудрявыми серыми шапками, бьющие корабль в скулы слева и справа, неспокойно перемещающееся полярное свечение с его затейливой игрой и Всевышнего, смотрящего на человека с небесной высоты.