Воздушная битва за Сталинград. Операции люфтваффе по поддержке армии Паулюса. 1942–1943
Tekst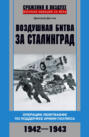


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 630 str. 11 ilustracji
- Kategoria: wojskowość, siły specjalne, literatura historyczna
8-я воздушная армия осуществила 291 вылет. По советским данным, было сбито 9 самолетов при 3 потерянных. Летчики отчитались о 28 уничтоженных танках и 59 автомашинах. Как и в предыдущие дни, значительная доля вылетов – 68 – пришлась на 434-й ОИАП майора Ивана Клещева. Свой первый групповой вылет для прикрытия Калачской переправы полк выполнил в 04.30–05.25. В районе цели семерка Яков провела трудный воздушный бой с четверкой Ме-109Ф. Капитан Борис Пендюр сбил один мессер, два советских истребителя вернулись в Гумрак с тяжелыми повреждениями. Так, у Як-7Б лейтенанта Прокопенко была пробита система сжатого воздуха, разбито хвостовое оперение и прострелены лопасти винта. С трудом летчику удалось совершить посадку, при которой машина упала на фюзеляж и получила новые повреждения. А вот как журнал боевых действий описывал подробности вылета семерки Яков, состоявшегося в 06.15–07.20: «Не доходя до района прикрытия в районе Илларионовский нашими самолетами было встречено б самолетов противника Хе-111, шедших по направлению к Сталинграду. Звено наших самолетов под командой капитана Пендюр атаковало эти самолеты, после атаки они беспорядочно сбросили бомбы в поле и, развернувшись, пошли на запад. Наши самолеты, преследуя и атакуя, гнали их за Дон до района В. Голубая. Один Хе-111, ведущий второго звена, задымил и пошел со снижением. При атаке Хе-111 с близкой дистанции капитаном Пендюр с хвоста Хе-111 была пущена струя газообразного зеленого вещества, предположительно газа». В общем, атака в решающий момент сорвалась будто бы из-за неожиданного и коварного применения противником отравляющих веществ (на подобные факты наши летчики жаловались неоднократно и на разных участках фронта). А вот второе звено все-таки долетело до переправы и сбило там один Ю-88 (победа записана капитану Ивану Голубину).
В 10.15 эта же группа летчиков снова вылетела на прикрытие переправы у Калача. Там снова не было скучно, по прибытии на место они увидели большую группу «Штук», поочередно пикировавших на мосты, а вся местность внизу была окутана дымом. Если верить донесениям полка, последующий бой опять закончился полным разгромом противника: было сбито 4 Ю-87 и 1 Me-109. Сразу две победы одержал командир полка майор Клещев, заваливший два «лаптежника». Но не обошлось и без потерь: был сбит Як-7Б лейтенанта Рубцова, который погиб.
Для 156-го ИАП день сложился неудачно, прервав его «белую полосу». Во время вылета на разведку в районе Ерицкого были сбиты зенитной артиллерией истребители старшего лейтенанта В. И. Самохина и сержанта С. В. Жекова. А в 14.05 аэродром Верхне-Кумский, представлявший собой просто передовую площадку посреди бескрайней степи, был внезапно атакован большой группой Bf-109, которые уничтожили 3 ЛаГГ-3. После этого полк перебазировался в Абганерово, а потом постоянно менял места дислокации.
Немцы отметили многочисленные удары штурмовиков по плацдарму на реке Чир, действия бомбардировщиков и разведчиков в полосе 8-го армейского корпуса на северном фланге 6-й армии.
«Части измотаны морально, командиры настроены панически»
Тем временем разгромить немцев в районе Верхнебузиновки не удалось, а 30–31 июля подразделения 13-го танкового корпуса и нескольких стрелковых дивизий, которым удалось прорваться из котла, подвергаясь постоянным авиаударам, в беспорядке отошли на северо-восток к станице Голубая. «Части измотаны морально, командиры настроены панически, – сообщалось в журнале боевых действий фронта. – Полковник Журавлев, которому была поручена эта группа, пал духом и бездействовал». 8-я воздушная армия за два дня осуществила 828 вылетов, доложив о 80 поврежденных и уничтоженных танках, 300 автомашинах, 40 конных подводах и 12 сбитых самолетах. Немцы отметили очень сильные бомбовые налеты вражеской авиации по позициям и тылам 51-го армейского корпуса на Чирском плацдарме, осуществленные 30 июля. Потери от бомбардировок оказались очень серьезными (по немецким меркам): в 71-й пехотной дивизии было убито 17 человек и 75 ранено, в 297-й пехотной дивизии – 15 убитых и 79 раненых, в 44-й пехотной дивизии – 1 убитый и 8 раненых.
На следующий день советская авиация в основном бомбила и обстреливала уже позиции 8-го армейского корпуса в северном секторе. Так, 434-й ОИАП трижды группами по 14–15 истребителей сопровождал бомбардировщики Пе-2 в район Липоголовского. В ходе первой миссии летчики стали свидетелями воздушного боя и наблюдали, как сбитый парой мессеров ЛаГГ-3 горящим упал на землю. Звено капитана Ивана Голубина отделилось от эскорта и атаковало немцев. Старший лейтенант Иван Избинский утверждал, что его 20-мм снаряды рвались в фюзеляже Me-109, после чего тот резким пикированием ушел через облака к земле. Во время второго вылета уже сам капитан Голубин сбил еще один «Мессершмитт», который упал в районе Голубинской.
Собственные же потери 8-й воздушной армии за два последних июльских дня оказались очень большими, только 31 июля пропало без вести 30 самолетов. К примеру, 440-й ИАП потерял за последние два дня месяца сразу 6 ЛаГГ-3 и четырех пилотов – младших лейтенантов И. И. Петрова, И. И. Гутгарца и сержантов В. Д. Дуракова и П. Г. Кулака. Интересно, что 434-й ОИАП, в отличие от других полков, не понес в последнюю декаду июля никаких серьезных потерь и к тому же сохранил большую часть матчасти (был по-прежнему способен выполнять до 60 вылетов в день). Но командование по какой-то причине решило поберечь эту элитную часть до лучших времен. Уже в начале августа полк был переброшен для отдыха и доукомплектования на подмосковный аэродром Люберцы. Это в значительной степени «оголило» сталинградское небо перед августовскими сражениями.
Несмотря на некоторые неудачи, Гордову и Хрущеву удалось нанести передовым немецким частям, значительно оторвавшимся от своих тылов, серьезные потери и задержать их. К примеру, 14-й танковый корпус с 23 июля по 2 августа потерял в общей сложности 67 танков и САУ, в том числе 3 Pz. II, 52 Pz.III и 3 Pz.IV. План генерал-оберста Паулюса по быстрому захвату Сталинграда силами выброшенных вперед танковых и моторизованных дивизий провалился. Уже в конце июля штаб 6-й армии, проанализировав состояние частей 14-го ТК, признал все четыре входящие в него дивизии (16-я танковая, 3-я и 60-я моторизованные, 113-я пехотная) «пригодными для ограниченных наступательных задач». В корпусе после тяжелых сражений насчитывалось 205 танков (26 Pz. II, 149 Pz.III, 30 Pz.IV) и 17 штурмовых орудий. Состояние действовавшего южнее 51-го армейского корпуса было несколько лучше: пехотные батальоны имели от 40 до 60 % боевой силы (по немецкой шкале), 24-я танковая дивизия сохранила 85 % боевой силы. Корпус располагал 138 танками (27 Pz. II, 84 Pz.III, 27 Pz.IV), 17 штурмовыми орудиями и считался пригодным для любых наступательных задач.
Понесла потери и зенитная артиллерия люфтваффе. С 26 июля по 3 августа 9-я зенитная дивизия доложила о 26 сбитых самолетах, уничтожении 35 танков, 3 установок залпового огня, 13 орудий и 91 пулеметного гнезда. «В двух случаях, после оборонительного боя с наступающей пехотой противника, на поле боя перед тяжелыми батареями было насчитано 500 убитых», – говорилось в отчете. Собственные потери зенитчиков составили 6 орудий (5 88-мм зениток и 6 калибра 20-мм), 13 автомобилей, 28 убитых и 114 раненых.
«После боев на западном берегу силы армии будут слишком слабы для выполнения дальнейших задач, а именно взятия Сталинграда», – констатировал штаб 6-й армии 30 июля. Паулюс сообщил командованию, что дальнейшее наступление возможно только при участии 4-й танковой армии, после пополнения дивизий и восстановления нормального снабжения. Все эти дни бензин и боеприпасы для танков, вышедших к Дону, доставлялся только транспортными самолетами, перевозившими примерно по 200 тонн горючего в сутки. Посадка и разгрузка осуществлялась на нескольких площадках в степи к юго-востоку от Верхнебузиновки и в районе Нижнечирской. Поскольку на доставку запрошенных Паулюсом 1000 тонн грузов требовалось как минимум 5 дней, он попросил у командования 6-дневную паузу, перед тем как начать новое наступление.
Характерно, что во время боев к западу от Дона ни штаб Сталинградского фронта, ни штабы подчиненных ему армий не жаловались на безраздельное господство вражеской авиации, как это было за месяц до этого под Воронежем. Более того, бомбардировщики и штурмовики люфтваффе появлялись над полем боя лишь эпизодически, в основном нанося удары по переднему краю обороны или атакующим советским войскам. В ближнем тылу можно было относительно спокойно проводить перегруппировки, бесперебойно осуществлялось снабжение, а в небе нередко можно было видеть воодушевляющие бойцов полеты своих штурмовиков и истребителей.
Все дело в том, что в конце июля – начале августа люфтваффе было попросту не до Сталинграда. 20 июля Вольфрам Рихтхофен прибыл в новую штаб-квартиру в Мариуполе на побережье Азовского моря и на следующий день наконец официально возглавил 4-й воздушный флот. Примечательно, что приказ о назначении был напрямую подписан самим фюрером и вступил в силу еще 3 июля, однако был по какой-то причине задержан рейхсмаршалом Герингом. Штаб флота поначалу встретил Рихтхофена без воодушевления. «Я действительно имею репутацию ужасного начальника, – писал он в дневнике. – Здесь все боятся моей жестокости. Дела здесь делаются настолько вяло, что я не буду в состоянии долго сдерживать мой темперамент». В первую очередь новый командующий считал, что штаб флота погряз в административной и бюрократической работе, удалившись от линии фронта.
Рихтхофен же решил управлять им по привычной схеме VIII авиакорпуса. Последний теперь возглавил его протеже генерал Мартин Фибиг.
Первыми мероприятиями Рихтхофена на новой должности стала реорганизация IV авиакорпуса Пфлюгбейля по типу корпуса, которым ранее командовал он сам. Кроме того, после захвата Воронежа 2-я армия начала строительство долговременных оборонительных укреплений вдоль линии фронта, а венгры начали укрепляться южнее на западном берегу Дона. Чтобы не отвлекать на этот участок, ставший второстепенным, силы наступающего VIII авиакорпуса, для действий в этом районе была сформирована Тактическая авиационная команда «Норд» (Gefechtsverband «Nord») под командованием оберста Альфреда Бюловиуса. Первоначально в ее состав вошли I. и III./KG27, Aufkl.Gr.10, а также временная истребительная авиагруппа. Задача, поставленная команде, была простой: поддержка боевых действий 2-й армии. Бомбардировщики должны были атаковать советские аэродромы, а самолеты-разведчики осуществлять непрерывное наблюдение за тыловыми районами к северо-востоку и востоку от Воронежа.
Венгры имели свою авиацию, которая состояла из пяти отдельных эскадрилий: бомбардировочной (на Ca-135bis), истребительной (на Re-2000), дальнеразведывательной (He-111H-6/ R2), ближнеразведывательной (He-46K-2) и транспортной (на Ju-86K-2). Несмотря на то что воронежское направление у немцев считалось второстепенным и бои в воздухе трудно было назвать интенсивными, венгры умудрились до начала советского контрнаступления потерять 12 Ca-135bis, 8 Re-2000, 4 He-46K-2, 2 He-111H-6, 3 Ju-6K-2 и 1 Ca-101/3m. Причем несколько «Реджин» было сбито немецкими истребителями и зенитчиками, которые принимали их за советские И-16.
Рихтхофен возглавил флот как раз в период, когда план операции «Блау» был «выброшен в мусор», а вместо последовательного достижения поставленных целей вермахт развернул наступление по быстро расходящимся направлениям. Начиная в 8 июля основными целями бомбардировщиков и штурмовиков стали Ростов и переправы через Дон. Налеты на эти цели проводились почти беспрерывно в течение двух недель, причем мощь воздушных атак с каждым днем нарастала. Так, 15 июля, по советским данным, на Ростов, расположенный южнее железнодорожный узел Батайск и переправы было сброшено 400 фугасных и осколочных бомб. На следующий день Ju-88, Не-111 и Ju-87 сбросили на те же цели 500 бомб всех калибров, а 17 июля – 600 бомб. 18 июля IV авиакорпус, усиленный за счет авиакорпуса Фибига, осуществил 700 вылетов в район Нижнего Дона, сбросив на железнодорожные объекты и переправы около 1000 фугасных, осколочных и зажигательных бомб, включая боеприпасы большой мощности вроде SD1700 и SC1800. В результате был сильно поврежден железнодорожный мост через Дон и разрушено два наплавных моста.
«После первого налета 18 июля на Подгорное (5 км северо-восточнее Воронежа), где находились русские танки, мы в течение трех дней выполнили несколько миссий в районе Ростова-на-Дону, где русские пытались переправить их грузы и массы войск через Дон на юг, – писал штурман Ханс Райф из 3-й эскадрильи KG27 «Бёльке». – 19 июля нам удалось с высоты 4200 м добиться прямого попадания в понтонный мост, несмотря на сильный огонь зениток по нашей небольшой группе, так что взрывы были слышны в машине, и различные осколки, повредившие обшивку. Вторая атака была против забитой войсками дороги Ростов-на-Дону – Новочеркасск после посадки для дозаправки и вооружения в Краматорске. Далее на востоке наши войска уже достигли Дона в его излучине. Из уважения к русским зениткам мы бомбили на этот раз даже с 5500 м». На сей раз на Ростов и Батайск было сброшено около 800 бомб. 20 июля немцы продолжали бомбить переправы через Дон, к Ростову тем временем уже подходили части 17-й армии, а им в скором времени предстояло самим переправляться на южный берег. В тот день «Штуки» из I./StG77, которая за неделю до этого выполнила 30-тысячный вылет на Восточном фронте, атаковали скопления автомашин и войск в Ростове, а также на переправах через Дон. «Уничтожен Батайский наплавной мост и Аксайская переправа; ж. д. мост через Дон для прохода ж. д. составов не пригоден, хотя мост разрушен не был», – констатировал штаб 105-й НАД ПВО, которая, располагая к началу июля всего 60 истребителями, отчаянно пыталась прикрывать данные объекты.
21-го числа на Ростов и Батайск, а также на переправляющиеся советские войска было сброшено 1500 бомб всех калибров. К налетам были снова привлечены Не-111H-6 из I./KG100 «Викинг», Ju-88 А из «противокорабельной» III./LG1 и торпедоносцы из II./KG26 «Лёвен», базировавшиеся в Крыму и подчинявшиеся оперативному командованию «Зюд». В тот день они сбросили на Ростов 23 тонны бомб, в том числе несколько SC1800. При этом советских истребителей, как это уже было год назад, в воздухе больше не было видно. Отступающие и деморализованные бомбежками солдаты наблюдали лишь идущие ровным строем «Хейнкели», пикирующие с воем сирен «лаптежники» и десятки мессеров.
Кульминацией воздушной битвы стали 22–23 июля, во время которых посты ВНОС зафиксировали 1200 самолето-пролетов люфтваффе в районе Ростова. На советские войска, железнодорожные узлы и линии было сброшено около 3000 бомб! Одновременно с этим при поддержке «Штук» из StG77 2-й батальон полка специального назначения «Бранденбург» захватили переправы в дельте Дона, открыв танкам путь на юг.
Гитлер был окрылен. Ростов пал настолько быстро, а его войска захватили фактически без боя так много территорий, что сопротивление Красной армии, казалось, окончательно сломлено. Командующий наступавшей на Кавказ 1-й танковой армии Эвальд Кляйст докладывал о слабом сопротивлении и массовых фактах дезертирства у русских. Есть такая особенность мозга – округлять все в лучшую сторону. Вот и фюрер 23 июля решил, что «Советы разгромлены». Согласно новому плану уже операции «Эдельвейс», немецкие войска должны были окружить и уничтожить советские части, которые бежали через Дон. Затем должна была последовать оккупация всей береговой линии Черного моря, включая военно-морские базы. Ну а потом следовала заключительная фаза. Подвижные соединения наступают на юго-восток на Грозный и далее, вдоль побережья Каспийского моря, на Баку.
В подписанной 23 июля директиве Гитлера за № 45, в которой, кроме определения наступательных задач, были определены и приоритетные цели для люфтваффе: «Задачи авиации состоят в том, чтобы сначала крупными силами обеспечить переправу войск через Дон, затем оказать поддержку группировке, наступающей вдоль железной дороги на Тихорецк. После этого ее главные силы должны быть сосредоточены для уничтожения армии Тимошенко.
Наряду с этим оказывать помощь наступлению группы армий „Б” на Сталинград и Астрахань. Особое значение имеет при этом заблаговременное разрушение города Сталинград. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань, движение судов в нижнем течении р. Волга должно быть парализовано путем сбрасывания мин…
Чтобы в ближайшее время лишить противника возможности доставлять нефть с Кавказа, необходимо разрушить используемые для этой цели железные дороги, а также парализовать перевозки по Каспийскому морю».
27 июля Рихтхофен летал в Калиновку возле Винницы, где находилась новая гауптквартира Гитлера. Там он встретился с начальником Генерального штаба люфтваффе генерал-оберстом Хансом Гшоннеком и рейхсмаршалом Герингом. Рихтхофен обсудил с ними планы предстоящих операций. Командующий 4-м воздушным флотом и его начальник штаба генерал Гюнтер Кортен были недовольны решением фюрера. Зона действий флота теперь достигала неимоверных размеров, в то время как число боеготовых самолетов сократилось с 1610 к началу наступления до 1359 по состоянию на 28 июля. При этом 4-й ВФ теперь должен был вести три отдельные кампании: оборонять растянутые позиции вдоль Дона, поддерживать наступление на Сталинград и Кавказ, да еще и атаковать железные дороги и минировать Волгу.
Глава 3
Пункты назначения
«Бомбы сброшены на нефтебаржи»
В 1942 г. кавказская нефть поставлялась в центральные районы СССР только по двум транспортным артериям: нефтеналивными судами по Волге и цистернами по однопутной железной дороге Астрахань – Урбах, проходящей восточнее, по границе Казахстана. Бесперебойное функционирование этих магистралей имело огромное стратегическое значение для страны. Кроме танкеров и нефтебарж, по Волге регулярно ходили пассажирские пароходы, военные транспорты и другие суда различного назначения. В среднем через Сталинградский речной порт летом 1942 г. ежедневно проходили около 20 кораблей. Непосредственно перевозка нефтепродуктов в основном осуществлялась предприятием «Волготанкер», располагавшим в тот момент примерно 170 самоходными и несамоходными баржами. Условия судоходства были довольно тяжелыми. Узкий фарватер, сильное течение, наличие крутых поворотов и перекатов, интенсивное движение – все это требовало большого напряжения от судовых команд и их капитанов.
Еще 10 июля, когда бомбардировщики второй и третьей групп KG55 «Грайф» перебазировались на аэродром в Краматорске, командир эскадры оберст-лейтенант Бенно Кош получил приказ «нарушить дневное и ночное движение кораблей по Волге от Астрахани до Саратова». Однако сразу выполнить его не представлялось возможным, надо было подвезти на аэродромы достаточный запас авиационных мин. На это ушло десять дней. В итоге штаб IV авиакорпуса решил начать постановку мин в ночь на 23 июля, одновременно произведя налет на Сталинград.
Около полуночи по местному времени в городе была объявлена воздушная тревога. Вслед за этим в 00.15 появились первые самолеты, исполнявшие роль цельфиндеров. Они сбросили зажигательные бомбы таким образом, что очаги пожаров обозначили прямоугольник, в который попала вся северная промзона города. После этого двадцать пикирующих бомбардировщиков Ju-88А из I. и III./KG51 «Эдельвейс», вылетевшие из Сталино, атаковали Сталинградский тракторный завод, сбросив на него 40 фугасных бомб SC500. В результате были частично разрушены несколько цехов, убит 21 и ранены 85 человек.
Возникшие пожары, команды МПВО и прибывшие автонасосы тушили до утра. Примерно в это же время старшина поста ВНОС Иван Ситников, находясь на боевом дежурстве в районе поселка Ступинский Яр, услышал гул самолетов, идущих над Волгой. Он продолжался несколько минут, после чего постепенно стих. Сделав записи в журнале наблюдений и указав время, Ситников напряженно вглядывался в июльское небо и вдруг заметил на фоне звезд несколько парашютов, спускающихся прямо на Волгу. Сначала он подумал, что немцы выбросили десант, но, внимательно присмотревшись, увидел, что к парашютам прицеплены предметы цилиндрической формы. Вскоре послышались тихие всплески, и зловещие «подарки» быстро погрузились в воду. «Мины!» – осенило старшину, и он тут же побежал к ближайшему телефону докладывать об увиденном.
И действительно, одновременно с налетом эскадры KG51 на Сталинград несколько групп Не-111 из KG55 сбросили на парашютах донные мины в районе Горного Балыклея и на участке Солдники – Черный Яр. Смертоносные металлические цилиндры плавно опустились на дно и замерли в ожидании своих жертв.
На следующую ночь немецкие самолеты сбросили мины в районе Антиповки (в 30 км южнее Камышина), Дубовки и Солодников. По советским данным, «Хейнкели» действовали группами по 2–3 самолета и одиночными машинами. Минирование проводилось между 21.20 и 23.50. Немцы устанавливали мины LMA, LMB и BM1000. Они были оборудованы различными типами взрывателей, в том числе акустическими. Боезаряды массой от 300 до 680 кг при взрыве гарантированно уничтожали любой тип речного судна.
«В 20.40–23.31 группами в 2–3 самолета и одиночными самолетами противник производил разведку с бомбометанием с высоты 100–500 м и минирование р. Волга на участке Антиповка, Дубовка, Солодники, Черный Яр, – говорится в журнале боевых действий 102-й ИАД ПВО за 25 июля. – Бомбы сброшены на нефтебаржи. Всего отмечено в ночном налете до 30 самолетов Хе-111 и Ю-88».
Первой жертвой минной войны стал пароход «Смоленск», который шел вверх по течению с нефтеналивной баржей «Кондома» на буксире. Вечером 25 июля он подорвался на мине в районе Горной Пролейки, расположенной на полпути между Дубовкой и Камышином. Погибла вся судовая команда и пассажиры, в том числе дети членов экипажа. Баржа «Кондома» не пострадала и все утро дрейфовала по реке, словно призрак, но и она следующей ночью была потоплена немцами.
В ночь на 26 июля операция была продолжена. На сей раз первые самолеты были замечены над Волгой в 20.53, а сбросы мин фиксировались на участке Камышин – Дубовка, в районе Красноармейска и у Цаган-Амана. На идущие по реке и стоящие пароходы и баржи было сброшено около 90 бомб. Были потоплены баржи «Таловка» и «Веста», перевозившие автомобильное масло. А в районе хутора Быково, в 40 км южнее Камышина, «Хейнкели» обстреляли из пулеметов, а затем сбросили тяжелые зажигательные бомбы на пассажирский пароход «Александр Невский», на борту которого находились 300 пассажиров. Капитан Николай Харламович сразу повернул корабль в сторону высокого берега, и вскоре он уткнулся носом в песок. Люди в панике бросились на берег, и в огне погибли только 15 человек. В ту же ночь были потоплены 3 буксирных судна, 4 сухогрузные и 2 нефтеналивные баржи. В районе Каменного Яра был потоплен буксирный пароход «Аджаристан», на котором погибли 20 человек. Грузовые баржи № 1351 и № 1360 (с грузом 1300 ящиков реактивных снарядов) погибли на минах в районе Гусиного переката. Помимо бомбардировок и обстрелов, немецкие самолеты применяли против кораблей речного флота и «психическое» оружие, сбрасывая дырявые и набитые гвоздями бочки из-под бензина.
В ночь на 27 июля посты ВНОС зафиксировали пролет 20 немецких самолетов над Волгой на участке от Камышина до Никольского. На суда и пристани было сброшено около 50 бомб, при этом в районе Камышина был потоплен буксирный пароход «Союзный ЦИК». Погибла почти вся команда, а также трое детей. Вечером того же дня 10 Не-111 совершили налет на пристань Владимировка (Ахтубинск). В результате был потоплен один колесный пароход и баржа, а буксир «Орджоникидзе» получил тяжелые повреждения.
В ночь на 28 июля люфтваффе были особенно активны. Самолеты появлялись над Волгой в течение пяти часов с 21.00 до 02.20, а сбросы мин и бомбежки судов отмечались на протяжении 400 км от Камышина почти до самой Астрахани. На сей раз в минных постановках участвовали опытные экипажи торпедоносцев II./KG26 и бомбардировщиков I./KG100 и III./LG1 из Авиационного командования «Зюд». Вылетевшие из Крыма «Хейнкели» сбросили в Волгу 31 мину и, по немецким данным, повредили две баржи, буксировавшихся вверх по течению. В действительности в районе Сталинграда (на траверзе Ерзовки) были потоплены нефтеналивные баржи «Бурят» и «Обь» (с грузом 10 000 тонн керосина каждая). Огромный столб дыма поднялся над приволжским степями, горящее топливо потекло вниз по Волге, и движение судов по реке было сильно затруднено. Кроме того, в районе Соленого займища был потоплен караван из трех барж с военными грузами. Одна мина, снесенная ветром, упала рядом с аэродромом Бекетовка. В результате было убито 30 человек из 456-го батальона аэродромного обслуживания и охраны завода № 264.
В ночь на 29 июля прилетевшие из Крыма торпедоносцы II./KG26 «Лёвен» потопили на Волге плавучий кран и две баржи.
В составе Волжской военной флотилии под командованием контр-адмирала Д. Дергачева к концу июля имелось 18 мощных буксиров, вооруженных зенитными орудиями, а также 7 канонерских лодок, 14 бронекатеров, 33 катера-тральщика, 2 плавучие зенитные батареи и два батальона морской пехоты. До середины июля главной задачей флотилии было обеспечение ПВО Саратова, особенно железнодорожного моста через Волгу, расположенного южнее города. Теперь же, начиная с 26 июля, корабли ВВФ конвоировали речные суда, двигавшиеся по Волге, и обеспечивали их противовоздушную оборону.
Напуганное донесениями о массовой гибели судов, пароходство «Волготанкер» приостановило отправление нефтебарж из порта Астрахани. Но десятки кораблей уже находились в пути. 26 июля нарком речного флота Зосима Шашков выступил с докладом на заседании Госкомитета обороны о положении на Нижней Волге. Он попросил срочно принять меры по вооружению судов и усилению ПВО. В этот же день с аналогичной просьбой к руководству страны обратился Астраханский горкомитет обороны.
Ситуация складывалась поистине катастрофически. По ночам в фарватер опускались все новые и новые «адские машины», бомбардировщики атаковали суда и пристани. Всего с 25 по 31 июля посты ВНОС зафиксировали падение в Волгу 231 мины. Между тем сама Волжская военная флотилия оказалась не готова к борьбе с минной опасностью на реке. Формирование отдельной бригады траления, начатое в июле, затягивалось. Переделка судов происходила наспех, установленные тралы быстро продемонстрировали свою непригодность, а у экипажей отсутствовал какой бы то ни было опыт по борьбе с минными постановками. Поэтому взрывы на волжских плесах гремели постоянно, и каждые сутки гибли по четыре-пять кораблей. Команды речных судов также проявили растерянность и панику. Корабли плохо маскировались, нередко допускалась их скученность, да и информация о заминированных участках поступала несвоевременно и не всегда точная. Некоторые «сведения» зачастую основывались на слухах и домыслах.
В Сталинградском порту тем временем кипела работа. На нескольких пароходах срочно приваривали броневые листы к рулевым рубкам, грузили 37-мм зенитные пушки и пулеметы, матросы затаскивали на борт ящики с боеприпасами. Но оружия везде не хватало, и поначалу его смогли наскрести только на 16 судов. В то же время бакенщики получили приказ сократить число и замаскировать навигационные ограждения на реке. Из речного транспорта в срочном порядке были изъяты 16 пассажирских и 7 буксирных катеров для переоборудования в тральщики.
Невзирая на опасность, тяжелые нефтеналивные баржи медленно ползли вверх по течению. 29 июля на участке Астрахань – Камышин в пути находилось в общей сложности 220 000 тонн нефтепродуктов. Ночью над рекой опять появились немецкие самолеты, которые минировали участок Боково – Астрахань, попутно сбрасывая бомбы на суда, пристани и прибрежные поселки. С 22.00 до 03.00 были атакованы Боково, Луговая Пролейка, Грачи, Солодники, Черный Яр, Копановка, Разночиновка и железнодорожная станция Солончак. Пароход «Коллективизация» под командованием капитана А. С. Чеснокова следовал вверх по течению с тремя нефтебаржами на буксире. В районе поселка Соленое Займище, в 40 км южнее Ахтубинска, судно внезапно атаковали два Не-111. Несколько бомб попали в баржи, остальные взорвались по левому борту корабля. При этом осколками был убит механик Ф. С. Востриков. Героическими усилиями матросов горящие баржи удалось отцепить и продолжить путь с одной уцелевшей.
Пассажирский пароход «Тургенев» вышел из Астрахани, направляясь в Сталинград за ранеными. Путь до Енотаевки прошел без приключений, но ночью, не доходя до Копановки, матросы увидели за кормой на светлой стороне горизонта приближающийся самолет. Он шел низко над рекой с юго-востока. Вахтенные некоторое время гадали: чей он, наш или немецкий? Все сомнения развеяла бомба, отделившаяся от брюха самолета. Огромный столб воды поднялся по левому борту, осыпав палубу множеством осколков. Не успели матросы «Тургенева» опомниться, как самолет развернулся, и, сделав второй заход, обстрелял корабль из пулеметов. Трассирующие пули пробили верхнюю палубу и вызвали пожар в салоне второго класса. На сей раз матрос Александр Раков отчетливо видел лица немецких летчиков, кресты и свастику на фюзеляже. Через две минуты «Хейнкель» пошел на третий заход и сбросил еще одну бомбу, которая взорвалась за кормой судна. В результате были сильно повреждены палубные надстройки. После того как бомбардировщик скрылся за горизонтом, капитан «Тургенева» связался по рации с пароходством. Был получен приказ возвращаться в Астрахань на ремонт.
В конце июля 4-й воздушный флот усилил атаки против волжского судоходства. В частности, к операции подключилась KG27 «Бёльке». «В одну светлую лунную ночь, когда мы могли хорошо различать как реку и города, так и суда на реке, я летел на высоте около 200 м над Волгой, – вспоминал один из пилотов 2-й эскадрильи. – Мне удалось „положить” две бомбы по 250 кг вблизи от одного судна, правда, без какого-либо видимого результата. Разрывы снарядов русской легкой и средней зенитной артиллерии были далеко позади меня, без попаданий. При очередном заходе я приказал своему штурману обстрелять из бортового пулемета цель впереди по курсу, в то время как я пытался сбросить другие две бомбы. Это было роковой ошибкой, потому что я представлял для русских весьма хорошую цель. Так и случилось: мы получили попадание по полной программе. Радист закричал: „Рули управления снесло! Нет, они вроде бы опять здесь!” Несмотря на весьма опасную ситуацию, мы расхохотались. Счастливый случай оставил нашу машину управляемой. Нам удалось выкрутиться, и я поднялся на высоту 4000 м». После шести часов полета «Хейнкель» благополучно приземлился в Курске. Затем в ходе осмотра в левом руле была обнаружена дыра диаметром 60 см, а фюзеляже – множество мелких осколочных пробоин.
