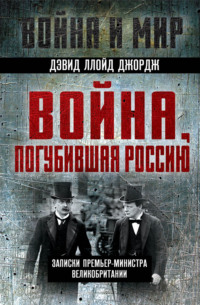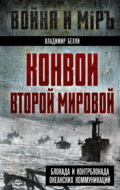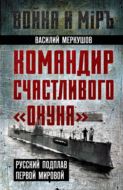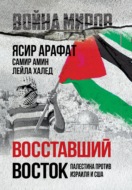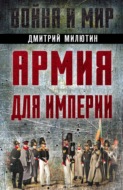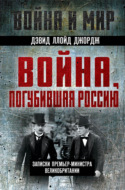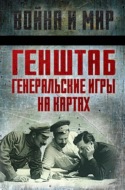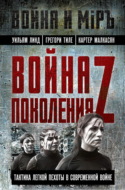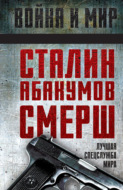Czytaj książkę: «Война, погубившая Россию. Записки премьер-министра Великобритании», strona 3
Упущенные возможности
Для восполнения потрерь на фронте к концу 1916 г. в России было призвано в армию около 13 млн. человек. Когда Дума жаловалась на огромные потери, один русский генерал сказал: «Не стоит беспокоиться. Слава богу, людей у нас при всех условиях достаточно».
По храбрости и выносливости русский солдат не имел себе равного среди союзников и врагов. Но военное снаряжение русской армии по частп пушек, вннтовок, пулеметов, снарядов и транспортных средств – было хуже чем у всех, и по этой причине русских били более малочисленные противники, часто уступавшие русским по своим боевым качествам; так убивали русских миллионами, в то время как у них не было никакой возможности защиты или мести.
Россия была примитивной крестьянской страной с неразвитой промышленностью, поэтому Россия не была в состоянии вооружить своих храбрых бойцов необходимым оружием. Несмотря на огромные естественные ресурсы страны, Россия не обладала накопленным богатством или достаточным залогом, который позволил бы в кредит закупить необходимое военное снаряжение на единственном нейтральном рынке мира, который мог удовлетворить ее потребности, – в Соединенных Штатах Америки.
Неуменье русских использовать имеющиеся в их распоряжении естественные и приобретенные ресурсы вовсе не объяснялось какими-либо умственными недостатками. Русские – чрезвычайно способный народ. Но у них сохранилась крестьянская привычка излишней медлительности и отсутствия точности. Для них время не играет роли и организация не имеет значения. Они ждут в бездействии в течение целой зимы, чтобы пришло лето с его сельским работами; зимой они только согреваются на печи. Когда работа окончепа, наступает новый период досуга.
Промышленная цивилизация Запада, которая требует непрерывного, хорошо организованного, точного труда, не повлияла на жизнь и привычки 90 % русского народа. Во время войны мне пришлось встретиться с несколькими примерами этого врожденного и укоренившегося свойства русских, которое влияет на всю их деятельность.
Один русский офицер, с которым я встретился на конференции во время войны, заявил мне, что настоящие русские были, по существу, непрактичными мечтателями, он предложил мне назвать русского, который когда-лпбо обнаружил способности делового характера в торговле, в финансах или политике. Я назвал нескольких. Он говорил по поводу каждого: «Это не русский, это немец», или «он армянин», «он грузин», «он швед», «он еврей». Тогда я спросил его: «А вы?» Он отвечал: «Я грек».
Это, конечно, чересчур огульное обвинение народа, который насчитывает более ста миллионов человек и который совершил немало великого. Но мой деловой опыт в сношениях с русскими показал мне, что в этом циническом замечании содержалась немалая доля истины.
* * *
Вот характерный пример странного сочетания гения и неспособности. Русские химики – люди исключительных знаний, способностей и силы воображения. В начале 1915 г, русское интендантское управление встретилось с такими же затруднениями, которые пришлось преодолеть и нам. Недоставало взрывчатых веществ, которые до сих пор употреблялись для снарядов и патронов; было необходимо немедленно найти новый вид взрывчатых веществ. Дело было передано химикам. Через несколько недель, после того как ученые химики не пришли, по-видимому, ни к какому практическому результату, в лаборатории был послан запрос, чтобы установить, насколько удалось приблизиться к разрешению проблемы.
Оказалось, что химики забыли о срочной задаче, которая им специально была поручена. В своих экспериментах они натолкнулись на новое химическое открытие, которое было для них гораздо более важно, чем взрывчатые вещества для снарядов, и они продолжали работать над ним с интересом и энтузиазмом, заставившим их забыть, что их родина была вовлечена в борьбу с внешним врагом не иа жизнь, а на смерть, и что к ним обратились за помощью в попытке предупредить грозившую катастрофу.
Вот еще одна иллюстрация тех же практических недостатков русского темперамента. Когда немцы применили в России первую газовую атаку, были использованы вначале такие же примитивные предохрапительиые средства, что и у нас, которые были изобретены тут же на месте. Когда этих средств оказалось недостаточно, обратились за помощью к англичанам и французам. Нас просили немедленно доставить партию противогазов, которые были изобретены для защиты союзных войск на Западе. Мы немедленно послали в Петроград сотни тысяч масок последнего образца. Перед тем как отправить их на фронт они были представлены предварительно на заключение русскому химику, который не колеблясь пришел к заключению, что противогазы далеко не во всех отношениях были хороши. Поэтому партию задержали в Петрограде, пока русские профессора были заняты изобретением лучших масок.
Превосходный противогаз так и не был изобретен. Английские маски были в конце концов отосланы по назначению, но за это время много тысяч храбрых солдат задохлось от газа.
Если бы мы не знали о том, как слаба была производителъноста русской промышленности при самодержавном строе, мы могли бы указать на большие арсеналы в Перми и Петрограде и на многие другие хорошо оборудованные заводы в этой обширной стране. Мы могли заявить, что мы честно считали, что Россия вполне в состоянии удовлетворить потребности своих армий без значительной поддержки извне. Альбер Тома сказал мне по возвращении из России в 1916 г., что он позавидовал Путиловским заводам близ Петрограда. Эти заводы были оборудованы новейшими машинами. В этом отношении они превосходили лучшие из французских арсеналов. Но руководство никуда не годилось, было лениво, беспечно и допускало ошибки.
Неспособность русских к руководству не была, однако, открытием, и не нужно было специально ездить в Россию, чтобы обнаружить эту черту русских. Из-за этой неспособности Россия так и не смогла произвести необходимое оружие. Когда в мае 1915 года тевтонский ураган пронесся над обреченными армиями московитов, их великолепные арсеналы могли выпустить лишь первые четыре больших орудия, к производству которых приступили в начале войны.
* * *
Пока русские армии шли на убой под удары превосходной германской артиллерии и не были в состоянии оказать какое-либо сопротивление пз-за недостатка ружей и снарядов, французы с гордостью указывали на огромные запасы снарядов, готовых к отправке на фронт. Я вспоминаю конференцию по вопросам военного снаряжении в Париже, на который французские генералы со всей гордостью собственников, достигших зенита своего богатства, с увлечением приводили статистические данные о накопленных ими миллионах снарядов.
А какова была роль Англии, когда она только приступала к производству снарядов по-настоящему, к производству сотен больших и малых пушек и сотен тысяч снарядов всех калибров? Английские генералы рассматривали производство военного снаряжения с такой точки зрения, как-будто речь шла о большом состязании или скачках и было необходимо, чтобы Англия была снабжена одинаково, а если возможно, то лучше всякого другого участника состязания.
Военные руководителя Англии и Франции, казалось, не понимали самого важного – что они участвовали совместно с Россией в общем предприятии и что для достижения общей цели необходимо было объединить их ресурсы, причем каждый должен был самым обыкновенным образом взяться за выполнение того, что было ему по силам.
Дух коллектива совершенно отсутствовал в течение первых лет войпы. Каждый из участников слишком много думал о своих собственных достижениях, и очень мало думал о победе всего коллектива. Французские генералы признавали важнейший факт, что Россия имела огромное численное превосходство над другими, но эго признание никогда не приводило к каким-либо практическим результатам, за исключением постоянного требования, чтобы Россия прислала большую армию во Францию на помощь французам с тем, чтобы ослабить потери самой Франции в защите ее собственной территории.
Пушки, ружья и снаряды посылались Англией и Францией в Россию до ее окончательного краха, но посылались с неохотой; их было недостаточно, и когда они достигли находившихся в тяжелом положеппи армий, было слишком поздно, чтобы предупредить окончательную катастрофу.
В ответ на каждое предложение снабдить Россию снарядами французские и английские генералы заявляли в 1914, 1915 и 1916 гг., что им нечего дать, и что уже посланное дано в ущерб себе.
Конечно, на русском фронте не было такой нужды в тяжелой артиллерии, как на Западе. Ни австрийцы, ни немцы не были в состоянии соорудить такую гигантскую линию двойных и тройных траншей вдоль этого огромного фронта. Здесь война была в большей степени маневренной войной. 75-миллиметровки с должным количеством снарядов могли здесь иметь успех. Миллионы снарядов, попусту затраченных в упрямых и ненужных атаках на Западе, сослужили бы здесь полезную службу.
Если бы русские обладали достаточной артиллерией, чтобы прорваться через австрийский фронт, более легкая и подвижная артиллерия довершила бы остальное. Даже несколько сот лишних путеметов с достаточным количеством патронов полностью остановили бы германское наступление.
* * *
Каждый, кто имел случай познакомиться с донесением нашего талантливого военного атташе на восточном фронте или с какой-либо заслуживающей доверия историей кампании 1915 г., знает, что сокрушительные поражения, которые потерпели русские армии, вызывались не численным превосходством немцев (русские превосходили немцев по численности по всему фронту) или недостатком храбрости, выносливости и дисциплины у русских солдат; их безграничная храбрость в тяжелых условиях всегда останется чудом,
Эти поражения русских не следует приписывать также недостаточному военному искусству русских генералов. По общему мнению они удачно провели отступление. Попытки германского командования зайти в тыл русским ни разу не увенчались успехом, и русским удавалось отступать, не потеряв в большом количестве снаряжения.
Это объяснялось умелым руководством генералов и прекрасными боевыми качествами солдат. Однако легко вести в бой великолепно снаряженную армию, но совсем не легко руководить разбитой армией, разочаровавшейся в победе, после того как ее неоднократно бил в бою неприятель, о котором известно, что он обладает гораздо лучшим снаряжением. Великий князь Николай Николаевич и его генералы заслуживают, чтобы мы это признали.
Но почему в таком случае эта храбрая армия под руководством столь искусных генералов бежала подобно стаду овец по равнинам Польши и болотам Галиции. Ответ следует искать в приведенных мною отрывках из донесений беспристрастных английских офицеров, присутствовавших при этой трагедии храбрецов, которых бюрократическая тупость лишила средств самозащиты и защиты страны, за которую они готовы были отдать жизнь.
Они не были побеждены лучшими войсками; у них не было случая померяться силами грудь с грудью с солдатами неприятельской армии, сражавшейся против них. Они видели миллионы германских снарядов, проносившихся по воздуху в направлении к их окопам, разрывавшихся и вносивших разрушение и смерть, они слышали грозную трескотню пулеметов, которую вели наступавшие немцы, но они редко встречались с врагом, который расстреливал их на безопасном расстоянии из пушек и ружей.
Русские укрепления расстреливались чудовищными германскими пушками. Те, кому удавалось остаться живым после бомбардировки, оказывались без малейшего прикрытия, которое могло бы защитить их от такого дождя пуль и осколков снарядов, какое человечество не запомнит со дня Содома и Гоморы. Отступление в боевом порядке было для русских единственным способом спастись самим и спасти свою страну. Но даже при отступлении сотни тысяч солдат погибали от шрапнели и тяжелых разрывных снарядов.
Если бы русская артиллерия была вдвое сильнее, и русские имели достаточное количество снарядов, если бы русские позиции могли быть защищены достаточным числом пулеметов, германские войска встретили бы на восточном фронте то же сопротивление, которое они встречали при наступлении на западном фронте, и они не могли бы позволить себе нести те потери, к которым приводили их непрерывные атаки.
На австрийском фронте, где качество неприятельских войск было значительно хуже, чем на германском фронте, храброе наступление русских вслед за достаточной предварительной артиллерийской подготовкой не только нанесло бы поражение австрийцам, но этот успех мог привести русские войска к воротам Вены.
Австрийские армии сильно отличались от германских. Русские одерживали сравнительно легкие победы над австрийцами, но они не были в состоянии использовать их вследствие недостатка артиллерии.
Хорошо снаряженная русская армия могла бы перейти через Карпаты, проникнуть на венгерскую и австрийскую равнины, пробиться к славянским братьям в Хорватию и Чехо-Словакию и угрожать столице двуединой монархии. Румыния при этих условиях чувствовала бы себя в безопасности и могла бы бросить свои 500000 войск на австрийцев, а Болгария признала бы, что на стороне союзников сражаться выгоднее, или соблюдала бы нейтралитет.
* * *
Итак, если бы мы отправили в Россию половину тех снарядов, которые затем были попусту затрачены в наших плохо задуманных боях, и 1/5 пушек, выпустивших эти снаряды, то не только удалось бы предотвратить русское поражение, но немцы испытали бы отпор, по сравнению с которым захват нескольких обагренных кровыо километров французской почвы казался бы насмешкой. Кроме того, Австрия была бы разгромлена. Только быстрая переброска на австрийский фронт нескольких дивизий германской пехоты и нескольких батарей германской артиллерии могла бы спасти двуединую монархию от катастрофы.
Если бы Россия одержала победу, Болгария вступила бы в войну на стороне союзников. Балканская федерация, включавшая Сербию, Румынию и Грецию, а может быть, и Болгарию иа юге, и итальянская армия на западе совместно с русской армией на востоке могли бы в бою против разбитой и разъединенной Австрии закончить войну в 1915 г.
Быть может, этот расчет грешит в сторону оптимизма. Но вполне очевидно, что если бы снаряжение русской армии было усилено, Австрия была бы в конце кампании 1915 г. на дороге катастрофы. Германии трудно было бы предотвратить крах в лагере ее ненадежного союзника.
К весне 1916 г. Англия, Россия, Италия и Балканская федерация, хорошо снаряженные (конечно если бы своевременно было начато производство снарядов), могли бы начать объединенное наступление против Австрии, которое завершило бы се распад. Изолированная и ослабленная Германия должна была бы тогда столкнуться лицом к лицу с полными сил Францией и Англией; она с радостью заключила бы мир, признав себя побежденной и разбитой.
Ухудшение положения России
В июне 1916 г. я должен был присутствовать на заседания военного совета. Прежде чем я вошел в зал заседаний кабинета, секретарь премьера Картер пригласил меня жестом в свою комнату. Обычно спокойный и сдержанный, он, очевидно, находился во власти какой-то эмоции, которая делала его речь почти нечленораздельной. В конце концов он рассказал мне, что крейсер, на котором наш военный министр лорд Китченер отправился в Россию, натолкнулся на мину у Оркнейских островов, и что лорд Китченер утонул вместе со своим штабом.
Смерть лорда Китченера оставила свободным место военного министра. Я сознавал, что это место может быть предложено мне. Я согласился взять на себя военное министерство с значительными опасениями, отчасти в виду общей военной политики, отчасти потому, что не любил работать со связанными руками.
Я был в военном министерстве только пять месяцев – срок слишком короткий, чтобы добиться больших перемен во внутренней организации и политике, в особенности, поскольку начальник генерального штаба сэр Вильям Робертсон видел в каждой попытке с моей стороны осуществлять мою власть вмешательство в его специальные функции, и полномочия; поэтому ои становился на дыбы всякий раз, как только подозревал вмешательство опрометчивого и безрассудного штатского в святая святых военного дела.
Главные задачи, которые я в состоянии был провести за время моего короткого управления министерствам были: реконструкция транспортной системы на западном фронте и усиление рекрутского набора в империи за пределами британских островов.

В разрешении этих проблем, унаследованных мной на моем новом посту, мне удалось добиться значительного успеха. В разрешении другой тоже унаследованной от прошлого проблемы я был менее счастлив. Это был вопрос о военной связи с Россией. Время от времени с самого начала войны я настаивал в правительстве на установлении более тесной связи между западными союзниками и Россией. Мне важно было не только обеспечить более тесное координирование действий между Западом и Востоком, но также установить, что может быть сделано для снаряжения, а следовательно и для реорганизации русских армий.
Вспомним, что лорд Китченер находился иа иути в Россию, когда его застигла смерть. Это была миссия чрезвычайной важности, так как вряд ли можно преувеличить критическое положение нашей союзницы; чтобы спасти Россию от полного военного краха, западные союзники должны были придти с ней к соглашению по вопросам стратегии, финансов и поставки военного снаряжения.
Лорд Китченер в выдающейся мере обладал необходимыми качествами для этой миссии. Теперь, когда его не было более в живых, встал вопрос о том, чтобы найти лицо, способное заменить его в этой миссии.
Само собой разумеющимся и фактически неизбежным кандидатом для этой миссии был Робертсон. Как начальник имперского генерального штаба он обладал необходимым положением, престижем и знаниями. Правда, Робертсон не был авторитетом в финансовых вопросах, но этому можно было помочь, послав вместе с ним лорда Рединга для разрешения финансовых вопросов. Но Робертсон не соглашался. Наступление на Сомме было в полном разгаре, и он был всецело поглощен связанными с наступлением распоряжениями по армии.
* * *
Время уходило, и когда наступил конец сентября, я увидел, что надо во что бы то ни стало добиться результата, ибо Архангельск зимой замерзает, а зима была уже близко.
Поэтому я обратился к премьер-министру Асквиту со следующим письмом:
«Конфиденциально.
Военное министерство.
26 сентября 1916 г.
Мой дорогой премьер!
Прежде чем Вы примете окончательное решение по тому предложению, которое я сделал Вам сегодня утром, – а я считаю крайне необходимым и важным, чтобы что-нибудь было предпринято в этом направлении, – я желал бы еще раз изложить Вам соображения, которые убеждают меня в чрезвычайной актуальности этого шага. Я уже не раз думал об этом.
1. Тон некоторых сообщений из Петрограда указывает на значительное раздражение против нас в русских официальных кругах, в особенности в русских военных кругах.
2. Перемены, происшедшие в последнее время, заметно усилили германофильские влияния в русском правительстве. Наши друзья исчезли один за другим, и теперь в русской бюрократии нет никого, кто относился бы к Англии благоприятно.
3. Русские, как и все крестьянские народы, относятся с крайней подозрительностью к народу, занимающемуся торговлей и финансовыми делами. Они всегда воображают, что мы стараемся извлечь барыш из отношений с ними. Разумеется, их подозрения являются смехотворными для всякого делового человека, но это ни в малейшей мере не влияет на крестьянскую психику. Они несомненно вбили себе в голову, что мы стремимся на них заработать. Надо устранить это подозрение.
4. Вопрос не в условиях, а в атмосфере. Русские – простые и, думается мне, хорошие парни и, раз завоевав их доверие, мы не будем наталкиваться на трудности в деловых сношениях с ними. Поэтому мы должны предпринять какой-нибудь решительный шаг, чтобы устранять подозрительность, которая затеняет реальные проблемы. Я настаиваю поэтому на важности немедленной посылки в Россию эмиссаров, занимающих высокое положение, с достаточными полномочиями, чтобы внести ясность в создавшееся положение.
5. Наш эмиссар или наши эмиссары не только должны обладать авторитетом, но должны быть известны русским как лица высокого положения и влияния в своей стране. Я энергично настаивал бы на том, чтобы мы просили Робертсона и лорда Рединга взять на себя эту миссию. Что касается Робертсона, то его положение у нас известно военным властям в России, а в настоящий момент они – единственные, кто имеет вес в России. Бюрократы – это жалкие креатуры.
Робертсон мог бы обсудить с генералом Алексеевым военные планы на будущий год. Важно, чтобы оба эти человека встретились. До настоящего времени русские ни разу не совещались с западными державами относительно военных планов. Лица вроде генерала Жилинского, который в Париже представил русские армии, имеют более чем ничтожное значение, и я опасаюсь, что если состоится вторая конференция в Шантильи, то Алексеев либо не сможет, либо не пожелает послать человека, который имел бы все полномочия, чтобы наметить главные очертания ближайшей кампании. Восточные генералы, вероятно, концентрируют свое внимание исключительно на Востоке и я не уверен в том, что западные генералы не склонны впасть в подобную же ошибку, чрезмерно ограничив свой кругозор теми странами, в которых оперируют их войска.
Будет хорошо для обоих, – т. е. для генерала Робертсона и генерала Алексеева, если они обменяются мнениями, и решение, принятое этими двумя крупными полководцами в результате такого обмена мнений, по всей вероятности, может быть действительно решающим.
Что касается лорда Рединга, то он обладает тем высоким положением, теми необходимыми дипломатическими талантами и знанием финансовых вопросов, которые дадут ему возможность успеха в соглашении с Россией.
Меня пугает перспектива, что существующие недоразумения могут привести к напряженным отношениям между странами. Вероятно, это не вызовет разрыва во время войны, но это наверное может оказать печальное влияние на ход мирных переговоров.
Преданный Вам Д. Ллойд Джордж.
P. S. По заказам важнейших военных материалов для России уже произошла задержка в несколько месяцев, и я боюсь, что русские генералы припишут поражения, происшедшие по их собственной вине, нашему промедлению в оказании им финансовой помощи».
* * *
Мое предложение относительно Робертсона разбилось о подозрения личного характера. Он готов был вообразить, что я буду рад его отсутствию в военном министерстве; в самом кабинете были люди, которые абсолютно враждебно относились ко всему, чтобы я ни делал и ни предлагал. Эти люди побудили Робертсона отказаться от предложенной ему миссии. В самом деле, впоследствии Мак-Кенна признал, что он советовал Робертсону не отправляться в Петроград.
В результате я получил на следующий день от начальника имперского генерального штаба письмо такого содержания:
«Военное министерство.
27. 9. 16.
Дорогой Ллойд Джордж!
Премьер-министр только что посылал за мной для обсуждения вопроса о посещении России. Я зрело обдумал его, после того как Вы говорили со мной сегодня утром, к пришел к заключению, что для меня невозможно отправиться в Россию, не потеряв полностью контроля над войной, к тому же в важный момент.
Я отлично понимаю силу Ваших аргументов, но если бы я отправился в Россию, мне пришлось бы быть в отсутствии по крайней мере месяц, а это слишком большой срок, принимая во внимание необходимость моего личного участия в разрешении целого ряда проблем, стоящих перед нами.
Я искренне огорчен, что не могу пойти на Ваше предложение. Как я сказал премьер-министру: если потребуют, чтобы я поехал, я подчинюсь, но мое мнение, что я не должен ехать, если я сколько-нибудь полезен в качестве начальника имперского генерального штаба.
Верьте мне, я очень сожалею, но я должен был сказать Вам, что я думаю относительно необходимости остаться на своем посту.
Преданный Вам В. Робертсон».
С этим отказом предположенная миссия в Россию рухнула, и возможность прийти к реальному соглашению с нашим великим союзником на Востоке была упущена; потом было уже поздно спасти Россшо от окончательного краха.
Известия, приходившие к нам из России в течение осени 1916 г., показали, какой роковой ошибкой был отказ от мысли об этой миссии. Все предзнаменования указывали на крушение военной мощи России и на предстоявший сепаратный мир с Германией.
В конце июля Сазонов ушел с поста министра иностранных дел и был заменен Штюрмером; шведский король (который по своим симпатиям был германофилом), услышав эту новость, сказал тогда британскому послу в Стокгольме, что в течение двух месяцев будет заключен мир между Россией и Германией. Хотя это пророчество не осуществилось, но оно основывалось на верном понимании того, какой оборот приняли деда в России.
Сэр Джордж Быокенен, британский посол в Петрограде, в частном письме к лорду Чарльзу Бересфорду от 17 октября упоминал об упорных слухах о сепаратном мире, которые были официально опровергнуты Штюрмером, и сообщал о росте симпатий к Германии.
В следующем письме от 28 октября он обращал особое внимание на успехи германофильской и антибританской пропаганды и прибавлял: «Потери, понесенные Россией в этой войне, так колоссальны, что вся страна носит траур; во время недавних безуспешных атак на Ковель и другие пункты было бесполезно принесено в жертву столько людей, что по всем видимостям у многих растет убеждение: для России нет смысла продолжать войну. В частности, Россия в отличие от Великобритании не может ничего выиграть от затягивания войны…
При растущем с каждым днем недовольстве народа и при таком человеке, как Штюрмер, находящемся во главе правительства, я не могу не чувствовать тревоги».
* * *
30 ноября лорд Рондда послал мне серию меморандумов, написанных британским офицером в Архангельске о его впечатлениях при посещении Петрограда и Москвы. Его тоже поразила сила германской пропаганды и усталость народных масс от войны.
«От великого до малого все здесь того мнения, что военный энтузиазм русского простонародья в городах очень упал за последнее время, – пишет он. – Конечно, главная причина этой перемены морального состояния народа заключалась в чрезвычайной трудности доставать предметы первой необходимости даже за деньги. В больших городах все вынуждены теперь стоять в длинных очередях, чтобы получить в небольшом количестве такие продукты, как молоко, черный и белый хлеб, масло и сыр, сахар, чай и кофе, мясо, рыбу и т. д.
Эти очереди представляют в высшей степени удобный случай для агентов германской пропаганды; люди, стоящие в очереди, хитро намекают, а иногда даже открыто утверждают, что все эти лишения вызваны исключительно интересами Англии».
Затем шли следующие пророческие слова: «Ближайшие три месяца будут критическим периодом… Либо правительство уступит, либо наступит государственный переворот, либо если не произойдет ни того, ни другого, России придется прекратить войну и заключить мир с весьма печальными результатами».
Этот информатор настаивал на необходимости с величайшей поспешностью развить контрпропаганду. «Только с помощью самой усердной и терпеливой работы можно протащить Россию в лице ее правительства и народа еще через один-два года войны и лишений; чтобы достигнуть этого, не следует жалеть никаких усилий или сравнительно ничтожных расходов…»
Но это предостережение пришло слишком поздно. Архангельский порт был уже затерт льдами. Прежде чем он растаял, весной в России разразился революционный крах, и все надежды укрепить ее как союзную державу исчезли.
Darmowy fragment się skończył.