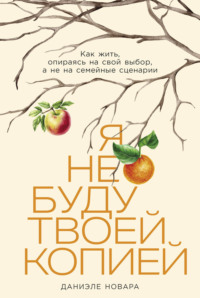Czytaj książkę: «Я не буду твоей копией: Как жить, опираясь на свой выбор, а не на семейные сценарии», strona 3
Я стану исполнением твоего желания
Некоторые истории воспитания можно назвать копированием: детей воспитывают в соответствии с так называемым миметическим желанием родителей, которые надеются реализовать через своих детей то, чего не смогли добиться сами.
Подобные примеры встречаются в самых различных сферах. В музыке это, несомненно, Моцарт, сын отца-музыканта – известного, но не знаменитого, принуждавшего трехлетнего малыша, даже в ущерб дочери (казавшейся тогда более одаренной), зарабатывать своим талантом. Он возил его по всей Европе, демонстрируя в качестве вундеркинда при дворах знати и вообще где только возможно. Именно так родился заслуживший всеобщее признание великий гений Моцарта: его лишили детства, заставив слишком рано повзрослеть и начать профессиональную карьеру. Его жизнь закончилась печально: долги, одиночество, похороны в общей могиле… До сих пор неизвестно, где покоятся его останки.
Чтобы стать Моцартом, ему пришлось заплатить самую высокую цену: отказаться от своего детства.
Еще один похожий и не менее известный случай – история Пикассо. Его отец, художник весьма среднего уровня, решил, что призванием сына станет достижение вершин, на которые не смог подняться он сам. Пабло Пикассо это удалось. Расплачиваться за это пришлось не самому художнику, а женщинам, которых он встречал на своем пути. Многие из них давали интервью, писали книги, в которых рассказывали о мужчине, лишенном эмпатии, циничном и склонном к садизму, как будто задача, поставленная перед ним отцом, настолько его поглотила, что он потерял способность испытывать эмпатию, не говоря уже о построении близких отношений.
Множество примеров подобных сценариев можно найти и в мире спорта. В футболе особенно показателен случай братьев Индзаги из Пьяченцы. С раннего детства их отец, игрок местной команды, брал сыновей с собой на футбольные матчи. Оба мальчика обожали футбол и росли с желанием оправдать ожидания родителей – самых преданных своих болельщиков. Повесив бутсы на гвоздь, Филиппо и Симоне стали успешными тренерами. В различных интервью Симоне рассказывал, что после каждого матча звонит отцу по видеосвязи, чтобы рассказать, как всё прошло. Между ними существует теснейшая связь, без каких-либо конфликтов и разногласий.
Также весьма показательна история Винус и Серены Уильямс, самой прославленной пары сестер в истории тенниса. Их отец Ричард Уильямс, ставший первым тренером девочек, желал лишь одного: изменить жизнь, свою и своей семьи. Для него, выросшего в крайней нищете, спорт стал средством отвлечь дочерей от улицы и предложить им достойную цель в жизни. Совсем иначе сложилась в 1990-х гг. жизнь другого великого американского теннисиста, Андре Агасси. Автобиография, которую он опубликовал после завершения карьеры, мгновенно стала бестселлером26. Это «книга-жалоба» теннисиста, который вовсе не желал быть знаменитым спортсменом. Но никто никогда не спрашивал его, какой он хотел видеть свою жизнь.
Отец заставил его стать чемпионом в чрезвычайно стрессовом, психологически жестоком виде спорта.
Не случайно, будучи боксером, его отец и в теннис привнес боксерский элемент. Сам Агасси отмечает:
…Он готовил меня к жизни, пытаясь превратить в боксера с теннисной ракеткой27.
Отец Андре был одержим спортом:
Теперь он сам подошел ближе, кричит прямо в ухо. Недостаточно отбивать все, чем стреляет в меня дракон; отец хочет, чтобы я был быстрее и сильнее дракона. От этой мысли я впадаю в панику. Говорю себе: «Ты не можешь победить дракона! Как можно победить того, кто никогда не останавливается?»
Если подумать, дракон похож на моего отца. Только отец еще хуже. По крайней мере дракон стоит прямо передо мной. А отец всегда стоит сзади. Я не вижу его, лишь слышу, как он орет мне в ухо, днем и ночью28.
Сын покоряется этому и в то же время бунтует: курение, алкоголь, метамфетамины. Он мог появиться на корте в джинсовых шортах или в розовом. И книга с говорящим названием «Откровенно» весьма показательна: это откровенный рассказ о неудавшейся попытке вырваться из-под власти отца, из навязанного ему жесткого воспитательного сценария, в котором не принимались во внимание его реальные потребности.
Я много лет слушал, как отец кричит на меня за промахи. Одно-единственное поражение – и вот уже я сам жестоко казню себя. Я перенял его манеру – его нетерпение, перфекционизм, ярость, и теперь его голос не просто похож на мой: его голос стал моим. Чтобы мучить меня, отец больше не нужен. Я прекрасно справлюсь сам29.
Бунт и жалобы: поведение, не приводящее к реальным изменениям.
На протяжении всей жизни Андре Агасси выступал на высочайшем уровне, как этого хотел его отец. Завершив спортивную карьеру, он стал тренировать знаменитых теннисистов, а также был предпринимателем и занимался филантропией. Однако, несмотря на свой протест, ему так и не удалось полностью освободиться от заданной ему траектории жизни.
Его пример свидетельствует о том, как часто в отношении родительских воспитательных сценариев у детей возникает недовольство, которое ни к чему не ведет. Неудачные попытки бунта не вызывают реальных изменений. Это просто выплеск эмоций. «Бунт» в таких случаях не становится синонимом «трансформации», он не влечет за собой смену перспективы и точки зрения. Все заканчивается, как правило, признанием своего бессилия: человек смиряется с существующим положением вещей, загоняя неудовлетворенные желания глубоко внутрь и оставив надежду когда-нибудь освободиться из-под назойливой родительской опеки.
Я никогда не называл тебя мамой
На протяжении веков, а может, и тысячелетий непререкаемым авторитетом в вопросах воспитания детей считался отец – такова была традиционная патриархальная логика. Матери же отводилась скорее роль заботливой няньки, чем воспитательницы детей. Тем не менее ее отсутствие или отстраненность могли серьезно сказаться на развитии ребенка.
Знаменитый бельгийский писатель Жорж Сименон в «Письме к моей матери»30 рассказывает о своих крайне непростых, холодных отношениях с матерью. Однако именно эта материнская холодность оставила глубокий след в его жизни – а также в сюжетах его романов, где проблемные женские персонажи часто оказываются в центре детективной интриги. В этой работе, написанной 70-летним Сименоном в 1974 г., три года спустя после смерти матери, за которой он неотлучно ухаживал в госпитале в последнюю неделю ее жизни,
он, как кажется, вменяет ей в вину то чувство покинутости и одиночества, которое так или иначе повлияло на его становление.
Я никогда не называл тебя мамой, а только матерью, точно так же, как я никогда не называл отца папой. Почему? Откуда взялась эта привычка? Не знаю31.
В этом письме, столь отличном от письма Кафки отцу, Сименон подводит итоги, пытаясь осмыслить то, что он унаследовал от Генриетты32, которую описывает как «болезненно эмоциональную, но нечувствительную к эмоциям окружающих»33. Это была женщина с трудной судьбой, осиротевшая в пять лет вместе с кучей братишек, без достаточных средств к существованию, не имевшая возможности развить свой ум и способности. Обладая твердым характером, Генриетта не желала принимать ничью помощь – незадолго до смерти она вернула сыну все деньги, которые он ей регулярно посылал.
Ты гордилась своей бедностью и тем, что никогда никого ни о чем не просила34.
Будучи цельной личностью, она сделала аскетизм основой своего существования.
Ты одна отвечала за все, ты, тяжело трудившаяся с утра до вечера, с огрубевшими от бесконечной стирки руками. Ты никогда не была ни злой, ни эгоистичной. Ты следовала своей судьбе…35
В этом произведении Сименон пытается найти логическую нить в жизни Генриетты, понять, какой она была в детстве и какое воспитание получила.
В течение долгих часов, проведенных в госпитале, я пытался понять тебя, узнать тебя, представить себе маленькую Генриетту Брюль, какой она была когда-то, потому что невозможно понять человека, не имея представления о его детстве36.
Он пытается разобраться в том, как она его растила.
Интересно, сажала ли ты меня когда-нибудь к себе на колени. Поскольку у меня нет таких воспоминаний, то, должно быть, это случалось очень редко37.
В какой-то момент он сдается и в конце длинного письма пишет:
Мать, мы здесь вдвоем с тобой. Ты дала мне жизнь, я появился на свет из твоего чрева, ты вскормила меня грудью. И все же я совсем не знаю тебя, как и ты не знаешь меня38.
Душераздирающая концовка. В каком-то смысле в нем заключена суть незавершенности отношений. Речь не столько о том, что сыну в них чего-то не хватало, а в том, что он и его мать так и не узнали друг друга по-настоящему, не успели понять, чего они хотели и чего не хотели друг от друга.
Покинув отчий дом в 19-летнем возрасте, Жорж никогда в дальнейшем не поддерживал отношений с матерью, за исключением того, что оказывал ей материальную поддержку, разбогатев в первую очередь благодаря многочисленным экранизациям своих романов.
В этом письме не чувствуется обиды или досады, но и благодарности в нем тоже нет.
Не подумай, что обижаюсь на тебя или осуждаю тебя. Я никого не сужу39.
Два чужих друг другу человека, чьи пути пересеклись: Генриетта, давшая сыну жизнь, и Жорж, которому даже это письмо не помогло понять, как на жизнь, которую он вел, повлияло его воспитание.
Эта история очень отличается от истории Кафки, заявлявшего своему отцу: «Ты добился именно того, чего хотел, – сделал меня ничтожеством». Сименон не высказывает матери ни одобрения, ни критики, он не восстает против нее.
В его словах ощущается только мучительное недоумение. Как если бы его детство прошло само по себе, при полном отсутствии значимых взрослых. С одной стороны, это история многих поколений людей, чья жизнь прошла в борьбе за выживание, – им даже в голову не пришли бы вопросы, которые обсуждаются в этой книге; с другой же – в этом письме к матери нашла отражение вся боль, которую Жорж Сименон как великий художник сумел воплотить в своих персонажах.
Освобождение от патриархата
А что же дочери? Как на них сказывается материнское воспитание? Как они ощущают присутствие матери в своем взрослении? Их отношения нельзя свести только к конфликту между двумя женщинами, связанными биологическими узами. Это нечто исконное, идущее из глубине веков, нашедшее отражение в знаменитых сказках о Золушке и Белоснежке, где материнская фигура накладывается на образ мачехи или колдуньи. Эти темы представляют собой богатую почву для психоанализа. Достаточно вспомнить теории психоаналитика Мелани Кляйн, сформулировавшей такие понятия, как «отталкивающая мать» и «хорошая и плохая грудь».
Однако при переходе от поколения к поколению фигура матери постепенно выходит из патриархальной тени.
В книге «Под знаком матери»40 Анна Мария Мори собрала свидетельства видных итальянок о материнских фигурах в их жизни.
Среди прочих мы встречаем там Маргериту Хак41, Тину Ансельми42, Мириам Мафаи43, Джойс Луссу44, Россану Россанду45. Присутствует тут и Дача Мараини46, писательница, оставившая яркий след в жизни трех поколений итальянцев и принявшая вызовы конца тысячелетия.
В своем интервью она рассказывает о матери и отношениях с ней, в том числе с точки зрения воспитания, и знакомит читателей со своим восприятием этой проблемы. Родители Дачи Мараини были непростыми людьми, отпрысками знатных семей: ее отец японовед Фоско Мараини – наследник культурных традиций, в свою очередь унаследованных им от отца и деда. Они привили ему непреодолимую страсть к путешествиям, к изучению антропологии, чтению и написанию книг, в которых он рассказывает о своей жизни исследователя47. Ее мать Топация Аллиата была не менее яркой личностью – она принадлежала к одной из самых знатных семей Палермо (дочь князя Энрико Мария Аллиата ди Виллафранка и внучка чилийского дипломата по материнской линии). Эта знатная семья владела обширными земельными угодьями и виноградниками, где производилось знаменитое белое вино «Корво», даже сегодня служащее эталоном вкуса. Топация жила так, как ей нравилось, не заботясь о поддержании семейных аристократических традиций. Она посвятила себя живописи, была подругой Ренато Гуттузо48 и многих других художников и интеллектуалов, в том числе Данило Дольчи49, публициста и общественного деятеля из Палермо. Она всегда стремилась к самоутверждению: это была свободная женщина, опередившая свое время, не терпевшая никакой зависимости. И все же в какой-то момент ей пришлось смириться с реалиями эпохи, все еще полной предрассудков в отношении места женщины в обществе. С рождением дочерей Дачи, Юки и Антонеллы у нее все меньше времени оставалось для занятий искусством. Ее живописные работы очень немногочисленны. Чувствуется, что ее стремление к эмансипации столкнулось с сильным сопротивлением.
Материнскую эстафету подхватила ее дочь Дача Мараини. Энергично и творчески она продвигает идею женской эмансипации – независимости от мужчин, умения справляться самостоятельно, быть свободной в истинном смысле этого слова.
Моя мать не хотела оказывать на меня какого бы то ни было влияния: как и мой отец, она придерживалась идеи о том, что каждый должен сам выбирать, что ему делать, а что нет. Так, она почти никогда не делилась со мной своими взглядами на мужчин, женщин, любовь или замужество: иногда она рассказывала мне истории своих подруг, чьи браки закончились неудачей, возможно, затем, чтобы я вела себя более осмотрительно. Тем не менее она никогда не вмешивалась в мою личную жизнь, не просила познакомить ее с моим поклонником. Моя мать не была моралисткой. Она только спрашивала, счастлива ли я: я благодарна ей за такое воспитание…50
А вот в отношениях с отцом у Дачи присутствует конфликт:
Лишь спустя много времени я поняла, что она, бедняжка, взвалила на себя все заботы по воспитанию трех дочерей, тогда как отец самоустранился. Сегодня я упрекаю отца, которого так любила, в том, что он уделял мало внимания семье. В 70 лет он повторно женился на женщине на 30 лет младше себя. Моя мать же осталась одна, хотя была женщиной, ценившей любовь и романтические отношения не меньше, чем мой отец51.
Материнское влияние оставило неизгладимый след в ее жизни: от матери Дача унаследовала стремление к свободе, автономии и самостоятельности. Круг замкнулся.
Материнское воспитание в полной мере продемонстрировало свою силу, дав дочери освобождающий импульс.
На примере Дачи Мараини мы можем наблюдать, какие огромные изменения произошли в семейной жизни последних поколений.
Запутанный лабиринт полученного воспитания
Писателям, когда они говорят о себе, в силу специфики их деятельности вовсе не требуется, подобно мухе, слишком глубоко увязать в патоке своих семейных преданий. Им достаточно одного поперечного среза, который, не гарантируя абсолютной достоверности, что, к слову, недостижимо, все же ярко и откровенно показывает, как формировался их жизненный путь. Говоря о своем соотечественнике Артуре Шницлере, знаменитом авторе «Новеллы о снах»52, по мотивам которой Стэнли Кубрик позже снимет свой фильм «С широко закрытыми глазами», Зигмунд Фрейд отмечал, что его повествование подводит читателя ближе к пониманию бессознательного, чем теория психоанализа. Я полагаю, что это замечание в равной степени относится ко всем тем писателям, которых я уже упомянул на этих страницах, а также к тем, чьи книги ожидают тебя в будущем, мой читатель. Литература таит в себе драгоценные фрагменты истины, ведущие к более глубокому, полному и аутентичному пониманию того, что значит быть ребенком – к добру или к худу – с воспитательным багажом, который приходится нести на себе всю жизнь. На страницах этой книги, а также множества других можно найти живые свидетельства писателей, отправившихся в путешествие по волнам своей памяти,
чтобы свергнуть родителей с пьедестала – иногда сакрального, показав, как формируются воспитательные сценарии и какое значение они имеют в том или ином смысле на протяжении всей жизни.
Мне хотелось бы, чтобы эти страницы подтолкнули вас не только и не столько к исследованию вашего прошлого, но прежде всего к осознанию, когда и как именно сформировались воспитательные сценарии, которые затем оказали влияние на всю вашу последующую жизнь.
Я намереваюсь предложить вам различные упражнения и опыты. Это не просто развлекательное чтение, но скорее дискуссия, практическая работа. В сущности, такова задача любой книги.
Я приглашаю вас внимательно вглядеться в свое детство, чтобы попытаться обнаружить там те эпизоды, те ситуации и случаи, которые стали определяющими в вашей судьбе. Они неотъемлемая часть вашей жизни, ожидающая, что вы ее осознаете и сумеете расставить все по местам.
Darmowy fragment się skończył.