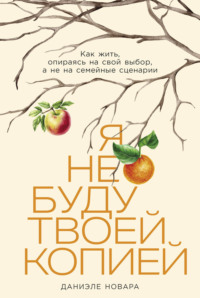Czytaj książkę: «Я не буду твоей копией: Как жить, опираясь на свой выбор, а не на семейные сценарии», strona 2
Метод исследования
Сохраняя некоторые из эпизодов детства, отдельные фрагменты полученного воспитания, наш мозг задействует тот же самый механизм, благодаря которому мы запоминаем сны, чтобы впоследствии сделать их доступными для анализа на психоаналитической сессии.
Воспоминания о полученном воспитании именно в силу того, что они «кристаллизовались в памяти», позволяют глубже проникнуть в самую сердцевину истории нашей жизни, чтобы обработать и доработать пережитое, обнаружив там смыслы, ведущие к пониманию самих себя, – точно так же, как сны в психоанализе.
Это происходит потому, что память служит хранилищем, в котором откладывается все, что поддерживает связь с нашими корнями.
Не существует иного объяснения, почему мы сохраняем в памяти важнейшие эпизоды своего прошлого, имеющие огромное значение для нас самих и безразличные для всех остальных. Многие из этих воспоминаний не имеют никакого отношения к реальности, или, как сказал бы Фрейд, они принадлежат к «покрывающим воспоминаниям»7.
Сам факт сохранения в памяти свидетельствует об их ценности и важности. Как повторяющийся сон, всегда скрывающий в своих глубинах сгусток истины.
Перевоспитание взрослого
Осознание того, что полученное воспитание наложило на нас неизгладимый отпечаток, навязав нам определенный жизненный сценарий, влечет за собой ответственность за снятие этих ограничений и начало новый главы. Необходимо вступить в конфликт с этой частью себя, не отвергая ее, но стараясь выработать новую точку зрения.
Переоценка полученного воспитания остается единственным способом вырасти, жить собственной, а не навязанной жизнью, избавиться от чужеродных наслоений. Учиться во взрослом возрасте означает стряхнуть с себя полученную в детстве «форму», признать, что существуют и другие варианты развития и, хотя эта форма когда-то помогла нам стать на ноги, сегодня есть возможность выбрать новый путь.
Невозможно элиминировать свой воспитательный сценарий, придется осознать его, чтобы затем освободиться от него.
На практике эта задача оказывается одновременно простой и сложной: необходимо не довольствоваться достигнутым, идти дальше, стать самому себе воспитателем, когда дистанция от детской зависимости сделает это возможным. Это того стоит. Ради нового начала.
Глава 1
Я расскажу тебе о своем воспитании
Я получила очень нетрадиционное воспитание.
Естественным образом я унаследовала от родителей терпимость ко всякому разнообразию, связанному с религией, расой, полом, образом жизни.
Маргерита Хак.Вселенная Маргериты
Тем, кто утверждает (а таких людей немало), что полученное воспитание, то есть методы воспитания, которые применялись к ним в детстве, не имеют большого значения, поскольку в дальнейшем каждый человек все равно находит свой путь в жизни, следовало бы прочесть автобиографии некоторых деятелей – как прошлого, так и современности, – которые свидетельствуют как раз об обратном.
Как воспитать нацистского преступника
Офицер СС Рудольф Гесс был комендантом Освенцима с 1940 по 1943 г. Осужденный за преступления против человечности Верховным судом Варшавы, он, находясь в тюрьме, в ожидании исполнения вынесенного ему приговора, вдруг ощутил потребность записать историю своей жизни, уделив при этом особое внимание временам своего детства, словно это могло бы оправдать совершённые им зверства. Именно в воспитании, полученном им в детстве, таился зародыш нацизма – он показался привлекательным человеку, подавленному жестокими и авторитарными воспитателями, которые требовали от него абсолютного и безусловного повиновения.
Я был воспитан в соответствии со строгими военными принципами. Тому же способствовала и глубоко религиозная атмосфера нашего дома. Мой отец был фанатичным католиком8.
Маленького Гесса воспитывали не с помощью проповедей или «поучений», а посредством довольно жестоких методов, не оставлявших места для диалога; глава семейной иерархии пользовался неподконтрольной и непререкаемой властью. Настоящая казарма.
Отдельно укажу также на то, что я беспрекословно выполнял пожелания и приказы родителей, учителей, священника и др. и вообще всех взрослых, включая прислугу, и при этом ничто не могло меня остановить. То, что они говорили, всегда было верным. Эти правила вошли в мою плоть и кровь9.
Аналогичные свидетельства можно обнаружить в фильме «Белая лента», где представлено поколение детей, ставших взрослыми при Гитлере. Это фильм о корнях зла. После завершения просмотра становится очевидным, что этот гнойник вызревал в мире их отцов – в образе жизни, принятом в деревне, где разворачиваются события, а особенно в отношениях родителей с детьми, в воспитании, опирающемся на психологическое и физическое насилие. При этом женщины также оставались безмолвными униженными жертвами домашнего насилия, принуждаемыми к покорности и полному подчинению миру мужчин. Обучение жестокости происходило не вербальным путем, но посредством принятия силовой модели поведения, примером которой служил глава семьи, под страхом отождествления себя с собственной непригодностью и слабостью.
Как показало исследование политика и психолога Джильолы Ло Кашо о связи между мафией и системами ценностей и, в частности, ее влиянии на детей в Палермо, насилие вырастает на почве насилия. В такой семейной и социальной атмосфере у детей формируется своего рода привыкание к насилию, к тому, что противостоять авторитетным взрослым в спорах или конфликтах невозможно, что им нужно безоговорочно повиноваться. Дети, выросшие в атмосфере насилия, впитывали этот язык, который становился их собственным кодексом, поскольку другого они не знали. Они страдали алекситимией10, как и многие нацистские главари, бывшие не просто психопатами, но субъектами, полностью лишенными способности к эмпатии, то есть способности чувствовать и понимать эмоции – как свои, так и других людей.
В то время как мои младшие (соответственно на два года и на шесть лет) сестры были очень ласковы и во всем подражали матери, я всегда, уже с детства, отклонял все знаки нежности, о чем постоянно сожалели мать, все мои тетки и другие родственники. Рукопожатие и слово благодарности – это было пределом того, что можно было от меня получить11.
Именно такой тип людей организованные преступные группировки используют для уничтожения врагов, поскольку они в равной степени равнодушны как к себе самим, так и к другим.
Таким образом, как пишет в своих мемуарах Рудольф Гесс, не осознавая, что подписывает себе приговор, для него исполнение приказов, отдаваемых вышестоящими офицерами, превратилось просто в работу, в обязанность, способ зарабатывать на жизнь.
Мне следовало подчиниться: ведь я был солдатом!12
Прусское воспитание привело к такому чудовищному, леденящему душу результату, что после окончания Второй мировой войны победившие союзники приняли решение стереть этот регион – Пруссию – с географических карт из-за невосполнимого ущерба, нанесенного Центральной Европе доведенным до крайности прусским милитаризмом. Я вижу это так: слишком много вреда прусское воспитание нанесло детям, отвратив их от самих себя и превратив в серийных преступников, сотворивших на земле кошмар, получивший название холокост.
Всего этого не случилось бы, если бы эти дети, повзрослев, отвергли модель, которую им навязывали с детства, вместо того чтобы бездумно поддерживать и воплощать ее вплоть до катастрофического финала.
Но случилось то, что случилось, к несчастью для нас, для евреев и для всех тех, кто был зверски замучен и убит.
Вот в чем заключается смысл работы, которую нам предстоит проделать: осознать полученное воспитание, вступить с ним в конфликт, найти другой путь.
Когда жизнь обретает собственную силу
Идеализировать детей, приписывая им способность делать выбор и отстаивать его, которой они не имеют и не могут иметь, поскольку почти полностью зависят от контролирующих взрослых, означает настоящее посягательство на их мир и их права. Вместо того чтобы признать необходимость создания условий, способствующих их развитию, взрослое окружение и воспитательная среда наделяют детей компетенциями, которые превышают их реальные возможности. Разумеется, такие возможности имеются, однако среди них отсутствует свобода выбора. По крайней мере в том, что касается мира взрослых. В такой атмосфере и вырастают монстры, как это произошло с комендантом Освенцима.
Тем не менее при переходе от детства к взрослой жизни могут возникать точки роста, когда в воспитательном сценарии остается свободное место для прорыва и освобождения.
Образцом подобной ситуации может служить история Гавино Ледда – писателя, родившегося на Сардинии, в регионе Мейлогу провинции Сассари в 1938 г., то есть перед самой Второй мировой войной. В своей автобиографической книге «Отец-хозяин» (Padre padrone)13 он рассказывает о том, как его отец – пастух по профессии – врывается в школьный класс, где он, шестилетний, с интересом слушает учительницу, и безапелляционно заявляет, что сын нужен ему дома.
«Я пришел забрать своего мальчишку. Он нужен мне, чтобы пасти овец и сторожить их… он же мой. Больше некому»14.
Дом был полон голодных ртов, надо было кормить младших братьев, поэтому у Гавино не оставалось выбора: ему пришлось отправляться на пастбище, пасти овец и помогать отцу. Поначалу малыш тяжело переживал расставание со школой, но впоследствии смирился, покорившись отцовской воле. Его учительница не выразила никакого протеста: шел 1944 г., а мы помним, какое тогда было время.
«Я любил своих младших братьев и не хотел, чтобы они умерли с голоду. В своем воображении я представил себе, что им грозит смертельная опасность и они просят меня послушаться отца. Так что, немного поплакав, я последовал за отцом без всякой на него обиды. И времени, прошедшего между выходом из класса и приходом домой, оказалось достаточно, чтобы я мысленно простился со школой»15.
Дети приспосаблиавются к навязанным им воспитательным сценариям, какими бы абсурдными они ни были.
Это естественно, поскольку речь идет об их выживании. Они не могут противостоять взрослым. Тем не менее, как свидетельствует Ледда, в подростковом возрасте начинаются попытки освободиться. Начинается конфликт, смысл которого заключается в плодотворном противостоянии собственным корням и родительским установкам, в возникновении некоей витальной силы, возводящей более или менее четкую границу между своими желаниями и желаниями других, с которыми ребенок до сих пор считался и которым подчинялся.
15 марта 1962 г. Гавино написал отцу из казармы в Пизе, где он проходил военную службу:
Дорогой отец, я пишу тебе впервые – обычно мы переписываемся с мамой. Есть причина, почему сейчас я должен написать тебе. Как ты знаешь, в прошлом году я сдал выпускные экзамены за 8-й класс и открыл для себя важность образования. Я понял, что даже те, кого ты называл ягнятами, могут учиться, более того, они должны учиться. С самого детства ты говорил мне, что люди делятся на ягнят и львов. Что ж, теперь я точно знаю, кто я такой. Ты говорил мне о львах как о счастливчиках: здесь и вправду все они счастливы, начиная с самых мелких хищников, сержантов. Согласно твоей морали, я должен был стать по крайней мере лисой в курятнике. Я же чувствую себя травоядным, вынужденным питаться мясом16.
Важно увидеть противоречия между тем, чего хотим для себя мы сами, и тем, чего хотят для нас другие. Мы уже выяснили, что происходит с теми, кто этого не делает. Гавино Ледда осознал эту диалектику во многом благодаря знакомству с сослуживцем Оттавио Тоти и завязавшейся между ними дружбе. В армии Ледда преодолел свою неграмотность и продолжил учиться дальше, вплоть до защиты диплома по словесности. В конце концов, ему удалось освободиться от доминирования отца:
Ты мне больше не хозяин и не отец. Мне не нужен отец, во мне не говорит голос крови. Я поднялся выше родства. За последние годы многие, чужие мне по крови, сделали для меня куда больше, чем ты, и есть те, кто готов помогать мне и дальше. Я уважаю тебя только как человека. Но если ты попытаешься напасть на меня, я остановлю тебя своими когтями. А если их окажется недостаточно, я наброшусь на тебя и задушу17.
Вот так тот, кто когда-то был малышом Гавино, лягушонком под ногами отца-хозяина, превратился в принца-интеллектуала.
В 1970 г. он поступил в Академию делла Круска, а уже на следующий год был приглашен на должность ассистента по специальности «романская филология» в Университете Кальяри. Он стал автором бестселлеров. Вновь обретя возможность изучать родной язык и литературу, которой его лишили в шестилетнем возрасте, он посвящает этой науке всю свою жизнь. Сколько раз ему являлся призрак отца – а может быть, и матери, напоминая о том, что судьбой ему было предначертано совсем иное? И сколько сил понадобилось ему для того, чтобы разорвать эти путы и стать хозяином собственной жизни?
Это подлинное алхимическое превращение, которое каждый может проделать с собой и помочь совершить другим. Один из возможных его вариантов.
А если остаться сиротой?
Исторически сиротство, в особенности социальное, было привычным для наших предков: многие бедные семьи были не в состоянии прокормить детей или забеременевшая девушка, не имея средств к существованию, была вынуждена отказаться от новорожденного. Практика «колеса подкидышей»18 позволяла передавать нежеланных младенцев в монастыри, где они оказывались на попечении монахинь, а некоторым из них даже выпадало счастье обрести новую семью.
Не вдаваясь в эту тему слишком глубоко, отметим, что сиротство в узком смысле слова означало прежде и означает теперь (с учетом неизбежных исторических различий) утрату одного или обоих родителей в раннем возрасте, например из-за смерти матери во время родов или из-за гибели отца-солдата на одной из многочисленных войн, которые на протяжении столетий уничтожали целые поколения мужчин, сражавшихся на фронте.
В ходе исследования, когда я понимал, что проблемы моих собеседников коренятся в далеком прошлом, я спрашивал, были ли в их семьях (по крайней мере, на протяжении последних 100 лет) случаи сиротства. Такие ситуации вполне могли способствовать эволюционному застою или стать помехой даже для следующих поколений. Другими словами, часто сиротство тяжким бременем ложится на плечи детей, что может разрушить всю семейную систему, препятствуя нормальному психоэмоциональному развитию их потомков. Такова история Анри Лабори, одного из величайших биологов XX в., автора известных научно-популярных трудов, широкую известность которому принесла книга «Похвала бегству»19. Из его автобиографии «Предыдущая жизнь»20 становится понятно, как отсутствие отцовской фигуры может способствовать формированию системы совместного воспитания ребенка, результаты которой проявятся со временем. Маленькому Анри не было и шести лет, когда он остался без отца – тот скончался от столбняка в 30 лет, несмотря на то что сам был врачом. Ребенок отчаянно цеплялся за память об отце, которого он потерял, сконструировав, таким образом, устойчивую форму идентификации, созданную его воображением.
Я никогда не тосковал об отце, поскольку с момента его смерти делалось все, чтобы он продолжал жить во мне, чтобы я стал им. Даже сегодня я отчетливо осознаю, что мой отец, или, скорее, миф об отце, всегда со мной21.
Его мать поначалу провалилась в пучину депрессии и отдалилась от семьи.
Больнее всего мне далось расставание с матерью. Помню, как я всматривался в ее фотографию и мое сердце разрывалось от невысказанной любви, а глаза наполнялись слезами. Я чувствовал, что у меня отняли самое дорогое22.
В отсутствие матери он остался на попечении дедушек и бабушек с отцовской и материнской стороны, со всеми их контрастами и культурными различиями, оказавшись, таким образом, между двумя противоположными воспитательными тенденциями, как между двух огней.
В частности, живя с родителями отца, сосредоточенными только на своей невосполнимой утрате, он постоянно ощущал недостаток внимания заботы и ласки с их стороны, столь необходимых маленькому ребенку:
Безусловно, дедушка и бабушка любили меня, но никогда не окружали той безусловной нежностью, в которой нуждается ребенок с 5 до 10 лет. Я жил одиноко, замкнувшись в себе, и единственным теплым воспоминанием у меня остались вечера, когда бабушка укладывала меня в постель и учила молиться перед сном. После «Отче наш» и «Аве Мария» она добавила еще несколько слов, которые я повторял каждый вечер: «Папа, ты будешь моей религией, ты станешь образцом для меня. Господи, помоги мне исполнить данное обещание»23.
Воспоминания Рике, как его называли в семье, оставались очень живыми, однако только в зрелом возрасте Анри смог осознать, какое влияние на него оказало такое необычное воспитание. Отец продолжал постоянно присутствовать в его жизни, а мать, несмотря на возникшие поначалу трудности, в дальнейшем все же стала довольно значимой фигурой.
Рассудочная холодность отцовской семьи, не признававшей никакой нежности, эмоциональная неустойчивость и социальная несостоятельность предков по материнской линии, а также присутствие матери – упорной труженицы, готовой на любые жертвы из любви к детям, которая придавала слишком большое значение моему положению первенца мужского пола, не сопровождавшуюся четкой логикой и правилами поведения, стали основными элементами, оказавшими влияние на формирование моей личности. Однако самым существенным фактором был любимый, вызывающий восхищение образ отца, не подавляющий, но всегда достаточно гибкий, чтобы постепенно, по мере того, как становилась насыщеннее и разнообразнее моя повседневная жизнь, превратиться в идеал: маяк на горизонте, освещающий неизведанный морской путь, всегда горящий и никогда не гаснущий свет. Отец был для меня самым прекрасным образом, созданным моим воображением24.
Анри пережил и прочувствовал свое сиротство самым творческим, благоприятным и благотворным образом. Отсутствие одного или обоих родителей зачастую становится причиной пробелов в развитии и возникновении трудно компенсируемых «серых зон», однако Лабори заставляет нас задуматься о том, что,
помимо фундаментальной роли, которую играют родительские фигуры, вокруг воспитательного процесса ребенка формируется сложная структура эмоционального и педагогического окружения, которая в некоторых случаях может сыграть важную роль.
Психолог Бруно Беттельгейм хорошо показал это в своей знаменитой книге «Дети мечты»25, посвященной первым израильским кибуцам: первопроходцы, заново заселявшие землю своих древних предков, создали настоящие коммуны, где детей воспитывали не только родители, но и все сообщество в целом, предлагая им широкий набор воспитательных и образовательных моделей. Как рассказывает Анри Лабори, из множества способов, с помощью которых мальчики и девочки могли найти свою путеводную нить в жизни, это, несомненно, один из самых оригинальных и необычных.