КГБ против СССР
Tekst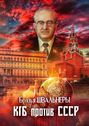


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 460 str. 29 ilustracji
- Kategoria: powieść historyczna, książki o przygodach, sztuki i dramaturgia, współczesne powieści kryminalneEdytuj
Глава третья
08 декабря 1980 года, Москва, Лубянка
– Ну и ну, – с порога начал Андропов, когда Колесниченко и Бобков вошли в его кабинет. – Никак не мог ожидать такого демарша от генерала КГБ… – Бобков опустил глаза – он понял, что его непосредственный начальник ведет речь о книжке, которую он намедни пытался от него утаить, но сделал это как-то посредственно и непродуманно. Колесниченко было непривычно видеть человека такого уровня потупившим взор, пускай даже и перед председателем самой могущественной силовой структуры в СССР. – Добиться таких результатов в столь короткий срок, и попытаться обойти вниманием самую главную находку, которая может привести нас к действительным заказчикам и организаторам не только этого убийства, но и, возможно, целой цепочки других преступлений!
– Товарищ генерал армии, я лишь хотел предотвратить возможные народные волнения в республике, – вяло начал оправдываться Бобков, чья логика и последовательность мыслей еще вчера удивляли следователя. Оттого сегодняшние его оправдания никак не ассоциировались в мозгу с образом всесильного и умного генерала госбезопасности. – Сами понимаете, что такая находка, вкупе с предсмертной запиской Смагина, может значить только одно: что все представители власти, являющиеся киргизами, на своей родине находятся в постоянной опасности. Сколько еще таких книжек разошлось по всей Киргизии? Быть может, Смагин был лишь представителем какой-либо преступной группы, которая поставила убийства киргизских политиков на поток? А, даже если нет, где гарантия, что, опасаясь за свою независимость, киргизы не начнут убивать русских, так сказать, впрок? Мы с Владимиром Ивановичем уже видели некое подобие народного выступления в Чолпон-Ате, и повторение его…
– Я понимаю. Я тоже сначала так подумал, – ответил Андропов, снова удивляющий собеседников своим глубоким знанием оперативного материала и умением просчитывать на два шага вперед. – А потом вспомнил, что во время одного из приемов в ЦК Компартии Узбекистана видел точно такую же книжку на столе у Рашидова. Было это месяца два тому назад, когда нашу делегацию туда отправили с целью вручить Рашидову очередной вымпел за победу в социалистическом соревновании по сбору хлопка. Он, как вы понимаете, в очередной раз рапортовал о своих «успехах», складывающихся, в основном, из приписок, а мы от имени партии, все еще блуждающей впотьмах относительно его истинного лица, должны были его чествовать и премировать. И вот тогда взгляд мой случайно упал на такую вот книжку на его столе. Я еще тогда подумал: что бы ей у него делать? Какое отношение он имеет к Киргизии? И тут, вдруг, такая находка! Да вы садитесь, товарищи…
Колесниченко и Бобков сели за стол, а Андропов вышел из-за него и стал продолжать, нервно расхаживая по кабинету взад-вперед.
– Буквально вчера я поручил нашим товарищам из КГБ Узбекистана проверить, имелась ли в Библиотеке ЦК в Ташкенте такая книжка, которая, как мне удалось выяснить, вообще была выпущена ограниченным тиражом и была закрыта для распространения. Да, имелась! Подарил ее библиотеке не кто иной как сам покойный Ибраимов во время одного из дружественных визитов к Рашидову. Рашидов долго держал ее на руках, но две недели назад вернул, после чего, согласно библиотечному формуляру, книжка была выдана на руки министру внутренних дел Яхъяеву. Причем, последний до сих пор не возвратил ее в библиотечный фонд!
– Вот те раз! – всплеснул руками Бобков. – Но зачем она понадобилась ему?
– Как зачем? Чтобы спланировать покушение на Ибраимова, нужно было располагать точными сведениями, где он проживает, где отдыхает, какие имеет контактные телефоны, и кто является его соседями. Начать расспрашивать самого Ибраимова Рашидову и Яхъяеву было как-то не с руки, он мог бы заподозрить неладное и активизировать работу в Москве. Значит, навести все эти справки им предстояло тайно, инкогнито от него. Чем они и занялись на основании данной книжки. Яхъяев, приехавший во Фрунзе, незадолго до убийства Ибраимова, передал книжку Смагину и возложил на него всю подготовку к покушению. Времени на встречи у него было мало, ведь он практически все время проводил в компании Ибраимова – потому сам он не мог курировать каждый шаг убийцы от и до. Если бы сам взялся, то уж наверняка не допустил бы таких ляпов, как отпечатки пальцев на карабине и следование убийцы до места преступления на рейсовом автобусе…
– Верно, – задумался Колесниченко. – Выходит, что Яхъяев, посланный Рашидовым специально с целью убить Ибраимова и не дать ему встретиться с вами или с кем-либо из состава ЦК, передал Смагину книжку, по которой тот самостоятельно спланировал и осуществил преступление? Поскольку сам Яхъяев присутствовал при убийстве, то сопротивления Смагину не оказал. Но в дальнейшем подготовка оказалась столь топорной, что, предчувствуя скорый крах, генерал спешно вернулся в Ташкент! Выходит, так?..
– Именно.
– Но где доказательства встречи Яхъяева и Смагина накануне убийства?
– Эти доказательства предстоит добыть уже в Ташкенте. Генерал там забаррикадировался, Рашидов будет его защищать как зеницу ока. Но и без этих доказательств – разве уже собранного мало, чтобы заподозрить Яхъяева?
– Более, чем достаточно, – согласился Колесниченко. – Так значит, нам выезжать в Ташкент?
– Не совсем. В Ташкент поедет только генерал Бобков. Работы осталось не так много, и вся она носит технический характер, так что Вашего присутствия и участия практически не требует. Вы сегодня же поступаете в распоряжение Прокурора СССР – для вас есть новая работа.
Последнюю фразу Андропов сказал как-то особенно проникновенно и глядя Колесниченко в глаза, так, что ему показалось, будто он каким-то образом заинтересован в деле, что вот-вот ему должны поручить.
– Что за работа? – уточнил следователь.
– Ограблена вдова писателя Алексея Толстого. Из квартиры вынесено множество драгоценных камней и золотых украшений. Следов пока никаких.
– А КГБ тоже будет принимать участие в расследовании?
– Само собой. Когда речь идет о похищенных драгоценностях, которые вот-вот могут оказаться вывезенными за рубеж – сами понимаете, что тут их просто некому продать, – Комитет всегда включается в расследование. Но на сей раз мы включимся в него через вас.
– Это как?
– Вы показали себя как отличный работник во время работы в Киргизии, так что теперь я бы попросил вас не менее отлично провести все и в Москве. Я понимаю – вы подотчетны Роману Андреевичу, – но прошу вас и меня держать в курсе следствия. Не подумайте, это не стукачество, но те методы, которыми, как вы видите, работает союзное МВД, если не преступны, то уж точно далеки от идеала.
– А причем тут МВД?
– Оперативную работу будут вести они. Не исключен сговор высшего руководства МВД с теми, кто организовал ограбление – вам отлично известна тяга первых к роскоши вообще и к бриллиантам в частности. Потому велик риск того, что, без поддержки сверху, вы можете оказаться в ловушке оперативников, которые либо вообще ничего не будут делать, либо поведут вас по ложному следу. Допускаете такой вариант?
– Допускаю, – Андропов был прав, и следователю было бы глупо не соглашаться с теми истинами, что он озвучивал.
– А допускаете, что Роман Андреевич, человек пожилой и неконфликтный, пойдет на поводу у Щелокова и должной поддержки в вопросах ведения следствия вам не окажет?
– Допускаю.
– Значит, можно считать, что мы договорились?
– Так точно, товарищ генерал армии.
20 октября 1943 года, тот же кабинет
Писатель Алексей Николаевич Толстой появился в приемной руководителя контрразведки «СМЕРШ» Виктора Абакумова ровно в назначенное время, около 17 час 45 мин. Не признать этого человека даже тому, кто никогда не видел в его лицо было невозможно. Хотя внешность у него была весьма характерная и запоминающаяся. Огромный, грузный человек с шаркающей походкой и лысой практически головой, с боков которой некрасиво свисали остатки волос; с каплями белесых отсутствующих глаз на умиротворенном лице; в скрывающим их истинное выражение от всего мира затемненном пенсне, – весь он будто своей несуразностью напоминал своего же героя, кота Базилио из знаменитой сказки. Единожды увидев его, забыть было уже невозможно. Но даже тем, кто никогда не видел его воочию, его гнусавый, надменный и никогда не умолкающий голос едва ли не с порога возвещал, что перед ними знаменитый «красный граф» и секретарь Союза писателей.

Виктор Абакумов, министр государственной безопасности СССР
И возвещал не просто так – с этим человеком советская верхушка очень считалась. Начала она это делать с того момента, как из эмиграции в конце 1920-х вернулся Максим Горький и потянул за собой молодого и талантливого писателя, родственника Льва Толстого, без чьей идеологии не существовало бы философии большевизма. Он нужен был Советской власти, чтобы плюнуть в лицо всему западному миру и всей эмиграции – продемонстрировав, что в СССР даже графу живется вольготно, пишется и думается легче, чем у них, и потому абсурдны все кривотолки, что отпускают вчерашние члены Антанты относительно подавления свободомыслия в молодом советском государстве в отношении «бывших людей». Нет, не подумайте, комфортно и удобно здесь не только пролетарскому писателю Горькому, но и надменно-выспреннему Толстому даже с его незавидным родовитым прошлым!

Алексей Толстой
Таким образом, на каком-то этапе ему просто повезло – выбери Горький в попутчики кого-нибудь другого из бывшего эмигрантского круга, например, своего приятеля Ходасевича, рады были бы и ему. На Толстом просто удачно сошлись звезды – да и не просто эмигрантом он был, а родственником первого поборника правды и справедливости при кровопролитном царском режиме, самого Льва Николаевича! Это было только начало – в последующем Советская власть все так же продолжала расстреливать похожих на него образом мыслей и прошлым людей, а его только осыпала благами, продолжая делать перед Западом хорошую мину при плохой игре. Алексей Николаевич же достаточно быстро вжился в роль, стал потакать новой власти, с удовольствием принимая от нее подарки. И потому, стоило Западу что-нибудь проронить в отношении какого-либо двусмысленного шага Советской власти – в большие кабинеты тут же вызывался Толстой, получал премию или орден, или просто ценный подарок, а также поручение срочно высказаться по спорному вопросу так, как угодно в Москве – и вскоре весь мир уже читал его гневные и возмущенные статьи касательно той напраслины, что Англия и Америка неустанно возводят на СССР. Могли ли догадаться о том, что писатель давно продался? Могли, но не хватало извилин в мозгу и совести, чтобы стать на позицию графа – человека в высшей степени достойного, – который ради праха и тлена желтого металла опустился бы до лжи, да еще во всемирном масштабе. А он опустился, и уже давно. И, судя даже по своим дневниковым записям, перестал это от себя скрывать…
Абакумов назначил ему явиться под конец рабочего дня, когда Лубянка пустела, и основное место действия переключалось на фронты, а также на явочные квартиры. Все-таки тот факт, что писателя – человека по определению неподкупного – подкупают, да еще и в таких кабинетах, должен был быть скрыт от посторонних глаз. Задержав с приемом писателя всего на 15 минут – у него в это время находился его заместитель по следствию Рюмин, – генерал принял инженера человеческих душ ровно в шесть часов.
– Присаживайтесь, Алексей Николаевич.
– Спасибо, – гнусавым голоском отвечал граф. Абакумову он сразу не понравился, но обходить приказы Сталина было не в его офицерской натуре.
– На днях только ознакомился с вашим замечательным очерком, который вы написали и опубликовали в «Правде» относительно краснодарского процесса над коллаброционистами и пособниками гитлеровских захватчиков. Замечательно, остро, емко, за душу берет! Должен вам сказать, что наши так называемые «союзники», которые еще вчера с оружием в руках преступали Советской власти и направляли сюда шпионов да интервентов в диком количестве, первое время настаивали на том, чтобы в состав трибунала, который рассматривал дело краснодарских предателей, были включены представители и их военной юстиции. Дескать, у нас происходит много несправедливых казней, а правосудие в отношении пособников Гитлера должно быть показательно справедливым – чтобы весь мир видел, что принцип гуманизма в том, чтобы не отвечать преступлением на преступление. Но вы им такую славную отповедь дали в своем очерке! И, кстати, не оставили ни малейшего сомнения в том, что приговор в отношении всех предателей был вынесен законный и обоснованный. Думаю, что наши союзники давно уже перевели ваш очерк, а сейчас читают и локти кусают! – Генерал и его посетитель улыбнулись друг другу. – Одним словом, и от меня, и от партии, и лично от товарища Сталина спасибо вам за это!..
– Ну что вы, Виктор Семенович. Как говорится, чем могу…
– Можете, Алексей Николаевич. Потому я вас и пригласил, что можете. Видите ли в чем дело… Я буду говорить с вами начистоту… – Начальник контрразведки встал из-за стола и заходил по кабинету, пряча глаза от собеседника. Понятно было, что ему нелегко вести этот разговор. – После раздела Польши по пакту Молотова-Риббентропа 1939 года, о котором вам писал товарищ Сталин в своем письме, на переданной нам территории осталось очень много польских солдат, которые принимали активное участие в войне против Советской России, которая с подписанием пакта, как вы помните, закончилась. Так вот. Мы тогда не передали их полякам…
– Да, товарищ Сталин говорил кажется, что они убежали в Маньчжурию.
– Он действительно так говорил, но в угоду, так скажем, политической обстановке. Он не мог говорить иначе, если угодно. В действительности должен вам сказать, что никуда они не убежали, а были нами расстреляны и захоронены в районе Катыни. Так вот, несколько месяцев назад, когда Катынь была еще занята войсками вермахта, оккупанты обнаружили там несколько массовых захоронений, произвели эксгумацию и установили с относительной точностью, что эти тела принадлежат польским офицерам, погибшим в результате расстрела советскими патронами из советского оружия. Нашли там в спешке брошенный архив местного УНКВД, который подтвердил их догадки относительно происхождения тел… И вот сейчас Катынь мы освободили. Союзники нажимают – снова требуют, чтобы мы разрешили им доступ к захоронениям, чтобы они лично могли убедиться, что это тела, как мы им сообщаем, расстрелянных немцами местных жителей, а не офицеров Армии Крайовой, как оно есть в действительности. Под их давлением нам пришлось создать комиссию для опровержения этого факта.
– А почему все же не допустить их сюда? – писатель то ли сморозил глупость, то ли правда не понимал опасности происходящего.
– Да вы что, с ума сошли?! Извините, но в этом случае будет установлено, что мы занимаемся тут не меньшим геноцидом, чем гитлеровцы на оккупированных территориях, и еще неизвестно, будет ли вообще когда-нибудь открыт второй фронт. Не думаете ли вы, что после таких вот открытий наши союзники вступят в переговоры с Гитлером, которых он давно ищет и, в поисках которых, готов пойти на любые уступки, и тогда исход войны будет непредсказуем и печален?! Не только для нас, но и для вас!
– Вы правы. Так что я могу сделать?
– Вы должны войти в состав комиссии и подтвердить, как писатель с мировым именем – написав статью, очерк, книгу полноценную. Вам виднее, – что в могилах жертвы не наших, а гитлеровских войск.
Писатель задумался и потер бороду ладонью.
– Да уж, интересно. Если в первый раз, когда речь шла об освещении процесса, у меня проблем практически не было, то теперь… Это ведь будет откровенная фальшивка с моей стороны! Когда-нибудь правда все равно вскроется, и тогда…
– Я предвидел ваш ответ, – прервал его Абакумов, подошел к столу, открыл один из его ящиков и протянул писателю извлеченный оттуда маленький предмет. Тот стал разглядывать его и ахнул:
– Это же королевская лилия! Огранка из белого золота и 21 бриллиант! Не может быть! Откуда это у вас?!
– Мне доложили, как вы смотрели на этот экспонат во время осмотра музея в Краснодаре, сразу после его освобождения. И долго не выпускали из рук. Вот я и решил, что всякая работа, а тем более, такая важная, как ваша, должна быть вознаграждена. Это вам за то, что окажете Советской власти маленькую – да-да, для вас она крохотная – услугу. Так как?
– За живое задели… Что ж, я согласен войти в состав комиссии. Только сам я осматривать тела не буду – не переношу вида крови и разлагающихся трупов. Подписать и написать – что угодно, а вот осматривать…
– Вас об этом никто не просит, это будут делать ученые. Комиссию возглавляет академик Бурденко. О начале ее работы вы будете предупреждены заблаговременно, а пока… можете идти. И спасибо вам еще раз от всего нашего многомиллионного народа!
Доктор Сигурд Йоханссон. О пожаре в гостинице «Россия» и убийстве Султана Ибраимова
Как всегда, у моих досточтимых соавторов, каждая строка и каждое слово буквально изобилуют достоверной и основанной на первоисточниках информацией. Иногда первоисточники эти бывают достаточно закрыты от посторонних глаз, на что я призвал бы вас обратить особое внимание.
Начнем с приведенного в прологе пожара в гостинице «Россия». Думается, до конца повествования авторы еще вернутся к этой теме и дадут ответы на ряд вопросов, обозначенных в самом начале повествования, но мы со своей стороны на самый главный вопрос о правдивости и последствиях описанного пожара начнем отвечать прямо сейчас.
Итак, пожар на 11 этаже гостиницы Россия случайностью не был. Вот какой «Рассказ старшего следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Тараса Карповича Веделовского» приводят в своем романе «Красная площадь» Э. Тополь и Ф. Незнанский:
«…Этот пожар возник не случайно. Сегодня, когда уже нет ни Цвигуна (первого заместителя председателя КГБ СССР – С.Й.), ни Папутина, я могу тебе сказать – это был не пожар, это была война между ними, между Цвигуном и Папутиным. Я не знаю, как и где Папутин получил тогда разрешение создать при МВД новый Отдел внутренней разведки. Я знаю факты: с конца 1975 года весь 11-й этаж в западном крыле гостиницы „Россия“ занял Отдел разведки МВД СССР. Они там устроили свой оперативный штаб и установили самую новейшую аппаратуру подслушивания и слежки – из Японии понавезли, из Америки, даже в Израиле что-то достали. По слухам, им Суслов помог с аппаратурой, но слухи я не проверял, а аппаратуру видел своими глазами и даже пользовался ею, когда вел дело узбекских торговцев наркотиками: ребята из Отдела разведки помогли выследить главаря шайки. Ну, и пока я там сидел у них на 11-м этаже, я понял, чем они занимаются, – это было эдакое гестапо при союзном МВД. Они установили слежку за всеми партийными и государственными руководителями, у них были досье на всех людей, мало-мальски близких к правительству… Короче, второе КГБ, и только! И где?! В „России“, которая, какты знаешь, всегда была вотчиной КГБ, там стукач на стукаче и стукачом погоняет! Директор гостиницы Никифоров – бывший генерал КГБ! Еще бы! В „России“ тьма иностранцев, за ними глаз нужен. Но кроме иностранцев, там и наших полно останавливается: со всех республик начальство, артисты, ученые и самые разные махинаторы, подпольные миллионеры… И вот именно в это осиное гнездо поселяется Папутин со своим новым Отделом разведки. Ну? Две силы, конфликт».1
Надо сказать, что этот отдел в системе МВД являлся самым законспирированным и подчинялся лично министру Н. Щелокову. Штаты этого подразделения находились за семью печатями и были хоть и не столь велики, зато по-настоящему профессиональны. Находилась в этом подразделении и группа, которая отслеживала ситуацию в криминальной среде. В ней работали офицеры, внедренные под различными легендами в уголовный мир. Их основной задачей было разложение преступных групп изнутри. Работали агенты МВД не только в «малинах» и подпольных борделях, но и на «зонах», в тюрьмах. Это была своеобразная рука МВД на пульсе криминального мира страны, чутко реагировавшая на малейшие перемены в нем. Информации, которой они располагали, было достаточно для того, чтобы пересажать почти всех уголовных авторитетов того времени. Однако органы на это не шли, опасаясь таким образом развязать руки нижним этажам преступного мира.2
Через три года после пожара в гостинице «Россия» трагически завершился жизненный путь замминистра МВД СССР Виктора Папутина, с именем которого Тарас Веделовский связывает создание спецотдела: в декабре 1979 года, вернувшись из поездки по Афганистану, он пустил себе пулю в висок. Его коллега по работе Юрий Чурбанов объяснил этот поступок алкоголизмом Папутина и его нервной реакцией на события, которые той зимой разворачивались вокруг Афганистана. Министр МВД Н. Щелоков попытался пробить в «Правде» некролог на своего первого заместителя, но главная партийная газета страны отказалась это сделать, мотивируя тем, что покойный ушел из жизни не добровольно. Тогда некролог появился в «Известиях», но очень коротенький и без привычной фотографии. Самым высоким должностным лицом, подписавшим его, был секретарь ЦК КПСС И. Капитонов. Также скромно и незаметно прошли и похороны В. Папутина на Новодевичьем кладбище. Все это очень напоминало события полугодовой давности, когда из жизни тем же способом, что и Паутин, ушел начальник Академии МВД генерал-лейтенант Сергей Крылов. Случилось это 19 апреля 1979 года в здании академии, после того как приказом Щелокова Крылов был снят со своего поста.
В 1967 году в звании подполковника МВД Крылов назначается новым министром Н. Щелоковым начальником скромного контрольно-инспекторского отдела министерства. Щелокову понадобился под рукой образованный человек, и он выбрал Крылова, имевшего за плечами опыт научно-исследовательской работы в военном институте. Через него и Щелоков вскоре буквально заболел наукой. В стенах МВД на постоянной работе появились доктора и кандидаты наук, что заметно повышало интеллектуальный рейтинг руководства министерства.
Крылов одним из первых милицейских чиновников того времени стал ратовать не за усиление кары для преступников, а за более гуманные социальные меры: условное осуждение, условно-досрочное освобождение впервые оступившихся людей. Такой либерализм не мог не породить массу недоброжелателей как в стенах родного министерства, так и за его пределами. Но Щелоков не давал в обиду своего ученого помощника, более того, во всем потворствовал ему. Ведь Крылов, имея большой вес среди научной и творческой интеллигенции страны, служил для министра надежным мостиком для связей с этой средой.
Управление Крылова превратилось в мощное учреждение, вобравшее в себя многие функции головного штаба министерства. Оно получило право строгого, независимого ни от кого контроля и инспекции всех сторон деятельности как местных органов внутренних дел, так и его линейных, оперативных служб. Оно же приложило руку к созданию сгоревшего в гостинице спецотдела. Поэтому другие начальники главков МВД были недовольны столь широкими полномочиями ведомства Крылова. Атаки на него не прекращались. «Заумные» идеи Крылова встречались в штыки, Щелокову постоянно жаловались на зарвавшегося выдвиженца. Но министр был глух к этим голосам и в 1974 году доверил Крылову создание Академии МВД.
Однако в 1977 году в стенах союзного МВД во всю мощь засияла звезда Юрия Чурбанова, который начал активно теснить в сторону первого заместителя Щелокова Константина Никитина. С этого времени началась и вражда между Крыловым и Чурбановым. Это и понятно: амбиции умудренного опытом Крылова не могли позволить дать спуску какому-то молодому выскочке, даже если тот и являлся зятем самого Генсека. Щелоков же в «битве» двух генералов занимал выжидательную позицию, что в принципе и предопределило ее исход. Молодость взяла верх над зрелостью и опытом. В 1979 году комиссия МВД в количестве 71 человека во главе с Чурбановым забраковала работу Академии МВД. Более того, комиссия уличила Крылова в хозяйственной нечистоплотности, барстве и карьеризме. Эти факты и позволили Чурбанову поставить перед руководством академии и лично перед Крыловым вопрос ребром: или он увольняется, или будет начато служебное расследование по фактам, которые вскрыла в академии комиссия. Не связано ли это с грандиозным провалом и утечкой информации? Если предположить, что сгоревший в гостинице «Россия» спецотдел организовали Крылов и Папутин, то от кого, кроме как от них, могла произойти утечка информации о нем в КГБ (учитывая, что, как верно замечают авторы, вербовать своих в рядах МВД Комитету было строжайше запрещено)?..
6 апреля 1979 года С. Крылов пишет рапорт министру о своей отставке, а 19 апреля, приехав к себе в академию в последний раз, он запирается в своем кабинете и кончает жизнь самоубийством.

Юрий Чурбанов с женой – Галиной Брежневой
Сам Ю. Чурбанов позднее вспоминал об этом так: «Крылов постоянно находился в плену каких-то несбыточных (для органов внутренних дел) идей. В аппарате его не любили. Но он полностью очаровал Щелокова: какие-то его идеи Щелоков потом выдавал за свои, я и мои товарищи (члены коллегии) считали их не только сомнительными, но и вредными… Когда Крылов появился в стенах академии, там начался полный хаос. Ко мне стали поступать серьезные сигналы о самоуправстве Крылова, о его неуважительном отношении к людям, о кадровой чехарде и т. д…. Мы сформировали авторитетную комиссию, в нее вошли начальники ряда управлений: была поставлена задача объективно проверить академию по всем позициям. И чем глубже мы копали, тем больше находили негатива. Смена кадров, протекционизм, но в самые большие дебри мы влезли, когда знакомились с вопросами финансово-хозяйственной деятельности академии. Мебельные гарнитуры, которые покупались для академии, перекочевали в квартиру Крылова, там же оказались два цветных телевизора, принадлежавших учебным классам, – вот, если взять только один аспект хозяйственной деятельности, против Крылова можно было возбудить уголовное дело. Министр ушел в отпуск и отдыхал в Подмосковье. Крылов пытался к нему прорваться, но министр его не принял, как бы давая понять: решайте без меня. Я вызвал Крылова к себе, спрашиваю: „Что будем делать, Сергей Михайлович?“ Кроме меня, в кабинете находился начальник кадров генерал Дроздецкий. Надо отметить, что Крылов вел себя очень нервно. Мне он сказал, что готов расстаться с этой должностью, но просил оставить его в академии преподавателем, я говорю: „Хорошо, вернется министр, решит все вопросы“. Крылов вышел из моего кабинета, поехал в академию, где в этот момент проводилось торжественное собрание, посвященное очередной годовщине со дня рождения Ленина, прошел через весь зал и передал генералу Варламову, который вел собрание, записку, что он хотел бы попрощаться со знаменем академии. Одним словом, бред какой-то. Варламов почувствовал что-то несуразное, быстро закончил собрание – но в этот момент Крылов уходит в свой кабинет, закрывается на ключ, и там раздается выстрел».3
Вот, что написал Крылов в своей предсмертной записке: «Нет сил жить. Если у человека убита вера и надежда, он труп. Господи! Как я работал! Как горел, как боролся! И чем благороднее была цель, чем вдохновеннее труд, тем больше ненависть власть имущих. Я оплодотворил своим талантом и фантастическим трудом интеллектуальную пустыню органов внутренних дел… и за все это я плачу жизнью. Это мир рабов, холуев и карьеристов»…4
Таким образом, в 1979 году из жизни ушли сразу три высокопоставленных руководителя союзного МВД: 19 апреля застрелился С. Крылов; 3 августа скончался первый заместитель Н. Щелокова К. Никитин и в декабре опять же застрелился еще один замминистра, В. Папутин. Все три смерти, последовавшие друг за другом с разрывом в четыре месяца, заметно облегчили жизнь Юрию Чурбанову и расчистили ему дорогу к власти в стенах МВД. В мае 1979 года, после того как на пенсию был отправлен начальник кадров МВД И. Рябик, Чурбанов занялся кадрами, а в 1980 году, сразу после смерти В. Папутина, Чурбанов становится первым заместителем Н. Щелокова.
Итак, теперь становится понятно, что именно с пожара в гостинице «Россия» началось стремительное сваливание вниз заместителей министра Папутина и Крылова, организовавших, по утверждению авторов книги, сгоревший спецотдел, и к каким последствиям в борьбе КГБ с МВД оно привело. Но об этом еще будет сказано. Мы же пока сосредоточимся на расследовании убийства председателя СМ Киргизской ССР Султана Ибраимова, как гром среди ясного неба, грянувшего в конце осени-начале зимы 1980 года в Чолпон-Ате.
Начнем с того, что авторы верно установили личность стрелявшего – им действительно был некий Смагин, уроженец Чолпон-Аты, никогда не видевший Ибраимова при жизни и потому явно не имевший к нему личных претензий и счетов.
Сам Филипп Бобков, герой книги, в своих воспоминаниях расскажет историю расследования убийства – в самых общих чертах…
…Поначалу расследование не приносило никаких результатов: преступник бесследно исчез, чётких свидетельств и примет его не было, серия экспертиз не позволила получить значимые улики. Оперативники долго не могли выйти на след злоумышленника, перепроверив сотни подозреваемых. В ходе расследования преступления по указанию Бобкова впервые в Советском Союзе была проведена биологическая экспертиза отпечатков пальцев, дающая возможность идентифицировать человека.
С помощью этого и других методов спустя время был установлен виновник, житель Чолпон-Аты Смагин, русский по национальности. Он действительно был найден повешенным на шарфе в электричке, стоявшей в депо, в городе Чапаевске Куйбышевской области. При погибшем была обнаружена «Памятка депутата Верховного Совета Киргизии», где были опубликованы персональные данные о парламентариях и членах правительства, включая Ибраимова.
Личных счётов у Смагина к Ибраимову быть не могло, поскольку они не были знакомы и никогда не встречались. В ходе обыске в доме преступника была найдена тетрадь с записью рукой Смагина: «Я буду убивать киргизов, где бы они мне не попались», что навело следователей на мотив преступления. С процессуальной точки зрения дело было раскрыто. Однако сам факт, что преступник был найден уже мёртвым, а потому лично признаться в содеянном не мог, породил в Киргизии недоверие к результатам расследования. Генерал КГБ СССР Бобков приложил тогда значительные усилия, чтобы избежать межнациональной напряжённости в республике.5
