Тройной фронт
Tekst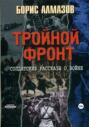


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 340 str.
- Kategoria: książki o wojnie, współczesna literatura
Камикадзе Морфлота
«На торпедном катере…к едрене матери!» – приговаривал мой первый редактор, когда я, еще обучаясь в институте, начал работать в многотиражной газете. В его устах это присловье имело особый смысл – в войну он служил командиром торпедного катера или даже целого дивизиона торпедных катеров.
Юрий Константинович – являл собою еще довольно распространенный, слава Богу, тип русского человека – коего к чем не приставь, то он и сделает! Да еще с блеском! В общем, «когда страна прикажет быть героем – у нас героем становится любой!»
Он сидел в крошечном кабинете, на столе у него стояла эмалированная табличка: на одной стороне было написано: «Ты по какому вопросу здесь куришь?», а на другой «Уходя – уходи!». Табличка поворачивалась к собеседнику разными сторонами и сильно помогала в работе редактора. За спиной на стене у него несколько табличек, неизвестно где добытых. Одна «Осторожно – злая собака» и от руки на стене приписано «и жадная!», табличка «На пол не плевать!» «Уважайте труд уборщиц!» Эмалированная табличка «Денег нет!» и плакат « Рабкор помни: что вымарано – то не будет освистано» – вот эту заповедь я усвоил на всю жизнь, что позволяет мне всю жизнь не ссориться с редакторами.
По утрам Юрий Константинович строил коллектив, включая машинисток, (в конкретном, флотском смысле) перед своим редакторским столом, надевал бухгалтерские нарукавники и доставал счеты, перебирал бровями, свистел щербатым ртом (зубного врача смертельно боялся) и возглашал:
– Так. «Партийный отдел» – тысяча четыреста строк! «Дела профсоюзные» – шестьсот! «Спортивный» – двести… «На темы морали» – сто пятьдесят и кружка пива. «Для вас новоселы» – три совета, две картинки – двести строк, и т. д. – лихо щелкали костяшки на счетах, все казалось легко и просто.
Завершался утренний развод традиционными словами «У матросов есть вопросов? По местам стоять! С якоря сниматься! К четырнадцати ноль-ноль – любимый редактор пришел – удивился: – Газета готова!»
Юрий Константинович прямо со школьной парты пошел на фронт, закончил войну командиром не то дивизиона не то эскадры торпедных катеров. Как он говорил однажды, «сильно приняв на борт», «Наград – как у дурака семечек – образования – ноль, учиться при моих тогдашних чинах невозможно. «Кап два – в училище на первый курс? Не надлежит!»
Тогдашняя партийная власть сделала его «руководителем газеты». И очень скоро он стал замечательным руководителем! Он чувствовал полосу, как свою ладонь, сделать макет номера мог из ничего. В редакции держалась атмосфера веселой интеллигентной игры. В других редакциях – спивались. Но точила Юрия Константиновича единственная большая, и типичная для фронтовиков, беда – он боялся начальства. Наверное, тут играло роль и отсутствие высшего образования и воинская субординация, впитанная, фактически, с детства, и тягучий страх сталинских времен: «Слово не воробей – вылетит – поймают! И посадят!» и т. д.
И вот однажды, когда я принес очерк, где переврал девятнадцать фамилий из двадцати двух и готовился к увольнению, никакого разноса я от него не получил. Хотя он сам только, что вернулся из парткома и вытирал платочком потный лоб.
– Фамилии переврал? Только-то? Если хочешь знать, это даже украсило номер! Мы же кроссворда не печатаем! Ты бы видел, как газету с прилавков рвали. А я тебе даже, отчасти, благодарен. Зная твою любовь к России, я понимаю как ты «скрипел сердцем», когда, обозвав Виктора Иваном, нигде это не обыграл, в том смысле, что вот, мол, «Наш русский Иван закончил ВТУЗ» – Тем более, что переименованный тобою в «Ивана» Виктор – татарин.
И непедагогично, но утешительно, налил мне рюмочку коньяка.
– Мы что газету делаем? Мы милый ты мой, печатную туалетную продукцию выпускаем. Настоящая газета – литература! А настоящая литература – драматургия! Нет драматургии – нет нерва, события, трагедии – нет и литературы!
В инвентаре редакции числилась гитара, и Юрий Константинович очень ловко мог «урезать под рокот струн». Подмигивая, он пел, пил и комментировал:
«Я опущусь на дно морское!
Я подымусь за облака!
Я дам тебе все – все земное –
Лишь только ты люби меня!»
– Ты – понял? «Что -то слышится родного…» Это же хорошо усвоенный Лермонтов. Это же демон поет! Ты понял?
«Я претерпел все муки ада!
И до сих пор я их терплю!
Мне ненавидеть бы вас надо,
А я, безумный, так люблю!»
– Сечешь уровень трагедийности? А накал страстей, в натуре, осязаешь? Ну, что очаровательные глазки вылупил? Наливай! Вот так газету делать надо! Вот так читателя завоевывать! И тогда народ скажет нам большое, «глыбокое мерси». А у нас все больше доценты пишут про проценты! А зачем хрестьянину про это знать? И куды ему податься? Со своей неизбывной тоской? Тока – в шинок! А с газеткой – тока в нужник!
«Я милого узнаю по походке,
Он носит серые штаны.
Он шляпу носит белую панаму!
Штиблеты ( Что ты!) носит на скрипу!»
– Вот где художественный образ! Метафора, аллитерация, елы палы! Это все надо записывать! Это все надо коллекционировать! – стонал от удовольствия Юрий Константинович. – Этому же цены нет! Это – портрет души народа!
Сам он был коллекционер бешеный – собирал экслибрисы, книги, марки, монеты. И говорил мне с гордостью:
Вторая такая марка была еще у капитана Руднева, но она на «Варяге» погибла, а у меня есть!…
Он, одним из первых, начал собирать «перловник» – коллекцию «перлов»: из заявлений, протоколов, писем читателей, объявлений. Частенько он звонил нам в отдел и сообщал:
– Из заявления в милицию «При желании досмотреть драку до конца, был избит обеими сторонами», или из медицинской карточки мальчика, засунувшего голову в ночной горшок. «Анамнез: голова в инородном теле».
Притопывая носками, до зеркального блеска начищенных, ботинок, насвистывая щербатым ртом, он всегда что-то клеил, выписывал, рассматривал в лупу…
– «А, па де спань есть хорошенький танец!
А, так приятно его танцевать….» – обратите всевозможное маленькое внимание на это фото! Скучная подпись! Это же сплошная бюстгалтерия! А где жечь глаголом сердца людей? Переделать! Юноша, вы же гениальны! А не надо лениться… Лень – ворота всех пороков.
И с хрустом потянувшись, вдруг плеском ладоней проходился по груди, коленкам и столу…
– Именно так! Ритм нужен! Динамика. Раз на площади команда с крейсера – балетное яблочко в белых штанишках… Носочки тянуть, носочки тянуть… У них и оркестр, и ансамбль всего черноморского флота. А у меня такой Тима –безликий, в смысле альбинос. Бушлатик скинул, как дал с носка. Без ансамбля! Сам – бля! Один – бля!… Вот именно! Молодец с огурец, задница в солярке. И сразу трудящимся понятно: где система товарища Станиславского, а где искусство. А в Одессе за «Яблочко» – все специалисты! Там на «понял-понял» не пройдет.
А катерник – пространства с пятачок, друг у друга на башке сидим – мотор, патрубки две торпеды и темперамент! Вот отсюда и ритм, и чечетка…
Дымовую завесу раскинут. Полный вперед! 120 км! Катера веером! Он содит из всех стволов! А мы то – фанера клееная. Иной раз прошивает оба борта, а мы на плаву и скорости не теряем. Главное долететь и кинуть в точку. Выполнил боевую задачу – молодец! И чтобы девушка могла тобой гордиться! Торпедные катера – оружие разового пользования!
С крейсера мореманы – ну, просто Лебединое озеро, а катерники народ шустрый, раз двас и на баркас! Вот тебе и ритм.
В День Победы я увидел его в таком блеске орденов и медалей, что у меня в глазах зарябило.
– Двух не хватает. Нет и не будет, – сказал он, сдувая пену с пивной кружки – «Материнская слава» Первой и второй степени. И орден Победы. Хотели мне, но Эйзенхауэр перехватил.
В золоте и серебре я разглядел скромную надпись «За взятие Берлина.»
– А это как же? Вы же катерник!
– Элементарно, Ватсон. Берлин, столица фашисткой Германии, между прочим, расположен на речке Шпрее. А если есть жидкость, хотя бы в стакане – моряк необходим! Дунайская флотилия – слыхал?
Это мы и есть. Между прочим, гады своих морячков из Ростока подтянули на оборону логова. Очень мы мечтали их за кадык подержать, но не довелось… Пока на живописнейшем берегу речки Шпрее колючку рвали – пехота их расчепушила. Не сподобились проверить немецкую шпротину на вкус. Хотя была такая лирическая задумка! Но не сбылась мечта поэта! А к рейхстагу на экскурсию ходил. Автограф оставил. Через «Ф» или через «В»?
– Через «В».
– Умный мальчик. Пива хочешь? Напрасно. Там один морячок, между прочим, с Дона, донской моряк или морской казак, в Берлине отца нашел. Остарбайтен. На электроламповом заводе «Осрам». Вот такой интересный факт. У меня, где – то записано, не то Москвин, не то Москаленко. Еще фотография в газете была. «Сыны освободили отцов». Стоят там такие оба. Нареванные! Вот это я понимаю – материал.
Когда у меня вышла первая книжка, Юрий Алексеевич позвонил:
– Большой пионерский салам! Разведка донесла: вы в писатели подались. Доставили вашу нетленку. Зачел! Как говорится: «Каштаны нас в дорогу провожают,
Мальчишки нас толпою окружают.
На нас девчата смотрят с интерэсом –
Мы из Одессы моряки.»
Вот именно «С интерэсом»! «Ну, что тебе сказать про Сахалин? У нас стоит хорошая погода!»
Испытываем чувство законной гордости. Стал быть, не зря ты в очерках фамилии перевирал! «Осчусчаю глыбокое удовлетворение». Местами. Дерзай! Глядишь и научишься.
А я всегда¸ всю жизнь, чувствую благодарность и горжусь тем, что «пошел в литературу» с рук «катерника». «Камикадзе Морфлота!» как именовал он себя сам. Героя и мученика Великой Отечественной.
Морпехи
Григорий Поженян
Он был похож на боцмана. Усатый, пузатый, широкогрудый. Известный поэт, кинорежиссер, поставивший, когда – то очень популярный фильм о моряках и об обороне своего родного города – Одессы – «Жажда», приехал в писательский дом творчества в Пицунде и сразу пошел купаться. Было тепло, но волна била, как следует. Поженян метнулся в волны, широкими саженками легко отмахал от пляжа и там стал качаться на волнах, как морская круглая мина. Я знал, что он черноморский моряк, морской пехотинец и пытался разглядеть в этом грузном немолодом человеке мальчишку в бескозырке, полосатой тельняшке, бушлате и черных клешах заправленных в сапоги. «Шварцтодт» – «черную смерть» как звали морскую пехоту немцы. И у меня ничего не получалось. Слишком импозантен и по – писательски колоритен он был. Он говорил о войне ярко, подробно, а главное, точно, как может говорить человек, который все это испытал сам.
– Знаешь что самое страшное? Высадят ночью разведгруппу на пляж – за пляжем берег высокий черный, оттуда прожектора шарят… А пляж в колючке и заминирован. И вот стоим, как столбы – замерли… Кто первый шагнет! Кто первый подорвется? Кто до темноты под берегом добежит? Самое страшное ждать у кого нервы не выдержат. Страшно, брат…
Невский пятачок
(Дмитрий Каретников, лейтенант морской пехоты.
Балтийский флот)
Про Невский пятачок слышал? Земли сантиметра нет – все железом накрыто.
Там народу перемололи больше, чем на всем Ленинградском фронте.
Ночью от Невской Дубровки на понтонах переплыли. Половина на дно. А с выкладкой, с боекомплектом – сразу под воду. Без звука и не барахтались. Думали: самое страшное переплыть Неву. А самое то страшное – впереди. Сразу с берега в атаку пошли, и как раз на пулеметы.
Минут через пятнадцать от нас рожки да ножки. А тут к пулеметам минометы подключились. А выбито все как на столе после пьянки. Деваться некуда! А он шпарит огнем. Так, чем спасся?!
Рядами и кучами горы трупов лежат. Наших. Я сначала за такую гору залег. А он как начал бить по площадям – то есть разрывы мин и спереди, и сзади, и с боков. Уж не знаю, как я под эту гору залез и только слышу, как в трупы осколки шмякают. Целый день под трупами лежал. Обстрел то ни на минуту не затихает. Если бы не покойники – хана. Вот так мертвые спасали живых. Ночью стихло чуть-чуть. Вылез, оттянулся к нашим. Там траншея была. Норы такие железом разным накрытые. Целых двое суток немцев отбивал. Пытались в контратаку вставать – не дает! А места топкие – танкам не пройти – тем и спасались, а так бы он нас в Неву сбросил. Артиллерия, конечно с того берега поддерживала… На третий день меня ранило. И поволокли на лодке назад в Невскую Дубровку. И еще половина на дно. Так что я, считай – три раза уцелел. И видишь седина – вот не на висках, а тут, на темени – хохол, будто краской белой мазнули… Это с памятка с Невского пятачка… С тех трех дней. А было мне девятнадцать лет.
Но мы свою задачу выполнили. Оттянули на себя немцев. И держали. Вперед идти нам возможности не было. А держали, как псы! Знай морпехов! Они, небось, так стоять не могли. Когда мы их в Кенигсберге достали, у них много как лучше укрепления были, чем на пятачке, а сдались! Кишка против нас тонка!
Но тяжело было. Тяжело. Однако прорывать блокаду почти, что от Невского пятачка начали. И прорвали. Правда, почти через год. Даже больше. Ранило меня в октябре 41 го, а прорывать блокаду пошли 12 января 1942 го. По льду. Я уже и второй осколок получил за год и опять подлечился. В первом эшелоне через Неву на Марьино шел. Блокаду здесь прорывали мы – моряки. Морпехи!.
Усиленный лед
Я знал о том, как шла через Неву морская пехота и курсанты морских военных училищ, прорывать блокаду. Мне виделись их черные шинели и шапки ушанки и ботинки, вязнущие в снегу. Я даже написал песню. И пел в концертах:
Ах вы , тоненькие мальчики в шинельках черных,
Строевые, рядовые – плохо обученные.
Как вы шли, как шли цепочкой тоненькой…
По винтовке на троих – врагам на смех…
И на белый снег вас поклали всех
Черной ленточкой на белый Невский снег…
Однажды в зрительном зале на моем концерте закричал – зарыдал какой-то седой человек, с пустым рукавом: «Я там был! Я там был!»
И мне стыдно, потому что я этим гордился Особенно стыдно – потому, что сочиненное мною – вранье! Моряки, действительно, полегшие в большинстве своем при прорыве блокады, шли совсем не так! блокада под Марьино, прорывалась совсем иначе, чем я себе представлял. Об этом рассказал Доктор физико – математических
Евгений Петрович Чуров
В 1942 году выпускник ВВМУ им. Фрунзе.
– Без танков немецкую оборону не прорвать, это было ясно. Значит нужно каким-то способом доставить на левый берег танки. Нас четырех лучших математиков училища посадили техническое обоснование обсчитывать. Вроде все обсчитали. Получается, но только при наличии усиленного льда. То есть, лед нужно чем – то накрыть, вроде как арматура – наполнитель, и сверху еще льда наморозить.
Ну, и естественно, по морской традиции, если это наш проект – нам его и исполнять. Вечером подвезли на правом берегу такие вроде короба из бревен клетки и солому. Начали выдвигать эти короба на лед в них солому и рядом солому на лед и водой сверху. А мороз под сорок – сразу схватывает. Метель метет. Прекрасно! Мы вчетвером на самом острие этой гати: берем – укладываем, берем – укладываем, дальше на солому воду помпой качают. Морячки на морозе бушлаты скинули – дымятся. Метель, Слава Богу! Выложили под самый берег. Переправа парит – вода замерзает. Успеет схватиться – не успеет?!
Под утро ветер не стих, а метель улеглась – поземка по льду метет. Рассвело.
И тут немцы – как дали! И наши – из всех стволов!
А с того берегам по нашей гати валом моряки. Их осколки косят, но все равно валом идут. И за ними по гати – танки. Мы стоим, замерли – пройдут не пройдут… Так и кажется, что провалится лед – танки только пушками мелькнут. А они валят прямо по убитым! Им же с гати ни в лево, ни в право! Первый проскочил, с той стороны еще идут! Ползут, пушками качают… Морпехи прут и по дороге, и по льду. И двумя черными ленточками вдоль нашей дороги ложатся:– голова – ноги, голова – ноги. Между ленточками наша дорога цвета клюквенного киселя – флаг такой – с двумя траурными каемками.
Первый танк на берег залез, второй …
Не помню, кто сказал:
– Ну, теперь все!
Тут нас и накрыло! Николая в руку, мне в живот осколок! Уже в госпитале, в Вологде, узнал, что блокада прорвана. Нам все четверым ордена дали и по звезде на погоны. Но я уже вернуться на флот не смог – не годен. Пришлось заниматься математикой.
Мы с тех пор каждый год вчетвером встречаемся 12 января. В наш главный день.
Война
Виктор Алексеевич Федоров
(воспоминания блокадного мальчишки)
22 июня 1941 года было воскресенье. Мы с тетей Верой поехали за город в Пушкин. Там узнали, что началась война.
Началась страшная паника. Все кинулась на вокзал. Народ брал штурмом вагоны, стараясь уехать в Ленинград. Доехали мы благополучно. Дома ждала расстроенная мама. Жили мы на проспекте Обуховской обороны около сада имени Бабушкина. Все взрослые были очень расстроены, а мы, ребятишки, думали, что война быстро закончится.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, враг продолжал лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Как мы знаем, блокада началась в сентябре 1941 года. Это было неожиданностью для нас.
Начались тяжелые дни для людей нашего города. Сгорели Бадаевские склады с продовольствием. Самые тяжелые годы были 1941-1942 включительно.
Люди начали голодать, опухать от голода, умирать.
Карточки
Однажды, я зашел к деду и бабушке и прилег отдохнуть. Через некоторое время зашла мама, и мы стали собираться домой. В это время я обнаружил, что у меня пропали продовольственные карточки. Я спросил бабушку, не брала ли она их, но она сказала, что, наверно, я их потерял. Расстроенные мы ушли домой. В то время, оставшимся без продовольственных карточек, грозила неминуемая смерть от голода.
Через месяц после этих событий пришел дед и сказал, что бабушка умерла. Мы с мамой пришли к ним, чтобы похоронить ее. И когда мама подняла подушку, там оказались наши карточки. После этого мама сказала деду, что хоронить не будет. И мы ушли.
Через два дня дед пришел к нам и попросил, чтобы я отвез бабушку. Я положил бабушку на санки и отвез ее в церковь, которая находилась на месте станции метро Ломоносовкая. Там собирали всех умерших.
Люди умирали прямо на улицах. Мы с другом Колькой стояли в очереди за хлебом, и когда очередь стала двигаться , он упал и умер. Я привез его домой. Его мать тете Настя заплакала и сказала, чтобы я отвез его в церковь. Потом я много отвозил умерших.
До войны мы жили неплохо. У нас были неплохие вещи и благодаря им, мы выжили, когда бабушка украла у меня карточки. Мы вещи меняли на продукты. Я сам менял теплые рукавички на продукты.
У нас была соседка Мария Ивановна. Один раз я зашел к ней – она жарила лепешки из детской присыпки на вазелине. Я попробовал, и мне понравилось.
В саду имени Бабушкина стояла кавалерия.
Во время обстрела в комнату деда попал снаряд, и деда убило. Я тоже отвез его в церковь.
Мы часто с ребятами дежурили на крыше во время бомбежки. Мы с другом погасили две зажигательные бомбы. Одна бомба разорвалась около нашего дома. Были выбиты все стекла, и пришлось окна заделывать досками.
Моя мама работала на заводе им. Ленина, там давали доп.пайки. Один раз, когда я там был, наши летчики сбили немецкий самолет. В этот день был большой налет и мы с трудом с мамой ушли домой.
Отец
Время было очень тяжелое. Взрослые записывались в ополчение. Мой отец Федоров Алексей Антонович и двое моих дядей записались в ополчение. Их отправили в район завода «Большевик», где собирались все ополченцы и пошли они в сторону Рыбацкого. Мы с мамой проводили их и вернулись домой. И началась блокадная жизнь.
Несмотря на блокаду, мы, дети, пошли учиться в школу на Ивановскую улицу. Когда возле школы взорвалась бомба, занятия отменили. Мы, ребята, помогали взрослым, чем могли. Дежурили на чердаках, помогали ловить ракетчиков.
Однажды, соседки пришла к маме и сказала, что в госпитале много раненых ополченцев. Мама поехала в госпиталь и нашла отца. Он был ранен и лежал там. Она привезла его домой, и он был у нас, пока не поправился. Спал он у нас на плите. На самом теплом месте.
После этого он ушел в часть, которая стояла в селе Рыбацком. Мы ходили в Рыбацкое навещали его там, пока их не отправили на фронт..
Я пошел работать
В конце 1942 года я устроился учеником монтера на 5-ю ГЭС и стал там работать. Ходили на работу пешком. Это почти 8 километров.
Когда я пришел в цех меня коллектив встретил очень радушно. Бригада наша состояла из 7-ми человек. В ней были спайщик Осин Борис. Михайлов Виктор и другие товарищи. Через полгода я работал дежурным монтером. У нас на телефонной станции работало 9 телефонисток. Они тоже работали в смену.
При артобстрелах и бомбежках часто выходили кабели из строя, и нам приходилось их восстанавливать. Мы очень старались. Однажды после очередного ремонта кабеля, мы устроились в траншею отдыхать. Мастер Попов увидел, что мы там находимся и сказал чтобы мы шли в район станции. Когда мы оттуда ушли, в эту траншею попал снаряд, а мы все остались живы.
После этого меня направили к мастеру Китаеву на аккумуляторные дела и обслуживание электрочасов. Меня послали в Ленэнерго, где я проходил курс обучения. Там были хорошие мастера.
Еще мы занимались зарядкой аккумуляторов. Около станции стояла зенитная батарея, для которой мы заряжали аккумуляторы для приборов. Я часто ходил на эту батарею и носил туда аккумуляторы, где меня подкармливали.
Кроме того, к станции подходили подводные лодки, где мы тоже заряжали аккумуляторы. Мы часто ходили на задний склад, на погрузку торфа, где нам давали стахановские талоны на питание. Еще мы ходили в совхоз «Красный Октябрь» и там помогали совхозникам.
