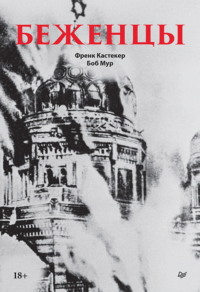Czytaj książkę: «Беженцы», strona 3
Верховный комиссар – новый институт на хрупком фундаменте
Когда в 1933 году началась принудительная миграция из Германии, не существовало международной организации, «по определению» отвечающей за беженцев. Традиционная структура Лиги Наций по делам беженцев, Нансеновская международная организация по делам беженцев, не была уполномочена заниматься какой-либо новой группой. Ее миссия ограничивалась русскими беженцами (после революции, Гражданской войны и последующего голода). Распространение ее мандата на новые группы беженцев потребовало бы внесения поправок в соглашение о создании организации, как это пришлось делать, в частности, в отношении армянских беженцев в 1920-х годах. Такую поправку было бы трудно получить, и она в любом случае не устроила бы советское правительство, которое отвергло бы Нансеновскую организацию за ее якобы антисоветскую политику поддержки русских беженцев. Однако Лига Наций не только надеялась вовлечь Советский Союз в процесс по разрешению нового кризиса с беженцами, но и хотела, чтобы он присоединился к ней, – что и произошло в 1934 году. Усиление значения Нансеновской организации угрожали бы этим надеждам. Как бы то ни было, в начале 1930-х годов Лига Наций в значительной степени утратила свой авторитет. В то же время Европа все еще боролась с экономическим кризисом, и беженцы рассматривались в основном как нежелательное бремя, а не как преимущество для внутренних рынков труда.
Другим международным институтом, традиционно занимавшимся миграционной политикой, была Международная организация труда (МОТ, International Labour Organization, ILO), которая рассматривала проблему беженцев на одной из своих международных конференций летом 1933 года, но только в той мере, в какой она затрагивала национальные рынки труда. Глава МОТ Альберт Томас рассматривал проблему беженцев в целом как вопрос расселения «избыточного населения», а контроль над миграцией – как основу «рациональной демографической политики». МОТ заказала исследование по этой проблеме. Однако, согласно немецким источникам, Генеральный секретарь Лиги Наций даже не счел резолюцию МОТ по беженцам из Германии достойной доведения до сведения стран – членов Лиги.
Дискуссии о необходимости создания нового учреждения для беженцев из Германии начались весной 1933 года, но ни одна страна не настаивала на этом, поскольку такой шаг мог оскорбить немецкое правительство. Немцы обычно утверждали, что евреи, покидающие Германию, не были лицами без гражданства (обычными подопечными Нансеновской организации) или вообще беженцами, поскольку, по данным Министерства иностранных дел Германии, они уехали из Германии в страхе потерять свои привилегии. Германия все еще была членом Лиги Наций и могла наложить вето на любые действия Лиги в отношении беженцев, такие как учреждение должности Верховного комиссара. Осенью 1933 года Германия вышла из Лиги, но любое аннулирование членства вступало в силу только через два года. Обеспокоенные снижением авторитета Лиги, Генеральный секретарь, а также многие члены Лиги надеялись, что немцы отменят свое решение, если намеченные реформы международной организации будут соответствовать их требованиям. Таким образом, среди членов Лиги существовал консенсус в отношении того, что инициатива по созданию нового учреждения, занимающегося беженцами, прибывающими из Германии, не имеет шансов, если правительство Германии не даст на это согласия, по крайней мере молчаливого. Спустя долгое время и с большой неохотой голландское правительство наконец выступило с инициативой создания института Верховного комиссара по делам беженцев из Германии, при этом неоднократно подчеркивая для немцев, что это следует рассматривать не как критику Германии, а исключительно как меру самообороны.
Тот факт, что никто не хотел идти на конфронтацию с немцами, привел к компромиссу, который с самого начала ослабил Управление Верховного комиссара. Во время предварительных обсуждений немецкий представитель в Лиге дал понять, что Германия воздержится от своего права вето только в том случае, если новый орган по делам беженцев не будет официальным учреждением Лиги. Таким образом, антиеврейская политика Германии не могла стать темой для обсуждения на Генеральной ассамблее Лиги. Эта просьба имела далекоидущие последствия: вновь созданная Верховная комиссия оставалась учреждением, не подотчетным самой Лиге, а комиссар не имел права отчитываться о своей деятельности перед Генеральной ассамблеей Лиги. Таким образом, Верховная комиссия оставалась несколько маргинальным институтом в кругах Лиги. Это «дистанцирование» даже приобрело конкретную форму с предложением Генерального секретаря Лиги Жозефа Авеноля, чтобы комиссар проживал в Лозанне, на известном удалении от штаб-квартиры Лиги в Женеве. Из-за нежелания стран – членов Лиги финансировать новое учреждение оно поддерживалось почти исключительно за счет частных средств, в основном еврейских организаций. Верховный комиссар получил из фонда Лиги 25 000 швейцарских франков на организационные цели, но это был всего лишь займ, который должен был быть погашен в течение года. Такими ограничениями Авеноль надеялся успокоить немцев, которые собирались покинуть Лигу.
В итоге первым Верховным комиссаром был назначен Джеймс Г. Макдональд, гражданин США. Его выбрали в основном потому, что эта кандидатура могла бы быть принята немцами. Макдональд имел тесные контакты с Германией и выражал свои симпатии к этой стране, защищая ее от обвинений в военных зверствах в ходе Первой мировой войны. На самом деле правительство США выступало против назначения гражданина США на пост Верховного комиссара, опасаясь, что это может подорвать иммиграционную политику Соединенных Штатов. Инициаторы создания нового института в рамках Лиги надеялись, что этот выбор позволит привлечь Государственный департамент США к усилиям по решению проблемы беженцев, даже несмотря на то, что США не являются членом Лиги. При поддержке Американской ассоциации внешней политики, председателем которой он был в течение многих лет, Макдональд в течение нескольких месяцев лоббировал создание Высшей комиссии. Однако в основном на него оказывали давление еврейские организации, и в определенном смысле создание отдельного учреждения, занимающегося вопросами беженцев, было их достижением.
Хотя Верховный комиссар не был подотчетен Генеральной ассамблее Лиги, он должен был отчитываться перед руководящим органом. В состав Комиссии входили представители 12 государств: Бельгии, Великобритании, Дании, США, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Швейцарии, Чехословакии и Уругвая. Большинство правительств ожидали без огромных заявлений, что их представители сделают все возможное, чтобы направить беженцев в другие страны. Реальный интерес к деятельности Верховной комиссии проявили только страны, принявшие значительное количество беженцев, но они лишь хотели использовать ее как инструмент для избавления от «своих» беженцев. Франция, например, была убеждена, что единственная задача Верховного комиссара – расселение: быстрая эвакуация беженцев из принимающих стран. Французский делегат Анри Беранже выразился прямо: «Франция – это “коридор”, а не “пристанище”» («La France c’est un passage, pas un garage»).
Помимо руководящего органа, для оказания влияния на политику Верховного комиссара был создан Консультативный совет, состоящий из представителей организаций, занимающихся оказанием помощи беженцам. Несмотря на конкуренцию между различными организациями, Совет играл важную роль в оказании поддержки беженцам в практических вопросах. Более того, наиболее влиятельные организации в Совете, такие как Американский еврейский объединенный распределительный комитет (American Jewish Joint Distribution Committee, AJDC, «Джойнт» – организация, оказывающая помощь евреям, живущим за пределами США, которые находятся в опасности или испытывают нужду), Палестинское еврейское колонизационное общество (Palestine Jewish Colonization Association, PICA, или ICA), сыграли важную роль в финансировании Верховного комиссара, в то время как государства, представленные в руководящем органе, отказались нести какое-либо финансовое бремя. Одной из главных проблем, которую должен был решить Макдональд, был перевод еврейской собственности из Германии, что позволило бы еврейским эмигрантам начать новую жизнь за границей. Главным препятствием, мешавшим деятельности Верховного комиссара, был тот факт, что ему не хватало поддержки со стороны государств – членов Лиги, а немцы отказались даже принять его. Они утверждали, что их антиеврейская политика была внутренним делом не только из принципа, но и потому, что они не желали идти на какие-либо компромиссы в вопросе экспорта еврейских активов, поскольку, согласно их антисемитской пропаганде, евреи достигли своего богатства только за счет эксплуатации и обмана германских неевреев. В результате Макдональд практически ничего не мог сделать для ускорения решения этой конкретной проблемы и, как следствие, уделял больше внимания другим аспектам проблемы беженцев.
В 1935 году, после двух разочаровывающих лет пребывания на посту, Джеймс Макдональд подал в отставку. Он не смог договориться с немецким правительством и не добился особых успехов в содействии расселению беженцев в зарубежных странах. Макдональд – не единственный, кто был разочарован результатами собственной работы. Некоторые видные еврейские лидеры выразили недовольство его «безынициативностью и слабыми усилиями» и прокомментировали, что Макдональд «поставил себе в заслугу реальную помощь, оказанную еврейскими организациями». Задолго до его отставки, в сентябре 1934 года, организации по оказанию помощи в Великобритании и Франции рассматривали возможность прекращения финансирования бюджета комиссара и хотели, чтобы он ушел в отставку. После отставки Макдональд, тем не менее, продолжал заниматься работой с беженцами; он стал членом Консультативной комиссии по делам беженцев при президенте США, а после Второй мировой войны служил послом США в Израиле.
Ограничение труда и политика лишения собственности
В первые месяцы пребывания Гитлера на посту канцлера соседние страны принимали беженцев и пытались разместить их, хотя бы на временной основе. Когда нацистское правительство оказалось более стабильным, чем предполагалось вначале, и стало ясно, что беженцы еще долго не вернутся в Германию, отношение общества к ним в принимающих странах стало более враждебным. Из-за экономического кризиса и высокого уровня безработицы беженцы рассматривались прежде всего как угроза национальным рынкам труда. Поэтому одними из первых мер по ограничению притока беженцев стали ограничения именно на доступ к рынку труда. В ряде стран трудоустройство иностранцев должно было быть одобрено государством, и оно не разрешалось при наличии местных работников. В конце декабря 1934 года один из сотрудников Верховного комиссара сообщил о ксенофобской атмосфере в Нидерландах, основанной на «общем ощущении… что в течение нескольких лет страну заполонили иностранцы, которые нечестно конкурируют на рынке труда». В то время как Министерство иностранных дел Нидерландов выразило сочувствие положению беженцев из Германии, «департаменты экономики и социального обеспечения в настоящее время ведут своего рода экономическую войну с иностранной рабочей силой, что, конечно же, является очень прискорбным разрывом с либеральными традициями страны». В Дании правительство высказало аналогичные опасения по поводу конкуренции, которую немецкие беженцы представляют для датских безработных. В начале 1935 года сотрудник Верховной комиссии сообщил из Австрии, что «только в очень редких случаях выдавались разрешения на трудоустройство беженцев из Германии». По словам представителя Американского еврейского объединенного распределительного комитета осенью 1934 года, в нескольких европейских странах весьма усилилась ненависть к иностранцам и беженцам. Иногда даже некоторые представители еврейских общин в странах убежища занимали позицию против беженцев, опасаясь, что их собственное положение может пострадать с ростом антисемитизма, якобы спровоцированного огромным количеством еврейских беженцев из Германии.
Ужесточение политики ограничений в странах убежища сопровождалось эскалацией нацистской антиеврейской политики, направленной на то, чтобы вытеснить еще больше евреев из рейха. После беспорядочной череды злодеяний в первые месяцы правления режима сотрудники СД и гестапо, стремившиеся найти решение так называемого еврейского вопроса и постепенно взявшие на себя инициативу в руководстве антиеврейской политикой в нацистской Германии, сосредоточились на принуждении молодых евреев к эмиграции. В 1934 году СД изложила свою позицию в следующем заявлении:
Для евреев условия жизни должны быть ограничены – не только в экономическом смысле. Германия для них должна быть страной без будущего, где остатки старых поколений могут умереть, а молодые не могут жить, так что стимул для эмиграции остается жизненно важным.
Таким «стимулом» было прежде всего уничтожение материальной базы существования немецкого еврейства.
Нацистская политика изгнания евреев была противоречивой с самого начала. Некоторые бюрократические меры и преследования, направленные на изгнание евреев из Германии, на самом деле препятствовали их эмиграции. В частности, лишение евреев собственности с помощью налогов, сборов, профессиональных ограничений и запретов, а также ограничительные правила, касающиеся перевода имущества в другие государства, превращали эмигрантов в «нежелательных» людей, которые с точки зрения иммиграционных властей принимающих стран, скорее всего, станут «общественным бременем».
Как и еврейские художники и журналисты, которым не разрешалось вступать во вновь созданные профессиональные организации (имеется в виду Имперская палата культуры (Reichskulturkammer, RKK), организация, объединявшая всех творческих работников рейха, созданная в 1933 году. – Примеч. ред.), открытые только для «арийцев», еврейские рабочие были исключены из Arbeitsfront (Deutsche Arbeitsfront, DAF, Германский трудовой фронт), Объединенный профсоюз работников и работодателей, созданный в мае 1933 года на базе NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, Национал-социалистической производственной организации)). DAF заменил все разгромленные нацистами профсоюзы, а еврейских рабочих в него не принимали изначально. – Примеч. ред.), официальной рабочей организации. Страховые и больничные пособия могли получать только члены Arbeitsfront. Вследствие этого, а также после увольнения евреев с государственной службы и запрета работать по ряду профессий уровень безработицы и обнищания среди немецкого еврейства значительно вырос. Как отмечал Герберт Штраус, «если учесть небольшие займы и другие формы социальной помощи в расчете числа лиц, получающих поддержку, то в 1935 году до 33 % немецко-еврейского населения, возможно, получали ту или иную форму социальной помощи – около 52 000 евреев получали помощь от государственной системы социального обеспечения». Так обстояли дела еще за несколько лет до начала так называемой деиудаизации немецкой экономики в 1938 году.
В то время как немецкое правительство лишало все больше евреев возможности зарабатывать на жизнь, оно также не давало им возможности начать новую жизнь за границей. В 1934 году сумма денег, которую эмигранты могли взять с собой за границу, была сокращена до 2000 RM (рейхсмарок. – Примеч. ред.) вместо 10 000 RM. Одним из важнейших инструментов лишения беженцев собственности был налог на побег из рейха (Reichsfluchtsteuer). Этот налог существовал с 1931 года и был призван ограничить эмиграцию состоятельных людей и защитить стоимость германской валюты. Поэтому он распространялся и на тех, кто покидал страну добровольно. Однако с 1933 года этот налог был направлен в первую очередь против еврейских эмигрантов, которые были вынуждены оставлять часть своего имущества в Германии при выезде из страны. Первоначально налог взимался только с тех, кто зарабатывал более 20 000 RM в год или владел имуществом стоимостью более 200 000 RM: они были обязаны платить 25 %-ный налог на побег из рейха. В 1934 году налоговая база изменилась и стала включать тех, кто владел 50 000 RM в любое время с 1931 года. В последующие годы порог налога постепенно снижался, тем самым расширяя круг тех, кто подлежал налогообложению. Тем, кто не мог заплатить налог, отказывали в разрешении на выезд из страны. Эмигрантам было предписано перечислить свои деньги на специальный счет, к которому они не имели доступа. С него они получали только небольшие суммы на повседневные траты. Таким образом, даже относительно состоятельные люди вынуждены были снизить уровень жизни. В 1936 году было создано Управление валютного контроля, которое значительно ужесточило слежку за финансовыми делами эмигрантов.
В то же время СД пыталась влиять на жизнь еврейского населения, препятствуя любым так называемым ассимиляционным тенденциям среди еврейских лидеров и одновременно поощряя сионистов, поскольку они рассматривались как движущая сила эмиграции. Таким образом, эмиграция евреев в Палестину поддерживалась нацистскими властями – по крайней мере до тех пор, пока появление еврейского государства там казалось маловероятной перспективой. Однако после того, как комиссия Пиля (Королевская комиссия по Палестине, которая была создана для расследования жестоких арабских восстаний, пришла к выводу, что британский мандат более не действует. – Примеч. ред.) предложила создать в Палестине еврейское государство рядом с арабским, эта политика изменилась. В ноябре 1937 года сотрудники отдела II 112, отвечавшего за антиеврейскую политику СД, резюмировали, что до этого момента «главной задачей» СД было подавление всех «ассимиляционных тенденций» в немецком еврействе. Однако в будущем, когда Министерство иностранных дел Германии займет позицию против создания еврейского государства, СД больше не должна будет поддерживать сионистов. Это изменение политики должно было держаться в секрете от евреев. Важнейшим моментом было разъяснить евреям, живущим в Германии, что единственным выходом является эмиграция.
Соглашение Хаавара, заключенное в августе 1933 года между министром экономики Германии и представителями сионистов из Германии и Палестины, позволило еврейским эмигрантам вывезти в Палестину хотя бы часть своего имущества и в то же время способствовало экспорту немецких товаров в эту местность. Для германского правительства ожидаемая выгода для внешней торговли была главным мотивом для подписания соглашения. Среди еврейских организаций возникли серьезные разногласия. С одной стороны, утверждалось, что соглашение косвенно поддерживает немецкую экономику и подрывает еврейский бойкот немецких товаров, организованный специальным комитетом, размещавшимся в Нью-Йорке. С другой стороны, сионисты утверждали, что активы немецких евреев, переведенные в Палестину, были крайне необходимы там для организации жизни еврейского населения.
В середине 1930-х годов подобные планы по переводу еврейских денег в другие страны, помимо Палестины, обсуждались еврейскими организациями в Германии и за рубежом. Британский сионист и владелец универмага Саймон Маркс разработал план организации эмиграции от 60 000 до 100 000 молодых немецких евреев. Их поселение в Палестине и других странах должно было финансироваться за счет пожертвований, собранных среди евреев за пределами Германии. Еврейский банкир Макс Варбург, член Имперского представительства немецких евреев (Reichsvertretung der deutschen Juden), имевший сравнительно хорошие отношения с президентом Рейхсбанка (Reichsbank, Центральный банк Третьего рейха) Яльмаром Шахтом, представил другой план. Согласно Варбургу, активы и имущество еврейских эмигрантов в Германии могли быть выделены в качестве обеспечения кредитов, предоставляемых эмигрантам трастовой компанией, которая должна быть создана в Лондоне. Варбург рассчитывал, что учредителями этой компании станут богатые и влиятельные еврейские деятели, такие как Энтони де Ротшильд, лорд Берстед и Саймон Маркс. План Варбурга в определенной степени подвергся той же критике, что и соглашение Хаавара, а именно: он должен был способствовать экспорту немецких товаров. Объединенный вариант плана Маркса и «плана Варбурга» обсуждался между членами Имперского представительства, с одной стороны, и делегатами Рейхсбанка, имперским министром экономики и имперским министром внутренних дел – с другой. Немецкие власти рассчитывали увеличить за счет такого соглашения экспорт. Однако по разным причинам переговоры зашли в тупик. Пока активы эмигрантов на заблокированных счетах уменьшались за счет так называемого налога на выезд (условием выезда было внесение каждым евреем суммы от 1000 до 2000 фунтов стерлингов на банковский счет. На эти средства компания Хаавара закупала немецкие товары для экспорта из Германии в Палестину. После прибытия на место репатриант должен был получить эквивалент внесенной в Германии суммы в палестинских фунтах. При этом германское правительство забирало половину денег от продажи еврейской собственности. Позднее аппетиты нацистов выросли, и к 1938 году «эквивалент», получаемый эмигрантом, не превышал 10 % исходной суммы. – Примеч. ред.), в качестве обеспечения кредитов за рубежом можно было использовать лишь небольшие суммы. Ограниченные результаты, достигнутые в рамках соглашения Хаавара, не оправдывали оптимистичных перспектив перевода крупных сумм, заложенных в «плане Варбурга». Кроме того, после того как эмигранты покидали страну, их оставшееся в Германии имущество считалось бесполезным в качестве залога для получения займа в иностранной валюте. Специальное соглашение действительно облегчало перевод денег, но только в очень ограниченном масштабе. К 1934 году ограничения на перевод денег за границу сделали практически невозможным отправку денег из Германии немецким гражданам в другие страны. Это коснулось, в частности, нескольких тысяч еврейских детей, чье поступление в школы за пределами Германии уже не могло быть поддержано их семьями. Вероятно, в результате переговоров Макдональда с немецким рейхсбанком в конце 1934 года был создан так называемый образовательный клиринг, позволявший евреям переводить деньги своим детям, посещавшим школы или учебные центры за рубежом.
Темпы «ариизации» («деевреизация» (нем. Entjudung) – политика насильственного изгнания евреев из общественной жизни, деловой и научной сфер и жилья в нацистской Германии. – Примеч. ред.) стали ускоряться, поскольку все больше и больше евреев были вынуждены продавать свои предприятия и активы, причем почти всегда по ценам гораздо ниже их реальной рыночной стоимости. Растущее обнищание евреев в Германии делало возможную эмиграцию все более проблематичной. Финансовые ограничения, наложенные на немецких евреев и особенно на потенциальных эмигрантов, в сочетании с ограничениями на рынке труда в принимающих странах – все это осложняло жизнь потенциальным еврейским эмигрантам.
Darmowy fragment się skończył.