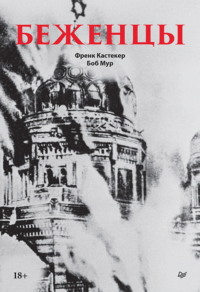Czytaj książkę: «Беженцы», strona 2
Необходимость международной и транснациональной перспективы
Историография, посвященная беженцам 1930-х годов и политике западных государств в отношении них, по-прежнему в значительной степени основана на национальной перспективе, причем каждая страна создает свои собственные нарративы и анализирует происходящее. Такие национальные исследования почти всегда предваряются кратким обзором обширной литературы о нацистской Германии, в которой подробно рассматриваются характер и масштабы преследований. Однако в исследованиях по нацистской Германии мало внимания уделяется тому, как преследуемые в конечном итоге покидали страну. Более того, влиянию политики эмиграции и высылки, проводимой различными ведомствами гитлеровской Германии, на их бегство уделялось лишь незначительное внимание. Лишь недавно было признано, что неудачи этой эмиграционной политики могут стать ключом к пониманию извилистой дороги в Освенцим.
Некоторые авторы публикаций использовали ключевую информацию о нацистских преследованиях как основу для периодизации, что дало возможность провести анализ того, как расселялись еврейские беженцы. Авторы выделяют национальную иммиграционную политику в качестве одного из факторов, объясняющих случившееся, но лишь приводят примеры из истории той или иной страны, не приступая к сравнительному анализу сходств и различий между национальными политиками. Историография политики в отношении беженцев из нацистской Германии редко дает обзор, выходящий за рамки национального кейса. Международное изменение политики в отношении беженцев также игнорируется. Если международный режим в отношении беженцев и обсуждался, то лишь для того, чтобы проиллюстрировать, как национальная политика в отношении беженцев отражалась в позициях национальных представителей на международных форумах. Исключением является Клаудена Скран, которая подошла к международному режиму беженцев в межвоенный период с ненациональной точки зрения, но ее очень оптимистичный анализ сосредоточился в основном на правовом изменении этого режима. В ее анализе международный режим в отношении беженцев межвоенного периода рассматривается как предшественник Женевской конвенции 1951 года, которая ввела идею особого режима для беженцев в рамках иммиграционной политики страны. Рассматривая правовые изменения, Скран концентрируется почти исключительно на международной арене и уделяет мало внимания внутренним факторам в различных странах, предоставивших убежище. Таким образом, ей нечего сказать о том, как этот международный режим повлиял на суровую реальность большинства беженцев в 1930-е годы. До сих пор практически не исследовалось, как международный режим беженцев влиял на национальную политику, как политика отдельных государств зависела от политики их соседей и подвергалась постоянному сравнению на протяжении всего периода, когда все правительства стремились сделать свою политику одинаково или, в идеале, чуть менее гостеприимной, чем другие. Такое сравнение неизбежно осложнялось тем, что ни в одной стране не существовало единой политики, а был целый комплекс мер, связанных с гражданством, проживанием, въездом и трудоустройством, которые в совокупности и составляли иммиграционную политику. Более того, как будет показано в данном анализе, ни одна из стран не выступила в 1930-е годы с политикой, основанной на одном и том же наборе принципов, предписаний или законодательной истории, не говоря уже об общей практике обращения с иностранцами.
Цель данного исследования – провести сравнительное изучение политики в отношении беженцев в 1930-е годы среди либеральных государств Европы: Бельгии, Дании, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Таким образом, фокусирование на европейских либеральных демократиях намеренно исключает информацию о приеме беженцев из нацистской Германии в фашистской Италии, Испании и Португалии. В качестве страны убежища с либеральным режимом до 1938 года можно было бы считать и Чехословакию, но сведения о ее политике в отношении беженцев в настоящее время настолько ограниченны, что существенные сравнения невозможны. Акцент на странах с либеральным режимом основан на современной теории социальных наук о том, что либеральные нормы влияют на политику в отношении иностранцев и что эти нормы являются ключом к пониманию ограничений в миграционном контроле. Однако очевидно, что эти самые современные нормы и либеральные ценности имеют гораздо более длительный срок существования, чем это можно предположить с точки зрения социологов. Либерализм XIX века вызвал нормативную революцию, которая оказала длительное влияние на способы функционирования государства и не в последнюю очередь на весь вопрос иммиграционной политики. Таким образом, период, когда эти либеральные ценности подверглись серьезной атаке – 1930-е годы, – является хорошим периодом для проверки прочности этих норм.
Все рассматриваемые здесь страны, за исключением Соединенного Королевства, имели общую сухопутную границу с Германией. Континентальные европейские страны столкнулись с общими проблемами в своей иммиграционной политике, поскольку их «зеленые» границы было сложнее контролировать, чем британские морские границы. Однако Великобритания также была включена в список, поскольку она являлась самой важной европейской державой в то время и поскольку ее решения имели далекоидущее влияние: создание в рамках Мюнхенских соглашений условий для появления такого явления, как беженцы, и контроль над доступом к обширной Британской заморской империи и, в частности, к Палестинскому мандату. Великобритания также стала важной страной убежища в последние годы мира, но она могла проводить иную, более избирательную политику в отношении иммигрантов и беженцев, чем ее континентальные соседи. Скандинавские государства Норвегия, Финляндия и Швеция, окруженные Атлантическим океаном и Балтийским морем, в 1930-е годы не были странами, которые в первую очередь рассматривались для предоставления убежища, поэтому они не были включены в данное сравнительное исследование, за исключением случаев, когда их политика влияла на развитие событий в Дании, единственной скандинавской стране, имеющей общую границу с Германией.
Период, охватываемый данным исследованием, был намеренно выбран таким образом, чтобы он заканчивался началом всеобщей европейской войны в сентябре 1939 года. Такая периодизация обусловлена стремлением исключить любое телеологическое обсуждение (когда отвечают на вопросы «зачем?», «с какой целью?». – Примеч. ред.) политики 1930-х годов в связи с последующим коллективным изгнанием и уничтожением евреев нацистами. Хотя в 1930-е годы обсуждался так называемый Мадагаскарский план, он не имел под собой никакой реальной основы до краха Франции в 1940 году, а люблинская схема «переселения» была сформулирована только после успеха польской кампании. Политику в отношении жертв довоенного нацистского режима необходимо анализировать в соответствующем историческом контексте. Разработчики политики в 1930-х годах еще не могли знать, какие ужасы обрушатся на евреев в оккупированной нацистами Европе после 1940 года.
В центре внимания этой книги – сравнительный обзор основных изменений в политике в отношении беженцев, реализованные либеральными западноевропейскими государствами в 1930-е годы. В части I основное внимание уделяется национальным тематическим исследованиям признанных экспертов в соответствующих областях. Книга начинается с главы Сюзанны Хайм, в которой дается обзор международного режима беженцев в 1930-е годы. Она анализирует половинчатые усилия либеральных демократий по выработке согласованного ответа на кризис беженцев. Ее статья выходит за рамки формального режима в отношении беженцев, описывая также то, что она называет «неформальный международный режим в отношении беженцев», который повлиял на исход евреев из нацистской Германии. Хайм объясняет, как евреи в Германии взаимодействовали с обширной неформальной сетью институтов, желающих ускорить, облегчить, замедлить или остановить их эмиграцию.
Три следующие статьи представляют собой национальные тематические исследования, каждое из которых имеет свой подход. Лоне Рюниц рассматривает отдельные случаи беженцев, просивших убежища в Дании. Эти беженцы либо бежали из нацистской Германии из-за преследований в связи с Rassenschande («осквернение расы» – термин, использовавшийся в нацистской расовой теории и закрепленный в дискриминационных Нюрнбергских законах о запрете браков и внебрачных отношений между евреями и неевреями. – Примеч. ред.), либо рассчитывали обосноваться в Дании, поскольку вступили в брак с датскими гражданами (или собирались это сделать). На основе анализа отдельных случаев она приходит к выводу, что датские власти не считали этих беженцев достойными, и показывает, как Копенгагену удалось отказать большинству из них в убежище. Рюниц также дает представление об административной иммиграционной практике. Рутинный контроль над иммиграцией трудно анализировать, поскольку развивающаяся административная юриспруденция в основном осуществляется несколькими высокопоставленными чиновниками и редко фиксируется на бумаге. Таким образом, разделительную линию между мигрантами и беженцами, а также между различными группами беженцев трудно провести как тогда, так и сейчас, и остается множество серых зон, которые могут быть выявлены только в результате кропотливого детального исследования.
Вики Карон дает широкий обзор приема еврейских беженцев во Франции в период с января 1933-го по сентябрь 1939 года. Используя большое число источников, включая газеты, государственные документы и архивы еврейских благотворительных организаций, она анализирует иммиграционную политику Франции и то, в какой степени беженцы из нацистской Германии получали более благоприятный прием по сравнению с другими иммигрантами. Она отмечает колебания во французской политике в отношении беженцев и фокусируется на том, как эта политика осуществлялась на местах. Она рассматривает многочисленные институты, вовлеченные во французскую политику в отношении беженцев, будь то законодательные, исполнительные или судебные органы, и обнаруживает сложную картину, показывающую, как трудно было французскому государству разработать политику, чтобы справиться с давлением на своих границах. Хотя порой французские власти были полны решимости не пускать иммигрантов, не имеющих приглашения, им пришлось смириться с постоянным проникновением беженцев и с либеральным или просто прагматичным противодействием политике, полностью исключающей въезд.
Третий национальный пример – швейцарский. Регула Луди дает очень широкую картину политики в отношении беженцев, анализируя ее без отрыва от многолетнего беспокойства швейцарской элиты по поводу меняющегося мира. Их одержимость национальной идентичностью, выражавшаяся в антисемитизме и антибольшевизме, служит фоном для понимания политики в отношении беженцев из нацистской Германии – политики, которая на протяжении 1930-х годов развивалась в сторону все более жесткого режима и в конечном итоге закрытия границы для еврейских беженцев в 1938 году.
Эти четыре главы под различными углами зрения демонстрируют, что парадигма миграционного контроля, ориентированная на государство и составляющая основной фокус данного сборника, должна быть контекстуализирована с учетом действий и отношения также и других действующих лиц: политических партий, гуманитарных организаций и гражданского общества в целом. Эта более широкая картина политической системы необходима для понимания изменений в иммиграционной политике и политике в отношении беженцев. Сами беженцы также должны рассматриваться как участники этого процесса, поскольку они реагировали как на нацистские преследования, так и на меры, принятые для предотвращения их въезда в страны убежища, используя любые доступные каналы, как законные, так и незаконные, чтобы обойти механизмы контроля.
Следующие четыре главы дают представление о политике в отношении беженцев и иммигрантов за пределами Европы. Здесь книга отходит от фокусировки на либеральных режимах, чтобы подчеркнуть, насколько ограниченными были возможности беженцев за пределами Европы. Патрик фон цур Мюлен вкратце описывает, как беженцы из Германии находили приют в Латинской Америке. Беженцам редко предлагали убежище, их принимали как обычных иммигрантов, которые должны были приносить пользу принимающей стране. Однако к концу 1930-х годов политики в Латинской Америке стали выделять беженцев как нежелательных иммигрантов, поскольку они были евреями, политически ненадежными или не соответствовали желаемому экономическому профилю. Однако неэффективность или коррумпированность латиноамериканской бюрократии означала, что большое количество беженцев все же могло эмигрировать в эти страны.
Авива Халамиш описывает британскую иммиграционную политику в отношении Палестины и (ограниченный) вклад сионистов в эту политику. Хотя сионисты выступали за «репатриацию» всех евреев в Палестину по идеологическим соображениям, на практике они проводили гораздо более прагматичную политику с учетом экономических и политических ограничений, продолжая настаивать на Палестине как долгосрочном решении для евреев Центральной Европы. Этот идеологически обоснованный ответ на кризис с беженцами, хотя и заведомо нереалистичный, был задуман как рычаг для создания еврейского государства в Палестине. К сентябрю 1939 года 60 000 беженцев из Великой Германии нашли убежище в Палестине. Это было больше, чем разрешали британские власти, но в основном являлось результатом нелегальной иммиграции, организованной сионистами (иногда в сотрудничестве с нацистами). Готовность немецких евреев бежать на самодельных лодках и нелегально въезжать в Палестину свидетельствует об отчаянии беженцев в конце 1930-х годов. Это в еще большей степени относится к тем, кто уезжал в Шанхай, – эпизод, особенно показательный с точки зрения отсутствия (легальных) альтернатив для евреев, желающих покинуть Германию. Стив Хохштадт описывает иммиграционную политику Шанхая и указывает на причины, по которым это международное поселение до начала Второй мировой войны оставалось единственным местом в мире, куда немецких евреев пускали без визы.
Бат-Ами Цукер анализирует иммиграционную и политику Соединенных Штатов в отношении беженцев. Здесь также беглецы из нацистской Германии не считались привилегированной категорией в иммиграционной политике. Очень жесткие критерии приема означали, что беженцев принимали относительно мало. Только в 1938 году президент Рузвельт взял на себя инициативу использовать свои административные полномочия, чтобы немного приоткрыть дверь. Это оказалось незначительной уступкой лобби, выступающему за беженцев.
В заключительной главе первого раздела книги Клаудия Курио наиболее ярко иллюстрирует отчаяние евреев, рассматривая случаи с детьми, которых родители отправили за границу, чтобы их спасли незнакомцы. Она рассматривает прием несопровождаемых детей-беженцев в четырех странах, чтобы сделать сравнительные выводы. Ее исследование подчеркивает возможности, открывающиеся перед политиками, и демонстрирует особенности каждой отдельной страны, делая акцент на контрастах между ними.
Часть II книги написана Френком Кастекером и Бобом Муром и представляет собой попытку сравнительного подхода к политике в отношении беженцев в 1930-е годы в целом. Чтобы сделать это эффективно, первая глава посвящена подробной предыстории политики в отношении иностранцев и беженцев, разработанной с середины XIX века и далее. Они сформировали основные прецеденты и обычаи, на которых основывалась политика 1933 года. Следующие главы разделены в хронологическом порядке. В каждой главе показаны как схожие черты, так и контрасты в реакции различных государств на нацистскую политику преследования и на факт давления количества беженцев на их границы. Все европейские страны столкнулись со схожим вызовом со стороны нацистской Германии, но способы решения этих проблем часто различались. Сравнение каждого из национальных примеров проливает свет и обогащает их. Еще анализ показывает взаимодействие между различными национальными иммиграционными политиками, а также между эмиграционной политикой Германии и иммиграционной политикой стран убежища.
Часть I
Национальный и международный анализ политики в отношении беженцев из нацистской Германии
Глава I.1
Международная политика в отношении беженцев и еврейская иммиграция под сенью национал-социализма
Я благодарна Френку Кастекеру, Альриху Мейеру и Бобу Муру за советы и комментарии к рукописи этой статьи.
Сюзанна Хайм
Большинство из примерно 500 000 евреев, проживавших в Германии на момент захвата власти нацистами в 1933 году, поначалу не рассматривали возможность эмиграции, поскольку не ожидали, что режим продержится долго. Однако уже через несколько лет это отношение изменилось. Хотя в численном выражении эмиграция из нацистской Германии не была столь масштабной по сравнению с другими потоками беженцев, она вызвала серьезные изменения в правовых системах и государственной политике основных стран убежища. Это не только повлияло на их политику управления миграцией, но и отразилось на доступе жителей к рынку труда, а также на правилах социального обеспечения.
Исключив евреев из так называемой Volksgemeinschaft («Народной общности», то есть сплоченной общими целями нации. – Примеч. ред.) и определив их как неполноценных и имеющих меньше прав, гитлеровский режим инициировал радикальное изменение международного порядка и поставил под угрозу хрупкое равновесие политической системы в межвоенной Европе. Немцы вернули себе право не просто исключать «иностранцев», желающих въехать на территорию Германии, но пошли гораздо дальше и заявили, что часть их «собственного» национального населения «не немецкой крови» и, следовательно, не является частью этнической общности, что считалось необходимым условием для полноценного гражданства. Эта политика запустила серьезный кризис, вынудив другие государства разгребать последствия пересмотра немецкой концепции гражданства и решать проблемы тех, кто был вытеснен из Германии. Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлекла за собой разрушение такого инструмента предотвращения международных конфликтов, как система защиты меньшинств, и привела к распространению авторитарных методов в демократических странах.
До тех пор пока соседние с Германией страны признавали национальные интересы и определение гражданства как основы суверенитета национальных государств и не хотели вступать в открытую конфронтацию с нацистским государством, они могли только пытаться справиться с последствиями этого германского переосмысления.
Исходя из национального понимания гражданства и предположения, что проблема беженцев носит временный характер, они рассматривали беженцев без гражданства, то есть лиц без гражданства и евреев, вынужденных покинуть Германию, как главную проблему, поскольку этих людей нельзя было никуда репатриировать. Страны, наиболее пострадавшие от наплыва беженцев, отреагировали на кризис усилением пограничного контроля, изобретением различных ограничений для беженцев, живущих в стране, и, наконец, созданием лагерей для содержания «нежелательных» приезжих.
Основной тенденцией миграционной политики была и остается защита национальной территории от нежелательной иммиграции, независимо от того, что это означало бы для беженцев или для международного климата. В сомнительных случаях национальные интересы и общая установка на уступчивость и потакание Германии (даже до Мюнхенского соглашения 1938 года) превалировали над гуманитарными соображениями и хорошими отношениями с менее могущественными соседями. Такого рода национальный «эгоизм» также был отчасти реакцией на неспособность международных институтов справиться с кризисом. Старые инструменты управления международной миграцией, которые были достаточно эффективны в борьбе с потоками беженцев в предыдущие годы, больше не работали. Причиной тому был не только мировой экономический кризис, который изменил всю систему и значительно усложнил процесс превращения беженцев в рабочую силу. Система защиты меньшинств хотя бы наполовину соблюдалась лишь до тех пор, пока великие державы навязывали ее новым государствам, возникшим на руинах великих империй, в качестве предварительного условия их независимости. Однако германские евреи не рассматривались как национальное меньшинство (у евреев не было своих национальных автономий, они просто имели гражданство или подданство различных стран мира. – Примеч. ред.), и великие державы даже не пытались оказать на Германию такое же давление, какое они оказывали на более мелкие государства Центральной Европы. Именно этот факт впоследствии подтолкнул такие государства, как Польша и Румыния, последовать примеру Германии и попытаться вытеснить свое еврейское население, превратив таким образом проблему немецких беженцев в общеевропейскую. Другой традиционный инструмент международной политики в отношении беженцев, Нансеновская международная организация по делам беженцев, никогда не участвовала в оказании помощи немецким беженцам по причинам, которые станут очевидными из позднейшего изложения.
Сегодня новые формы миграционного и пограничного контроля инициируются согласованными действиями министров внутренних дел (или государственных секретарей) либо международными встречами специальных полицейских сил. Однако в 1930-е годы создание инструментов миграционного контроля едва ли было скоординированным процессом принятия решений. Правительства, как правило, разрабатывали (миграционную) политику независимо друг от друга, а зачастую и вопреки друг другу. Однако иногда миграционная политика корректировалась на региональном уровне, и обычно национальные интересы не определялись враждебно по отношению к другим государствам. Было предпринято несколько попыток решить кризис беженцев с помощью международных соглашений. Основными шагами на пути к скоординированному на международном уровне решению кризиса беженцев, о которых пойдет речь в этой главе, были:
• учреждение поста Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев (еврейских и других), прибывших из Германии в октябре 1933 года;
• Временное соглашение о статусе беженцев, прибывающих из Германии, подписанное в 1936 году;
• официальная конвенция, определяющая некоторые основные права беженцев, – была утверждена два года спустя, в феврале 1938 года;
• Эвианская конференция в июле 1938 года – последняя попытка найти международное решение кризиса беженцев до начала войны.
В то время как некоторые историки рассматривают эти соглашения как свидетельство существенного прогресса в достижении международного консенсуса, большинство авторов отвергают Лигу Наций как слабый институт, неспособный предложить беженцам какую-либо существенную защиту. Рассмотрение исключительно этих попыток найти новый консенсус по миграционным правилам, однако, ограничило бы анализ классическим набором аспектов международной политики, таких как международные институты, соглашения и дипломатические усилия, другими словами, официальным режимом беженцев. Различные косвенные средства, используемые для ограничения и контроля миграции, а также сами беженцы, их институты и их реакция на миграционные ограничения были бы проигнорированы. Тем не менее, международный режим для беженцев сформировался скорее в результате сочетания многих формально не связанных между собой действий по защите предполагаемых национальных интересов (Германии или других стран), чем действий международных институтов.
Помимо официальных структур, существовало то, что я бы назвала неформальным международным регулированием в отношении беженцев. На различных уровнях и в различных учреждениях – от еврейских общин до гестапо – политика в отношении беженцев формировалась субъектами, которые формально не были ни взаимосвязаны, ни скоординированы. Тем не менее их действия часто были взаимозависимы и оказывали влияние на то, что происходило на международном уровне. Приведу лишь несколько примеров: барьеры, установленные в странах убежища для защиты национального рынка труда или интересов определенных профессиональных групп, изменили миграционные потоки и часто вынуждали беженцев, недавно прибывших в одну страну, к дальнейшей эмиграции. Путем создания лагерей содержания под стражей и милитаризации контроля над морскими путями администрация Британской подмандатной территории приняла ответные меры против попыток сионистов нелегально вывезти евреев из Германии в Палестину. Гестапо с помощью создания специального управления валютного контроля (Центральное имперское управление по расследованию валютных операций (Devisenfahndungsamt) было создано Германом Герингом в 1936 году. Оно подчинялось гестапо – Тайной государственной полиции и имело главной целью предотвращение вывоза эмигрантами и евреями из Германии валюты. Должность главного валютного инспектора занял лично Рейнхард Гейдрих, который в мае 1941 года, в силу того что эмиграция из Германии прекратилась, распустил управление. – Примеч. ред.) и других инструментов пыталось контролировать передвижения, контакты и действия беженцев и вынуждало евреев, которые хотели покинуть страну и вывезти свои активы, обходить ограничительные законы и положения.
В этой главе кризис беженцев 1930-х годов будет проанализирован как история развития национальных и межнациональных инструментов контроля над миграцией. Этот процесс необходимо рассматривать как с формальной, или институциональной, так и с неформальной точки зрения. Такое разграничение двух уровней делает ранее невидимых участников, таких как отдельные беженцы и организации по оказанию помощи, узнаваемыми в качестве субъектов международной политики; оно также основано на комплексном понимании миграционной политики, выходящей далеко за рамки прямых средств контроля миграции.