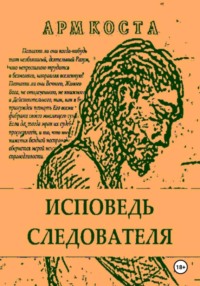Czytaj książkę: «Исповедь следователя»
Знаете ли вы, что значит быть следователем? Это – не иметь ни спокойного сна, ни праздника в кругу семьи; это – называть свое существование жизнью на жалкие триста тысяч песо в год, отдавая дань налогам, и при этом, почти с улыбкой мученика, уверять окружающих, будто твоя стезя – благородна и романтична. Но истина, как всегда, – мрачнее.
Быть следователем – значит шаг за шагом погружаться в отвратительный ад человеческих преступлений. Это работа, которая извращает душу, лишает ее последних искр самоуважения. Она толкает вас в безумное подозрение: в каждом лице прохожего вы начинаете угадывать серийного убийцу, в каждом взгляде ребенка – запуганную жертву насильника, в каждом жесте – жест наркоторговца, чья рука готова протянуть вам дозу. Вместо того чтобы свободно гулять среди людей, как среди братьев, вы скользите мимо них, как по узкому мосту, переброшенному через бездну, полной демонов, тянущих к вашим ногам корявые пальцы. Такова – работа следователя. Не служение закону, а проклятие, которое давит, душит и медленно, неотвратимо уничтожает в человеке все человеческое, превращая кровь в желчь.
Зачем, Рамон, тебе, в двадцать три года, понадобилось после университетского образования искать себе приют в правоохранительных органах – в мрачном месте, где Бог давно замолчал, где Его свет иссяк, оставив после себя лишь холодную тень закона? Почему ты избрал путь сорной травы, выросшей на пепелище совести, а не путь ахуэхуэте, питаемого дыханием реки? Я часто думал об этом. Думал с упорством, с каким больной прижимает ладонь к незаживающей ране, надеясь – не исцелить, но хотя бы ощутить ее живую боль. И все же теперь мне кажется, что я способен разгадать эту загадку – не умом, а собственной судьбой. Но… на каком опыте, Боже мой! Кто поверит в него? Кто осмелится признать, что столь безумное, столь страшное – могло выпасть на долю одного смертного? Никто. Никто не поверит – и, быть может, именно потому это правда.
Впрочем, я знаю – многие живут под тем же неумолимым гнетом, в тех же темных условиях, что и я. Они, быть может, и сознают временами, что опутаны сетью порока, – но слишком слабы духом, чтобы порвать те нити, в которые сами себя вплели.
И все же я сомневаюсь: извлекут ли они урок, данный мне столь страшным образом? Примут ли участие в той же суровой школе, где учителем является сам Судия, чье молчание – громче грома?
Познают ли они когда-нибудь тот необъятный, деятельный Разум, что непрестанно трудится в безмолвии, направляя вселенную? Познают ли они Вечного, Живого Бога – не отвлеченного, не книжного, а Действительного – так, как я был принужден познать Его всеми фибрами своего мыслящего существа? Если да – тогда мрак их судеб просветлеет, и то, что ныне кажется бездной несправедливости, обернется мерой неизреченной справедливости.
Но я не питаю надежды – ни убедить, ни просветить своих собратьев по плоти. Я слишком хорошо знаю их упорство, ибо сам им заражен. Было время, когда моя горделивая вера в собственную силу казалась неколебимой – ни одним человеческим существом, ни даже высшей, паранормальной волей нельзя было поколебать ее. И теперь, взирая на других, я узнаю в них прежнего себя – ослепленного, самоуверенного, непокорного. И потому я пишу не как учитель, не как пророк, а как свидетель.
Я лишь намерен поведать некоторый случай из своей жизни – по порядку, как он произошел, – предоставляя более дерзким и просвещенным умам разгадывать загадку человеческого бытия… и бытия Сатаны.
Это случилось двадцать восьмого октября – в день, когда поминают всех, погибших насильственной смертью. С раннего утра и до позднего вечера я трудился, упрямо вгрызаясь в бумажную рутину, в ней можно было укрыться от самого себя. Я не хотел возвращаться в дом – холодный, безжизненный коробок, что достался мне от отца, умершего от рака легких. Дом этот стоял, как надгробие над памятью о счастливой полной семье. Жены у меня нет. Девушки – тоже. Да и откуда им взяться? Кто захочет связать свою жизнь со следователем, чьи нервы пропитаны алкоголем, а душа – усталостью? Женщины отворачиваются от меня; я читаю презрение в их глазах, как приговор. Все мои попытки завести семью оборачивались жалкой насмешкой. Порою мне кажется, что даже Бог – или, быть может, тот, кто стоит на противоположной стороне, – проявляет больше милосердия к заключенному убийце, чем ко мне.
Войдя в мой кабинет, шеф швырнул на стол стопку бумаг, упал в кресло и выругался. Это облегчало его; и хотя дело, с которым он пришел, потом оказалось по-настоящему ужасным и отвратительным, оно не стоило слез. Но сильное, грозное ругательство было для начальника тем же, чем для расстроенной женщины бывают слезы – своеобразным лекарством, позволяющим выжить в минуту бессилия. Я подозревал, какое это было дело, и не ждал никаких приятных известий. И все же решился спросить, рискуя собственным спокойствием: не то ли это дело, о котором я догадываюсь? Внутри меня бушевало предчувствие беды, и без сомнения, ответ шефа оказался страшен. Я колебался; каждое слово, которое я произносил, давалось с трудом, прежде чем согласиться выехать на место преступления.
– Ты веришь в чертовщину, Рамон? – почти кричал он.
– Конечно же, нет, – ответил я не раздумывая.
Ветер со свистом ворвался в кабинет, пронзая воздух ледяными струями – холодный, как дыхание смерти, и острый, как игла, вонзающаяся под ногти. Он завыл в пустых углах, заглянул в каждую щель, словно сам мрак решился вторгнуться в этот мир. Начальник полиции дрожал, не только от холода, но и от чего-то более глубокого, невидимого. Он нагнулся к папке, пальцы его слегка дрожали, и приготовился открыть ее, словно к открытию приговора, в котором сплелись ужасы, от которых трепещет душа. Едва начальник открыл папку, как из нее вывалился снимок. Сердце мое дрогнуло, и холодный ужас сжал грудь – фото, сделанное камерой, запечатлело кошмар, который нельзя было забыть.
– Господь Всемогущий! – вырвалось у меня, почти шепотом.
Я с дрожью взял папку и, глубоко потрясенный, начал читать описание места преступления. Оно было коротким, составленным, очевидно, в спешке, дрожащей рукой полицейского. Но каждая строчка, каждый невнятный штрих казался мне пророчеством, окутанным мраком, и я ощущал, как сама тьма опускается на комнату вместе с этим зловещим документом.
Погруженный в мрачные мысли о природе зла и своей судьбе, я не сразу заметил, как оказался возле своей машины. Холодный ветер, пробирающий до костей, словно пытался вырвать меня из омута размышлений. Но даже он не мог заглушить тот странный смех, что доносился из пустоты.
Приведя, не без усилия, в некоторый порядок свои мысли, я сел в машину и перечитал каждое слово рапорта, взятого у начальника. Мое изумление росло с каждой строчкой. Сходил ли я с ума? Или меня начинала терзать горячка? Могло ли это быть правдой – такое невероятное, такое чудовищное известие?
Если это и вправду было правдой… Боже мой! При одной мысли об этом у меня закружилась голова, и только сила воли удержала меня от обморока. В отчете говорилось, что тринадцатого числа этого месяца из детского приюта при монастыре святой Долорес пропал шестилетний мальчик по имени Диего – аутист, круглый сирота. Его исчезновение сперва сочли побегом, но дальнейший осмотр превратил обычное дело в нечто, от чего стынет кровь. В зале детского дома, под самым куполом, где висел деревянный крест, теперь торчали его обломки, перевернутые и вбитые в пол. Стены были исписаны странными знаками – не словами – кощунственными символами, выведенными кровью. Среди них особенно выделялось одно слово – на искаженном мексиканском наречии, древнем и грубом, – имя, которое не произносят вслух. Имя, от которого, казалось, екает душа. Но страшнее всего было то, что в центре зала на полу мелом была нарисована дьявольская звезда. В каждой ее точке стояли детские игрушки, как будто невидимая рука разыгрывала с ними черную литургию. Я перечитывал строки вновь и вновь, не веря им, – и все же понимал: если хоть половина этого правдива, то не полиция должна туда ехать, а экзорцист. И я ехал по дороге и громко смеялся; смеялся так же, как раньше бранился – просто чтобы облегчить свои чувства. Кто-то засмеялся в ответ смехом, казавшимся смехом маленького мальчика. Я внезапно остановился, пораженный смутным страхом, и прислушался.
Дождь хлестал по лобовому стеклу, ветер бушевал, как сварливая жена. Машина дрожала, будто от холодной лихорадки. И все же… среди этого нестройного шума, сквозь свист и шорох, я мог бы поклясться, что различил детский смех, кто-то, притаившись на заднем сиденье, хихикал. Я резко оглянулся – никого. Только тусклое отражение моих собственных глаз в стекле.
– Это, должно быть, мое воображение, – пробормотал я и с горечью усмехнулся. – Да… пора, пожалуй, завязывать с выпивкой. Но в ту же секунду мне показалось, что в зеркале заднего вида кто-то слегка шевельнулся – или это лишь игра света от фар, отраженных в мокром асфальте.
Мои мысли непрестанно крутились вокруг жуткого содержимого папки, но машина уже неслась по тёмным улицам. Через полчаса пути стрелка спидометра замерла возле ворот приюта – места, где началась эта история…
Кипарисовая дверь медленно отворилась, скрипнув, жалуясь на свое долголетие. Из окутывавшей меня темноты я мог заметить тонкую высокую фигуру, стоящую на пороге. Я хорошо помню то странное впечатление, которое на меня произвело само очертание этого, едва различимого, образа юной послушницы. С первого же взгляда такая неземная величественность в росте и манерах приковала тотчас все мое внимание.
– Сестра Люсия?
– Да.
– Я ожидал увидеть совершенную старуху.
– Что вам нужно?
– Позвольте войти. Меня зовут Рамон Хименес. Я из полиции.
Высокая невеста Христова сделала шаг или два назад, и звучный голос с оттенком печали произнес:
– Входите. Только не шумите.
Я попросил ее проводить меня туда, где, по всей вероятности, произошел акт святотатства, после которого исчез ребенок. Монахиня шла быстро, почти бесшумно, и складки ее темной ризы колыхались, словно тени, оторвавшиеся от стен. Я знал, что должен был заговорить, произнести хоть слово – из вежливости, из человеческой необходимости, – но не мог. Какое-то особенное, странное, почти бесовское раздражение сдавливало мне горло. Оно не имело причины и потому было тем страшнее. Тишина этого места давила на разум, пробуждая темные чувства, которых я не знал в себе. Я шел следом, избегая смотреть ей в спину, будто боялся, что увижу не монашеский силуэт, а нечто иное. Мне не хотелось оскорблять служительницу Божью своим присутствием, но еще больше – оскорблять собственный рассудок мыслью, что я боюсь. Боюсь Дьявола в обители Бога.
– Это ведь вы заявили в полицию об исчезновении? – с усилием спросил я, словно стряхивая с себя наваждение, делавшее меня до этого немым.
– Да, – ответила она, тихо, но в этом «да» звучала усталость и что-то вроде смирившегося страха.
– Из вашего монастыря раньше… сбегали дети? – я старался говорить ровно, но голос все равно дрогнул.
Казалось, вопрос этот застыл между нами, как холодный клинок.
– Сбегали? – томный голос обитательницы монастыря завибрировал серебристыми звуками. – Дети не сбегают отсюда, сеньор полицейский, – произнесла она. – Скорее… они сбегают сюда. В этих стенах они получают защиту от насилия, наркотиков, жестоких законов улицы, кров над головой, питание, образование… – голос сестры смягчился, придавая особенную прелесть ее словам.
– То есть, вы считаете, что у мальчишки не было причин для побега?
– Более чем уверена.
– Вы наказываете сирот?
– Простите?
– Я спрашиваю, вы наказываете детей за непослушание?
– Телесные наказания – не по-христиански.
– Но действенно, – заметил я.
Она не ответила. В этот момент комната раскрылась передо мной. Дочь монастыря внесла лампу, – свет дрогнул передо мной. Сестра Люсия поставила ее на деревянный стол, и колеблющееся пламя осветило стены. Я думаю, я даже тогда чуть не воскликнул – от удивления или ужаса, – но не помню. Быть может, она тоже тогда сказала что-нибудь, – но я не слыхал и не обращал внимания на ее бормотания, так как я был поражен и неприятно очарован тем, что видел перед собой. И когда я смотрел прямо на эти кровяные каракули, нет – письмена, я думал, что мне никогда не приходилось видеть столько абсурда! С быстротой молнии у меня мелькнула мысль, чем могло быть это мистическое необъяснимое нечто. Проделками человека. Розыгрышем. Инсценировкой. Не более.
– У кого есть доступ к этой комнате? – спросил я, медленно обходя зал и окидывая взглядом стены. Но вдруг остановился – в замешательстве, почти неловко, – от неожиданного, острого взгляда блестящих глаз, устремленных прямо на меня.
– Только у служителей монастыря и детей, – ответила сестра милосердия, опуская глаза. – Никто из посторонних не имеет права входить сюда.
– И все-таки кто-то сюда наведывается, – произнес я, глядя на пятна у подножия перевернутого креста. – Кровь свежая, несмотря на то, что прошло две недели. Кто-то сюда захаживает и… подкрашивает знаки, – я усмехнулся, сам чувствуя нелепость собственных слов.
– Но кому это может быть нужно? – в ее голосе прощупывалось недоумение.
– Поверьте, сестра, моей широкой опытности, – сказал я, глядя на нее испытующе, – я много чего видел. Люди способны на странные вещи, когда им нужно скрыть правду. Кто-то похитил ребенка, а все эти багровые реки, – я обвел рукой зал с меловыми символами и кровью, – выгодный способ прикрыть похищение, в котором я теперь подозреваю каждого в этих стенах. – Служительницу монастыря это почему-то оскорбило. – Надеюсь, мои коллеги взяли пробы крови со стен. И надеюсь, что эта кровь не принадлежит Диего.
Я украдкой взглянул на мою немногословную собеседницу; она поймала мой нечаянный взгляд и возвратила его с особенной серьезностью. Опасаясь, чтобы внезапное, смутное недоверие к ней не отразилось в моих глазах, я поспешно сказал:
– Вы упомянули, что сюда никто не заходит. А кто первым обнаружил исчезновение мальчика?
– Я, – ответила она коротко.
– И вы же нашли это? – я указал на стены, где темные следы крови тускло блестели в свете лампы.
– Да, я. Но когда я вошла сюда, все уже было так, как вы видите сейчас, – ее брови сдвинулись, и линия горечи около рта стала глубже и резче.
– Расскажите мне о Диего, окажите такую услугу.
– Святые ангелы направили его к нам, оставив за его спиной дни невзгод и печали. Мать мальчика, так сказать, находилась в неопределенном и легкомысленном, развратном состоянии, не удовлетворяя даже физические потребности своего сына. В один прекрасный день социальные службы изъяли ребенка, когда женщина, давшая жизнь столь прекрасному созданию, находилась в каком-то причудливом сне, навеянным наркотиками. Не смотря на трагическую историю Диего, он был абсолютно здоровым мальчиком, замкнутым, странным, слегка боязливым. Когда у него случались истерики, появлялась унылость духа, когда он говорил о мрачных и страшных вещах, я его успокаивала, ведь главной заботой моей жизни был вопрос помощи, любви, веры.
– О каких вещах он говорил? – спросил я наконец, стараясь, чтобы голос не дрогнул.
– Что Бог покинул это место, и Дьявол вступает в свои права.
Сказать правду, я был совершенно утомлен – и столько же нравственно, сколько физически. Моя голова была тяжела от похмелья. В самом деле, мне скорее всего хотелось бы выпить мескаля и броситься на мягкую простынь. Внезапно молния вдруг ярко сверкнула, сопровождаемая страшным раскатом грома. Я ходил взад и вперед по комнате, скорее машинально, чем сознательно, пробуя думать, пробуя разобраться в происшествиях дня, но в моем мозгу царил хаос, и единственным рельефным образом являлась замечательная личность сестры Люсии. Ее необыкновенная внешность, обаятельное обращение, ее боязливый интерес, соединенный с глубоким чувством, которому я не мог найти имени; все ничтожные, но, тем не менее, редкие особенности поведения и характера послушницы преследовали меня и как бы сделались неразрывно смешанными со мной и относящимися ко мне обстоятельствами. Когда я прислушивался к дождю и грому, который теперь рычал в сердитых отголосках, я спросил:
– Почему в полицию позвонили вы, а не директор приюта?
– Отец Рафаэль уже месяц как в отъезде.
– По какому поводу?
– Дела, связанные с нашим орденом… просветительская деятельность, встреча с филантропами.
Она не успела договорить, как я ощутил удар по плечу. Что-то тяжелое и мокрое свалилось на меня сверху.
Божья дева вскрикнула. Я машинально стряхнул это, и, наклонившись, увидел у ног – мертвого белого голубя, с изломанным крылом и кровавыми перьями, липнущими к полу. Я поднял голову – потолок был гладким, пустым, никаких следов. Ни окон, ни балки, откуда могла сорваться птица.
– Святой Боже… – прошептала сестра Люсия. – Уходите, сеньор полицейский, ради всего святого, уходите скорее, – произнесла она нетерпеливо.
Нечего удивляться, если некоторые люди, в своем еще глупом старом суеверии, сохранили слабую веру в существование дьявола. Возможно, дьявол – это просто рогатый, фавн, а человек или группка людей, которым позволили слишком много. Но я – здравомыслящий мужчина, и мертвым голубем меня не запугать.
Выйдя из монастыря, я сел в машину. Город встретил меня непривычной тишиной. Казалось, даже воздух застыл в ожидании чего-то. Когда я подъезжал к своему дому, эта тишина стала почти осязаемой, давящей, словно невидимое одеяло, накрывшее улицы.
Я уже собирался достать ключ, как взгляд мой упал на темное пятно у ступеней.
Там лежал мертвый пес. Кровь отхлынула от моего лица, а потом, наоборот, хлынула обратно, обжигая щеки. На миг мне показалось, что тень от фонаря дрогнула – кто-то прошел за моей спиной. Я вынул пистолет, перезарядил его и сказал – скорее, чтобы услышать звук собственного голоса, чем кого-то убедить:
– Если это розыгрыш, то очень дурного вкуса.
Я снова посмотрел на животное. Кто-то жестоко обошелся с ним: выстрелили в голову и выколол глаза. Не знаю почему, внезапно я заржал – дико, шумно, неистово, что, по-видимому, было защитной реакцией моего организма. Тут же я принялся нервно оглядываться по сторонам. И опять захохотал. Положение казалось мне крайне страшным, но мое сердце не находило этого, выражая столько неподдельной тревоги, что я сделал усилие, чтобы овладеть собой, и мне это, наконец, удалось.
Я толкнул дверь ногой. Она не была заперта, хотя я точно помнил, что закрыл ее на два оборота ключа.
– Полиция! – выкрикнул я. – Я знаю, ты здесь, ублюдок! Выходи с поднятыми руками, или я открою огонь!
Ошеломленный и смущенный, я вошел в прихожую и включил свет. Никого. Заглянул на кухню. Вернулся в прихожую, постоял минуту, прислушиваясь: в доме было слышно только мое собственное дыхание и тихое урчание в животе. Затем направился в гостиную, переступил ее порог – и не удержался от нервного содрогания.
В кресле, где прежде проводил вечера мой покойный отец и в котором иногда засыпал и я, кто-то сидел. Холодная дрожь пробежала по спине; лунный свет, проливаясь из окна, обнажил лишь неподвижный силуэт – в нем я узнал что-то порочное, кровожадное. Тень свисающей руки вытянулась по подлокотнику и смотрелась сейчас как коготь, готовый схватить пусть не совсем невинную, мою плоть. Я приписал свое волнение впечатлениям, привезенным из монастыря, пытался успокоить себя – но страх, тяжелым плащом опустился на плечи и сковал движения. Решив побороть бессмысленную дрожь, я стал медленно приближаться к креслу, держа пистолет навскидку. Доски под ногами предательски застонали.
Я шагнул ближе. Потом еще.
Блестящие, бисерные глаза обычной куколки, сидящей в кресле, злобно сверкали, – и мне показалось, что они следят за каждым моим движением. Какая-то враждебность исходила от этой детской игрушки. Я невольно отступил на шаг, пораженный собственным страхом – абсурдным, нелепым страхом перед тряпичным созданием, которое, казалось, только ждало, чтобы я отвернулся.
В этот миг сверху, с чердака или, быть может, со второго этажа, послышался глухой, осторожный звук – казалось, кто-то передвигал стул, будто, тяжёлое тело, медленно, не желая быть услышанным, переступало по половицам. Звук стих, потом повторился, какие-то шорохи ближе к лестнице. Я молчал и следил то за лестницей, то за куклой. Она, обнажив тонкие, почти явственные зубки фарфорового рта, улыбалась. На её коленях я заметил бумажный клочок, сложенный пополам. Взяв его, я прочитал:
«Любопытство – грех, сеньор следователь»
Эти слова эхом отозвались в моей голове. Ночь выдалась изматывающей – каждая клеточка тела молила об отдыхе. Но сон не шёл. В памяти снова и снова всплывали детали происходящего: зловещая улыбка куклы, таинственные шорохи наверху, загадочная записка.
К утру я всё же сумел привести себя в порядок, хотя тёмные круги под глазами и пульсирующая головная боль напоминали о бессонной ночи. Быстро собравшись, я направился в участок.
– Ты выглядишь на двадцать процентов хуже, чем вчера вечером, Рамон, – с привычной иронией произнёс Карлос Моралес, едва я опустился на стул напротив него. – Полагаю, дела с расследованием идут не столь удачно, как хотелось бы?
Я налил себе кофе, чувствуя, как дрожит рука, и, не поднимая глаз, рассказал ему о ночных событиях: о кукле, сидящей в кресле моего отца, о записке, найденной на ее коленях, о странном ощущении, будто кто-то стоял у меня за спиной, пока я ее читал.
Товарищ слушал внимательно, по временам сдвигая брови к переносице.
– Я бы порекомендовал тебе отстраниться от этого дела, – произнес он тихо, не отводя глаз.
– Я не могу и не хочу пренебрегать своей работой.
– Может, ты и заслужишь себе место в небе за свои благие поступки, но расплачиваться за это придется здесь, на земле. Час расчета уже близок, ты же сам видишь, – он испытующе посмотрел на меня.
– Думаешь, кто-то хочет меня убрать?
– Думаю, кто-то стоит с двадцатью скальпелями у пояса и дышит тебе в затылок.
– А если меня просто хотят запугать?
– Ты можешь быть не из пугливых, – следователь покачал головой, – но потом не спрашивай меня, почему очнулся в психиатрической больнице.
Я рассмеялся над его горячностью.
– Мне кажется, ты прав, – сказал я. – Но то, что пропадает шестилетний ребенок и то, что с ним могут или уже сделали, слишком беспокойно для меня, слишком связывает меня, – мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывал, и это произвело ошеломляющее впечатление на нескольких молодых полицейских за соседними столиками – они уставились на меня в молчаливом изумлении.
– Если бы я был какой-нибудь хорошенькой женщиной, я бы тебя полюбил, друг мой. Женщины любят крутых парней, – хмыкнул Моралес.
– Ты обещал мне узнать насчет анализов. Что там по крови на стенах и отпечатках?
– Я узнал. Только не уверен, что тебе это понравится, – он устремил прямо на меня свои темные загадочные глаза.
– Говори.
– Хорошо. Во-первых, кровь человеческая. Мы нашли две разные группы: взрослая и детская.
– Диего?
Карлос пожал плечами.
– Вероятность совпадения – девяносто процентов. Но образцы старые, анализ точным не назовешь. Есть и другое – кое-что, чего я не понимаю. – Он понизил голос, наклонился ко мне через стол. – Следов слишком много. Крови было явно больше, чем могла потерять жертва без летального исхода. Будто кто-то специально окропил все помещение.
– Инсценировка? – спросил я.
– Возможно. Но отпечатки… – он снова замолчал.
Darmowy fragment się skończył.