Однажды в октябре
Tekst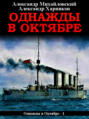


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 370 str.
- Kategoria: fantastyka historyczna, portal czasowy
- Kolekcja obejmuje: Октябрь: Однажды в октябре. Время собирать камни. Вся власть Советам! (сборник)
Первыми по фалу вниз через открытый люк вертолета соскользнули две «мышки» с ПНВ. Приземлившись, они резво разбежались в разные стороны, и, убедившись, что все в порядке, подали нам сигнал инфракрасным фонариком.
Вертолет стал снижаться. Вот его шасси коснулись земли. Мы быстро выпрыгнули из винтокрылой машины и отбежали в сторону. Взревев двигателями, Ка-27ПС взмыл в воздух и отправился в обратный путь. А мы, подхватив свои вещи, резво пошагали по пахнущему конским навозом плацу в сторону деревянного мостика через одну из проток декоративного пруда.
Местное время 04:55, Петроград. Таврическая улица. Александр Васильевич Тамбовцев
Перебежав через мостик, мы подошли к воротам сада, выходящим на Таврическую улицу. Постояли, прислушались. Было тихо. Никаких сигналов по рации не поступало – значит, «мышки», обеспечивающие нашу безопасность, ничего подозрительного не обнаружили. Бесоев подошел к воротам, отодвинул засов и приоткрыл одну из створок. Мы протиснулись в образовавшуюся щель. На улице, вместо привычного асфальта, под ногами оказалась булыжная мостовая. Мы дождались, когда прикрывавшие нас бойцы Бесоева перемахнут через ограду сада, и отправились в сторону Тверской улицы. В руках у меня был деревянный чемодан-сундучок, где лежал ноутбук и прочие нужные для работы вещи. На углу Таврической и Тверской мы полюбовались домом со знаменитой «башней из слоновой кости» поэта-символиста Вячеслава Иванова.
С Таврической мы свернули на Тверскую, а с Тверской на Кавалергардскую. Идти нам было меньше километра. На пустынных улицах не наблюдалось ни одной живой души. Лишь на пересечении Кавалергардской и Шпалерной навстречу попался припозднившийся прохожий, но, увидев нас, испуганно шарахнулся в подворотню. На афишных тумбах болтались обрывки каких-то плакатов, улицы освещались редкими фонарями, лампы которых горели в полнакала. Было сыро, темно и неуютно.
На углу Шпалерной, там, где в мое время стоял памятник Дзержинскому, виднелись одноэтажные корпуса Аракчеевских казарм. До начала войны в них находилась Офицерская кавалерийская школа, которой одно время командовал генерал Брусилов. Сейчас здание казарм было бесхозным, частично разграбленным местными жителями.
А вот и цель нашего путешествия – массивный пятиэтажный дом в стиле модерн. Именно в нем и располагалось Товарищество печатного и издательского дела «Труд». В этой типографии сегодня печатался очередной номер большевистской газеты «Рабочий путь».
Мы остановились и стали совещаться. В типографию я решил отправиться вместе с Бесоевым. Ирину пока брать с собой не стали. Женщина, тем более красивая – это отвлекающий фактор. А беседа со Сталиным предстояла серьезная.
Найдя нужную вывеску, мы вошли в темный пахнущий сыростью и кошками подъезд. Там впотьмах я столкнулся с невысоким плотным мужчиной, выходившим из дверей типографии. Он ударился коленом о мой сундучок и сквозь зубы выругался: «Шени деда…» Я понял, что это не кто иной, как сам товарищ Сталин, собственной персоной.
– Гамэ мшвидобиса, генацвале (Добрый вечер, дружище), – поприветствовал я его по-грузински.
Тот изумленно ответил:
– Гагимарджос… – И потом, справившись с удивлением, спросил уже по-русски: – Товарищ, а мы разве с вами где-нибудь встречались? Я не могу в темноте разглядеть ваше лицо.
– Товарищ Сталин, мы к вам пришли по важному делу, – сказал я, – информация, которую мы вам хотим сообщить, еще не известна никому в Петрограде. Вы можете опередить всех, опубликовав ее на первой полосе вашей газеты. Завтра – точнее, уже сегодня – «Рабочий путь» будут рвать из рук мальчишек-газетчиков.
Заинтригованный Сталин задумался. После недолгих размышлений в нем сработал инстинкт журналиста, и он пригласил нас в типографию, где для редактора большевистской газеты был отведен небольшой закуток. На небольшом столе стоял чайник, и рядом – несколько стаканов в подстаканниках. Тут же присутствовал заправленный серым одеялом топчан. Я подумал, что порой Сталину приходится есть и ночевать прямо на рабочем месте.
В помещении знакомо пахло типографской краской, в центре комнаты стоял линотип. Рабочий пронес мимо меня набранную полосу и положил ее на верстак.
При свете десятилинейной керосиновой лампы мы более тщательно разглядели друг друга. Сталин сейчас не был тем монументальным вождем Страны Советов, которого мы привыкли видеть в фильмах о войне или послевоенном времени. Ему было всего сорок лет, и выглядел он как обычный кавказец. Одет он был просто: солдатская гимнастерка, брюки, заправленные в солдатские сапоги, поношенная серая куртка…
С не меньшим любопытством и настороженностью Сталин разглядывал и нас.
– Давайте представимся друг другу, – сказал Сталин. – как меня зовут, и кем я работаю, вы, похоже, уже знаете. А вот я не знаю, с кем имею честь беседовать…
– Тамбовцев Александр Васильевич, – ответил я, – некогда специальный корреспондент одного из информационных агентств. Можно сказать, ваш коллега.
– Старший лейтенант Бесоев Николай Арсентьевич, – представился мой спутник.
Сталин с интересом посмотрел на него. То ли ему показалась знакомой эта осетинская фамилия, то ли он удивился тому, что вроде бы сухопутный офицер носит военно-морское звание.
– Как к вам обращаться? – спросил Сталин после небольшой паузы. – «Господа» или «товарищи»?
– Обращение «товарищи» для нас более привычно, – ответил я.
Сталин понимающе усмехнулся.
– Итак, товарищ Тамбовцев, и товарищ Бесоев, что же такого важного вы хотели мне сообщить?
– Речь идет о судьбе революции, – сказал я. – Вы, наверное, знаете, что некоторые деятели Временного правительства очень хотели бы, чтобы германцы начали наступление на Петроград…
Тот кивнул и, достав из кармана портсигар, закурил папиросу.
– Германское командование планирует провести десантную операцию по прорыву немецких кораблей в Рижский залив и захват Моонзундских островов, – сказал я и обратился я к Бесоеву: – Николай Арсентьевич, дайте, пожалуйста, карту.
Тот достал из планшетки сложенную в восемь раз карту с планом немецкой операции. Я развернул ее на столе перед Сталиным, который с любопытством смотрел на мои манипуляции, и продолжил, водя по карте карандашом, как указкой:
– Вот, смотрите – в случае успеха немцы обойдут приморский фланг русской армии и высадят десант, который беспрепятственно двинется на Петроград. Не факт, что они смогут взять его. Но Временное правительство, а точнее, те, кто выступает за военную диктатуру, объявят столицу на военном положении. Правительство сбежит в Москву, а в Питер введут нераспропагандированные части, которые начнут в городе резню. В первую очередь будут уничтожены руководители советов всех уровней и лидеры большевиков. Петроград зальют кровью. Вспомните, что нечто подобное произошло в 1871 году в Париже, где французские войска под командованием Тьера и при поддержке немцев уничтожили Парижскую Коммуну.
Сталин нахмурился. Он долго смотрел на карту, потом глянул на нас и неожиданно спросил:
– Товарищи, вы случайно не из ведомства генерала Потапова?
Я улыбнулся. Генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов был начальником военной разведки Русской армии. С июля 1917 года он тесно сотрудничал с большевиками.
– Нет, Иосиф Виссарионович, сейчас мы не из этого ведомства, хотя некоторые из нас и имеют к нему прямое отношение. Особенно Николай Арсентьевич. – Я жестом указал на Бесоева.
И тут у меня в кармане запищала рация. Достав ее (Бесоев потом сказал мне, что в этот момент глаза у Сталина стали «по девять копеек»), я включил прием и услышал голос Вадима Свиридова – одного из бойцов обеспечения, отвечавшего за нашу связь с адмиралом Ларионовым.
– Дед, я Пегий. Только что вышел на связь «Первый». Публика прибыла, «Большая Музыка» началась. Как понял меня, прием?
– Пегий, я Дед, понял тебя. Оставайся на связи, – ответил я.
– Что все это значит, товарищи? – несколько изумленно спросил у нас Сталин.
– Это значит, товарищ Сталин, что германский флот сосредоточился на исходных позициях для осуществления операции по прорыву русских минно-артиллерийских позиции в Рижском заливе…
03:55 СЕ. ТАКР «Адмирал Кузнецов», оперативный отдел
Контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов
До рассвета еще полтора часа. Все вокруг укутывает непроницаемая тьма. Ночь. «Час Быка». Время, отведенное нам на раздумье, почти вышло. До начала «операции по принуждению Германской империи к миру» осталось всего ничего, меньше пяти минут. Только что поступило сообщение от капитана первого ранга Перова. Его отряд последовательно форсировал и Передовую, и Центральную минную позиции, и теперь на максимальной скорости движется к месту временной стоянки у острова Гельголанд. Как и предусматривал план, при получении сообщения о том, что два противолодочных вертолета Ка-27-ПЛ вылетели на «Кузнецов», я отправил на «Североморск» взвод СПН ГРУ на двух транспортно-ударных Ка-29.
Немецкий флот тоже прибыл в зону своего сосредоточения к точке «Вейс». Группы тральщиков с авангардом десанта на борту приступили к прорыву минных заграждений у входа в бухту Тагалахт. Артиллеристы двух русских батарей на мысах Хунденсорт и Ниннаст, которые должны были бы прикрывать это минное заграждение, сейчас спят сном младенца. Да и что могли бы поделать против тяжело забронированных германских линкоров береговые батареи калибром в 120-152-мм, предназначенные для борьбы с эсминцами и легкими крейсерами. Хотя проблем десанту они могли бы доставить предостаточно, но все дело в том, что в те времена, если цель была не видна невооруженных глазом, или в бинокль, это означало, что она вообще не видна.
Для своей операции немцы вовсю использовали подготовку своих моряков к действиям в условиях плохой видимости. Отметки, соответствующие немецким кораблям на планшете, почти совпадают с данными фон Чишвица. Новейший германский линкор «Баерн» уже на подходе к своей позиции напротив Серро. Еще два линкора бросили якорь в виду Церельской батареи. Двадцать 12-дюймовых стволов против двух. Если верить старой схеме, то церельцы не смогут им даже ответить, ибо немецкие линкоры стоят вне сектора их обстрела. Адмирал Шмидт, командующий операцией, осторожен, и немцы не рискуют ничем. Десантный же флот на планшете напоминает стаю лососей, идущих на нерест в устье реки.
Быстро поднимаюсь в башню управления полетами. Хочется все видеть своими глазами. На ярко освещенной палубе почти праздничная суета. Экипажи и технический персонал готовят к вылету ударные вертолеты. Три МиГ-29К и один Миг-29КУБ стоят со свернутыми консолями крыльев в специальном кармане перед «островом». Под каждым из них подвешено четыре управляемых высокоточных противобункерных бомбы. Задача простая, как апельсин – максимальный шоковый эффект при минимальных затратах боеприпасов и моторесурса. Не до жиру. Глубины под линкорами небольшие, и впоследствии мы позволим немцам забрать свой металлолом. Но это исключительно после заключения мирного договора, а пока пусть побудет у нас в заначке.
Я уже в башне. Одна минута до начала операции… «Москва», «Адмирал Ушаков», «Ярослав Мудрый», «Сметливый» готовясь к ракетной атаке, легли на курс ост. На палубе «Кузнецова» четыре Ка-52 и четыре Ми-28Н уже на стартовых позициях, раскручивают винты роторов. Шесть Ка-29 на кормовой стоянке с еще сложенными винтами готовы занять их место на старте. Планшет на башне показывает воздушную обстановку. Пока в воздухе один вертолет ДРЛО Ка-31 с «Москвы» и разъездной вертолет КА-27ПС с «Кузнецова», на котором оператор с телеканала «Звезда» готовится снимать свой самый забойный документальный фильм под названием «Крах Альбиона». Кстати, это идея Тамбовцева. Журналисты захвалили с собой в Сирию даже принтер, печатающий на кинопленке. Собирались они как на необитаемый остров. И правильно: лучше ни от кого и ни в чем не зависеть.
Время «Ноль»; чуть в стороне от нас два раза полыхнуло багрово-розовое пламя, и две огненные кометы, косо пролетев по небу, скрылись в облаках. Это «Москва» нанесла удар двумя «Вулканами» по линейному крейсеру «Мольтке», где находится штаб десантного корпуса. Мгновение спустя «Адмирал Ушаков» начал выпускать во тьму свои «Москиты». Их цели – легкие крейсера «Эмден», «Франкфурт», «Кенигсберг», «Карлсруэ», «Нюрнберг». И «Москиты», и «Базальты» каждую секунду полета преодолевают по 830 метров, до их целей 110–115 километров – это всего 135 секунд полета ракет. Когда они истекут, немецким морякам придется взглянуть прямо в глаза Большому Полярному Лису. Стартовавшим одновременно с ними «Уранам», нацеленным в транспорты с десантом, добираться до цели втрое дольше – больше шести минут. Как только последний «Уран» покинул свою пусковую установку и направился к цели, я перевел дух. Как говорил Темуджин Есугеевич Борджигин, больше известный как Чингисхан, «пущенную стрелу не остановишь». А головной «Вулкан», между прочим, уже преодолел половину расстояния до цели.
Ракеты ушли вперед, и четко в соответствии с графиком с палубы «Кузнецова» стали взлетать ударные вертолеты. Когда все идет согласно заранее составленным планам, то, с одной стороны, по сердцу разливается мед от осознания хорошо выполненной работы, а с другой – возникает тревога, ибо накапливающаяся энтропия, вылившись в крупный сбой или аварию, способна так дать копытом по зубам, что мало не покажется. Поэтому не будем говорить гоп, пока не поймем, во что впрыгнули.
Минус тридцать секунд. Странная сложилась ситуация. Русские моряки и солдаты на берегу не подозревают о нацеленных на них германских орудиях. В свою очередь, немецкие моряки на боевых и транспортных кораблях, солдаты на пароходах и десантных баржах не догадываются о приближающейся к ним крылатой смерти.
Минус десять секунд. Вспоминаю строчку из труда фон Чишвица: «Всего в двух эшелонах надо было переправить около: 24.600 офицеров и нижних чинов, 3.500 лошадей, 2.500 повозок, 40 орудий, 220 пулеметов, 80 минометов и сверх того большое количество боеприпасов, инженерного имущества и запас продовольствия на 30 дней; только одно продовольствие весило 2 300 тонн».
Думаю: «А вот лошадок жалко, это вам не „дойчен зольдатен унден официрен“, это действительно Божьи твари, которые не ведают, что творят…»
Ноль – время вышло! После я много раз просматривал отснятый Андреем Владимировичем Романовым фильм. Оба «Вулкана» наводились на центр ЛК «Мольтке», находившийся в районе второй трубы. Всего лишь пятидесятимиллиметровые бронепалубы прикрывали сверху третье и четвертое котельные отделения, а также пороховые и бомбовые погреба башен «В» и «С». И вся эта роскошь – в радиусе пятнадцати метров от точки прицеливания.
Ракеты ударили в палубу почти одновременно, под углом примерно семьдесят градусов. Ослепительная вспышка расколола темноту. Боевая часть первой ракеты весом в тонну пробила бронепалубу, прошла через котельное отделение и взорвалась под снарядным погребом башни «С». Кумулятивная струя разрушила внутренние перегородки и пробила в правом борту ниже ватерлинии дыру диаметром в 7–8 метров, куда хлынула вода. «Мольтке» – корабль с кочегарками, работавшими на угле. Взрыв котлов выбросил в небо облако раскаленного докрасна шлака. Собственно, этого хватило: немецкий крейсер получил смертельное ранение. Но что сделано, то сделано. Вторая ракета ударила в его середину, между трубами, повредив паропроводы и добавив еще одну пробоину по правому борту. Дело в том, что вся конструкция подводной части боевого корабля была рассчитана на то, что мина или торпеда взорвутся у борта с наружной части корпуса, и придется оказывать сопротивление ударной волне, идущей внутрь. Но кумулятивная струя, порожденная взрывом полутоны взрывчатки, ударила изнутри. На это немецкие конструкторы не рассчитывали. Через три минуты после первого попадания «Мольтке» сел на грунт с креном в тридцать градусов. Корма ушла под воду по верхнюю башню, полубак частично остался над водой. Получив доклад о попадании в «Мольтке», я приказал отправить группе Тамбовцева сообщение о начале «Большой музыки».
Почти одновременно с «Мольтке» взорвался легкий крейсер «Франкфурт», идущий вслед за тральщиками, сопровождая авангард десанта в бухту Тагалахт. «Москит» не умеет бить в палубу. Высокий профиль полета у него не предусмотрен. Он бьет исключительно в борт. Куда попала злосчастному «Франкфурту» осколочно-фугасная боевая часть, вызвавшая такой эффект, я не знаю. Но факт остается фактом: крейсер был уничтожен почти мгновенно. Правда, это был единственный легкий крейсер, пораженный «Москитом» насмерть. Крейсер «Эмден», получивший семидесятисантиметровую надводную пробоину в левом борту и трехметровую подводную в правом, сумел выброситься на отмель у Памерорт. При этом из-за возникшего крена пользоваться артиллерией он не мог.
Через полтора часа, когда рассвело, сидящий на мели крейсер стала обстреливать русская батарея у Серро, что вынудило команду сойти на берег. «Кенигсберг» горел в ночи, как факел, освещая все вокруг. «Карлсруэ» оказался прошитым насквозь по диагонали. Взрыватель сработал со слишком большой задержкой. Но даже так его скорость после попадания «Москита» не превышала двенадцати узлов.
Еще один крейсер, «Нюрнберг», получив попадание в носовую часть, а также подводную пробоину, с сильным дифферентом на нос потерял ход, но остался на плаву. Некоторое время спустя, во время спасательных работ, он все же напоролся на русскую мину, сорванную с якоря, и затонул.
Отгремел последний взрыв, и наступила тишина. Но у немецкого экспедиционного корпуса все было еще впереди. Смерть приближалась к ним тремя волнами. В первой шли ракеты «Уран», нацеленные на самые крупные транспорты. Во второй восемь ударных вертолетов были готовы устранить недоделки, оставшиеся от крылатых ракет. В третьей волне шесть транспортно-ударных вертолетов должны были завершить разгром десанта. Прилетать потом МиГам или нет, я решу, когда станет ясна вся картина происходящего.
Линкоры кайзеру было бы неплохо вернуть потом обратно. Но все будет зависеть от того, как поведут себя их командиры. Если они, поджав хвосты, уползут в свой Данциг, то скатертью дорога. А если попробуют с ослиным упрямством выполнить полученный приказ и начнут обстреливать русские береговые батареи, то… В общем, выбор за ними – и жизни, и смерти. А пока будем гонять вертолеты на уничтожение транспортного флота.
04:57 СЕ
До рассвета полчаса. Германского десанта считай что уже и нет на этой грешной земле. Сначала по наиболее крупным пароходам ударили «Ураны», рассекая темноту вспышками взрывов. Большая часть транспортов имела водоизмещение от двух до трех тысяч тонн, при полном отсутствии герметичных внутренних переборок. Тонули они как утюги. Кроме них, море было забито деревянными посудинами самого разного назначения и водоизмещения. Баркасы, баржи, плашкоуты… Примерно полпятого этот «суп с клецками» атаковали подоспевшие ударные вертолеты. Они же добили несколько крупных пароходов, не желающих тонуть после попадания «Урана». Подоспевшие Ка-29 занялись тральным флотом, прорывающимся к месту высадки.
Все море заполнилось немецкими солдатами, офицерами и моряками в спасательных жилетах, пытающимися добраться до берега вплавь. Но балтийская вода в октябре – это вам не пляжи Ниццы в июле, так что немцы быстро замерзали в ней насмерть. Сейчас вернувшиеся с вылета вертолеты дозаправляются и перевооружаются.
Глянув на часы, я понял, что все закончилось в течение часа. Десантной армады больше нет, и в любой момент я могу отдать приказ, обрекающий на ту же участь и немецкие линкоры. Сейчас все зависит только от их командиров и высшего командования. Эфир забит морзянкой. Все, теперь при любом изменении обстановки меня немедленно поставят в известность.
А сейчас надо спуститься к себе и оттуда попробовать выйти на связь с Тамбовцевым по закрытому каналу. Надо узнать, как там у них идут дела с величайшим человеком XX века.
12 октября (29 сентября) 1917 года, 05:05, Петроград. Кавалергардская улица дом 40, типография газеты «Рабочий путь»
Александр Васильевич Тамбовцев
После моего заявления Сталин, что называется, слегка и ненадолго впал в ступор. Он минуты две молчал, не отрывая взгляда от пламени на конце фитиля керосиновой лампы. Потом встрепенулся и, внимательно посмотрев на Бесоева, спросил у него (он, видимо, считал Николая Арсеньевича морским офицером, несмотря на сухопутную форму):
– Товарищ старший лейтенант, какими силами германцы намереваются прорваться в Рижский залив?
Бесоев четко отрапортовал:
– Товарищ Сталин, командование германскими вооруженными силами задействовало для осуществления операции «Альбион»: десять линкоров, один линейный крейсер, девять легких крейсеров, пятьдесят восемь эсминцев, семь миноносцев, шесть подводных лодок, двадцать семь тральщиков, четыре прорывателя минных заграждений, пятьдесят девять патрульных судов, один минный, два сетевых и два боновых заградителя, пять плавучих баз, тридцать два транспорта, и ряд других кораблей – в общей сложности триста пятьдесят одна единица. Для захвата островов немцы выделили десантный корпус генерала фон Катена – около двадцати шести тысяч человек, двести двадцать пулеметов и сорок орудий. Операция по высадке десанта начнется сегодня на рассвете ровно в шесть-тридцать по петроградскому времени.
– А какие силы у русских войск, защищающих Рижский залив? – спросил Сталин. – Я слышал, что подступы к заливу заминированы и прикрыты огнем мощных береговых батарей.
– Товарищ Сталин, – вмешался в разговор я, – В настоящий момент русский флот имеет в районе боев: два броненосца времен русско-японской войны, два броненосных крейсера, один бронепалубный крейсер, три канонерки, двадцать шесть эсминцев, семь миноносцев, три подводные лодки, три минных заградителя и другие корабли – всего сто двадцать пять единиц. Наиболее мощные береговые батареи калибром 305-мм расположены на мысе Церель и на мысе Тахкона. Ну и еще есть одиннадцать тысяч якорных мин, выставленных в этом районе. А о сухопутных войсках, защищающих острова, можно сказать только то, что они деморализованы и практически небоеспособны. Гарнизон острова состоит из мобилизованных третьей очереди, почти полностью разложившихся и готовых скорее сдаться, чем оказать сопротивление врагу. В лучшем случае эти части способны на организованное отступление. Подчиняющиеся Центробалту отряды матросов-большевиков, конечно, боеспособны, но в случае высадки десанта не смогут повлиять на ситуацию из-за своей малочисленности. Вся операция спланирована для того, чтобы организовать захват со стороны суши Церельской батареи.
– Да, положение действительно серьезное… – Сталин озабоченно прошелся по комнате, – немцы могут прорваться в Рижский залив и выйти к Ревелю. А там и до Петрограда рукой подать. Товарищи, вы точно уверены в своих сведениях?
– Товарищ Сталин, – сказал я, глядя прямо в глаза будущему генералиссимусу, – мы совершенно точно осведомлены о планах германского командования. Но у нас есть твердые основания считать, что сейчас в нескольких милях западнее залива Тагалахт на острове Эзель происходят события, которые поставят жирный крест на немецких планах прорыва в Рижский залив, и их десантная операция закончится полным провалом. Германские войска и флот понесут такие значительные потери, что после этого поражения утратят наступательный потенциал и начнут искать возможность заключить с Россией сепаратный мир. Вы помните, что немцы уже закидывали удочки на эту тему – через фрейлину императрицы Марию Васильчикову в декабре 1915 года и через члена Государственной думы Александра Протопопова в Стокгольме в 1916 году. За мир с Россией выступают такие влиятельные персоны в Германии, как гросс-адмирал фон Тирпиц, дипломаты Ульрих Брокдорф-Рантцау и Хельмут Люциус фон Штедтен. Стать посредником в переговорах между Россией и Германией вызвался племянник вдовствующей императрицы Марии Федоровны датский король Кристиан Х.
– И какие условия мира предлагали германцы? – заинтересованно спросил у меня Сталин.
– Речь шла о территории Польши и части Прибалтики, – ответил я. – Взамен они предлагали России приращение ее территорий за счет… своей союзницы, Австро-Венгрии…
Сталин рассмеялся.
– Конечно, чужое отдавать не жалко… – Тут он стал серьезным. – В общем, условия мира не такие уж тяжелые. Об этом стоит подумать. К тому же в ходе переговоров возможен торг – не так ли, товарищ Тамбовцев?
– Все зависит от обстановки на момент переговоров, – ответил я. – Если дела на фронте у немцев будут идти не очень хорошо, то можно добиться и более существенных уступок.
Сталин опять замолчал, о чем-то задумавшись. Потом он потер руками воспаленные от бессонницы глаза, и спросил:
– Товарищи, как вы насчет того, чтобы сообразить выпить чаю?
– Мы совершенно не против, – ответил я за себя и Бесоева. – Честно говоря, эта ночь выдалась для нас очень бурной, и мы тоже ни минуты не спали.
Сталин взял чайник и пошел куда-то вглубь типографии. Мы с Бесоевым переглянулись. Похоже, Коба отправился не только за кипятком. Я знал, что практически весь центр Петрограда был телефонизирован. Интересно, кому сейчас звонит Иосиф Виссарионович? Понятно, что не Ленину в Выборг. Дзержинский сейчас в Москве… Интересно все же, кому.
Сталин вернулся минут через десять и уже не выглядел таким озабоченным. Поставив на стол большой медный чайник, он открыл тумбочку в поисках заварки. В жестяной банке было пусто. Для верности Виссарионович поковырялся в ней пальцем, а потом развел руками.
– Прошу прощения, товарищи, чаю не осталось. Весь кончился. Можно, конечно, выпить просто кипятка. У меня есть немного сахарина.
Я приоткрыл свой сундучок, и достал оттуда свой походный набор – пластиковую коробку, в которой хранилось с десяток чайных пакетиков и столько же кусочков сахара. Выложив все на стол, я повернулся к Сталину и увидел его изумленные глаза.
– Это заварка, – сказал я, показывая Сталину пакетик с желтеньким ярлычком, – надо положить пакетик в стакан и залить кипятком. Хвостик с бумажкой оставляем снаружи. А это натуральный сахар – кладите его себе по вкусу. Для меня вполне достаточно двух кусочков.
Сталин с удивлением покрутил в руках пакетик, потом, глядя на нас, заварил чай и добавил в стакан сахар.
– Как все удивительно и просто… – пробормотал он себе под нос, – никогда в жизни не видел ничего подобного.
Пока мы не спеша пили по первому стакану чая, он с интересом нас разглядывал. Потом, видимо, сделав какие-то свои выводы, сказал:
– Товарищи, я уже почти час общаюсь с вами, но так и не смог понять, кто вы и откуда. Не могли бы вы раскрыть мне свое инкогнито?
– Иосиф Виссарионович, мы ведь уже представились вам, – ответил я, – поверьте, мы назвали свои настоящие имена и фамилии и род занятий. А вот ту информацию, которая вас так интересует, мы раскроем вам в самое ближайшее время. Сейчас наш рассказ может прозвучать для вас слишком невероятным. Потерпите немного. Иногда не надо спешить – вы ведь помните кавказскую пословицу: «Быстрая река до моря не добежит».
Сталин молча усмехнулся и пригладил усы. Он с удовольствием прихлебывал горячий чай, продолжая внимательно разглядывать нас. Коба явно чего-то ждал. Или кого-то? Интересно…
Все выяснилось через несколько минут. Снова у меня в кармане запищала рация. Включив ее на прием, я услышал спокойный, немного замедленный, голос еще одного бойца из группы Бесоева – Максима Турдибекова: «Дед, я Алтай. К дому подъехал тарантас с мотором, – в наушниках раздалось сдавленное хихиканье, – и колеса, как у велосипеда – со спицами. В авто двое: водитель в коже и пассажир в офицерской форме. Пассажир вышел из машины и идет в редакцию. Нам его брать его или как? Прием».
– Отставить… – ответил я, искоса посмотрев сначала на Бесоева, потом на Сталина. – Пусть идет, а вы еще усильте наблюдение. До связи.
– Ну, товарищ Сталин, и кого нам ждать? – спросил я нашего гостеприимного хозяина. – С кем мы будем иметь честь познакомиться через несколько минут?
Ответить мне Сталин не успел. В помещение вошел высокий худощавый офицер лет пятидесяти, с небольшими усиками и в пенсне. Я его узнал, хотя качественных фотографий этого человека мне видеть не доводилось. И немудрено – люди его профессии не любили, когда их фотографировали.
– Доброй ночи, Николай Михайлович, – вежливо поздоровался я с вошедшим, чем привел его в состояние легкого обалдения, – точнее, доброе утро. – Глянув на часы, я добавил: – Наверное, скоро уже начнет светать?
Офицер (точнее, генерал – об этом говорили его золотые погоны с зигзагом и красная подкладка шинели) удивленно посмотрел на меня и на Бесоева. Но, как человек воспитанный, генерал вежливо поздоровался с нами и присел в углу на топчанчик.
«Удивительно, как он похож на полковника Бережного… – подумал я, – прямо родной брат. Интересно будет посмотреть на их знакомство…»
– Вот это те самые люди, о которых я и сообщил вам, Николай Михайлович, – сказал Коба, – Похоже, это ваши коллеги. Они обладают совершенно секретной информацией о замыслах германцев, но с ней почему-то пришли не к вам, а ко мне.
– Представьтесь, пожалуйста, господа, – твердым и властным голосом обратился к нам генерал-лейтенант Потапов – начальник военной разведки Русской армии.
– Николай Михайлович, – ответил я, – мы ваши коллеги, только пришедшие издалека. Я Тамбовцев Александр Васильевич, в настоящее время журналист и военный корреспондент, но в свое время работал в одной разведывательное структуре, название которой вам точно незнакомо. Ведь слова «Первое главное управление» вам ничего не говорят? А вот мой коллега, старший лейтенант Бесоев Николай Арсентьевич, действительно служит в ГРУ – военной разведке, нынче пока именуемой разведуправлением главного штаба – а точнее, в одном из ее специальных силовых подразделений.
– Я ничего не понимаю… – Потапов снял фуражку и вытер пот со лба. – Александр Васильевич, какое первое главное управление? Что это за структура, о которой я ничего не знаю? А про ГРУ, Николай Арсеньевич, я тоже до сегодняшнего дня не имел никаких сведений. Будьте любезны, может быть, вы мне скажете прямо, кто вы и откуда?
Мы с Бесоевым переглянулись. Видимо, подошло время приоткрыть карты.
– Иосиф Виссарионович, Николай Михайлович, – обратился я к Сталину и Потапову. – Мы из вашего будущего, из конца 2012 года. Не считайте нас сумасшедшими или шарлатанами. Мы говорим вам правду…
В этот момент у меня в кармане снова запищала радия.
