Военная разведка Японии против СССР. Противостояние спецслужб в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке. 1922—1945
Tekst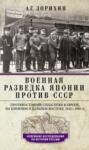


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 610 str. 23 ilustracje
- Kategoria: wojskowość, siły specjalne, literatura faktu
По итогам серии таких совещаний Енджеевич доложил в рапорте начальнику 2-го отдела ПГШ от 11 июля 1927 г. высокую оценку японским Генштабом как источников информации польской военной разведки о СССР, так и способов обработки разведывательных материалов[202]. В свою очередь, Варшава придавала большое значение поступавшим через аппарат военного атташе в Токио сведениям от японцев, поскольку в 1925–1931 гг., помимо данных об изменениях в составе, организации и дислокации войск Сибирского ВО – Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА), советской военной помощи Фэн Юйсяну, ПГШ регулярно получал копии обзоров Разведуправления Генштаба Японии и докладов его разведорганов в Северной Маньчжурии о боевых действиях советских Вооружённых сил в ходе конфликта на КВЖД в 1929 г.[203] В уже цитировавшемся рапорте от 11 июля 1927 г. Енджеевич писал буквально следующее: «Постепенно и целенаправленно развивающийся обмен информацией о СССР принёс нам, по моей оценке, большую пользу. Прежде всего, уже на первых совещаниях в 1925 г. обоим Генеральным штабам удалось выработать общую точку зрения по наиболее интересующему их вопросу – ситуации в СССР. У нас была возможность достаточно глубоко вникнуть в методы сбора данных и оценить объём имеющихся у японского Генштаба материалов по этой теме.
В дальнейшем постоянно обсуждавшаяся военная обстановка в Сибири дала нам возможность немедленно проверять в Генштабе Японии информацию о перемещениях там войск и иметь в любое время авторитетные сведения на этот счёт, особенно когда речь шла о крупных соединениях.
Кроме того, японский Генштаб постоянно передаёт информацию о других районах СССР или по иным вопросам»[204].
Аналогичным образом взаимодействовали резиденты обеих разведок в Москве, причём они не только обменивались информацией, но и осуществляли её перепроверку для установления подлинности. Так, 26 сентября 1926 г. к помощнику военного атташе Польши в СССР капитану Яну Грудзеню обратился майор Курасигэ Сюдзо, которому четырьмя днями ранее информатор предложил купить за 600 фунтов стерлингов оперативный план Красной армии для Западного фронта. Не будучи уверенным в подлинности документа, Курасигэ предложил полякам осуществить эту сделку совместно. Дальнейшее выяснение деталей показало, что у Грудзеня уже имелась фотокопия этого плана, переданная ему через организацию «М» (легендированная КРО ОГПУ монархическая организация в Москве. – А. З.), что только усилило подозрения 2-го отдела ПГШ в ненадёжности своих московских источников. Спустя полгода, 11 января 1927 г., военный атташе майор Тадеуш Кобылянский послал на оценку в Варшаву материалы, полученные Курасигэ от его агентуры.
Проведённая экспертиза установила, что они практически дословно повторяли доклады московских источников Кобылянского и содержали большой процент дезинформации, переданной, как потом выяснилось, ОГПУ в рамках операции «Трест»[205].
Ещё одним каналом разведывательного сотрудничества выступал аппарат японского военного атташе в Варшаве. Как и прежде, он направлял в Токио полученные из ПГШ материалы в обмен на справочные данные японского Разведуправления по СССР. Стоит, однако, отметить, что в период пребывания в должности военного атташе майора Хигути Киитиро (1925–1928) его контакты с польской разведкой были временно заморожены, что, видимо, объяснялось отсутствием у японцев дефицита информации о Красной армии и активным взаимодействием с польскими резидентурами в Москве и Токио. 2-й отдел ПГШ, в частности, информировал Енджеевича в ноябре 1926 г.: «Майор Хигути до настоящего времени официально не проявлял интереса к Красной армии и не обращался к нам за информацией о ней»[206]. Ситуация изменилась с прибытием в Варшаву нового военного атташе полковника Судзуки Сигэясу: 15 февраля 1929 г. он передал начальнику 2-го отдела сведения об организации советской противовоздушной обороны (ПВО) на Дальнем Востоке, попросил дать им оценку и поделиться информацией о «советских ВВС, в особенности об организации, вооружении, дислокации авиационных частей в Европе, России, Сибири и т. д., типах самолётов и их характеристиках, способах комплектования, а также о гражданской авиации», а пять дней спустя прислал в ПГШ схему организации Сибирского ВО также с просьбой её оценить[207].
Японцы придавали исключительное значение контактам с поляками. Для обсуждения деталей сотрудничества в апреле 1929 г. в Варшаву прибыла делегация РУ ГШ в составе генерал-лейтенанта Мацуи Иванэ, его брата генерал-майора Мацуи Ситио, сотрудника русского отделения майора Томи-нага Кёдзи и военного резидента капитана Тэрада Сэйити. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о создании в Варшаве японского разведцентра по сбору информации о Советском Союзе с позиций Восточной Европы и Прибалтики[208].
Можно также отметить, что и для Варшавы сотрудничество с японцами имело большое значение, поскольку в случае начала советско-польской войны ПГШ рассчитывал на помощь своих азиатских союзников в организации диверсий на Транссибирской железной дороге, поддержке сепаратистов в Сибири и предоставлении разведывательной информации[209].
Важнейшим итогом разведывательного сотрудничества Варшавы и Токио стала организация в середине 20-х гг. дешифровальной службы японской армии, превратившейся к концу Второй мировой войны в основной для неё источник сведений о советском военном потенциале.
До 1923 г. развитие криптографии в Японии не отвечало потребностям страны в надёжной защите каналов связи от посягательств иностранных спецорганов и в получении достоверной информации из перехваченных сообщений вероятных противников. Переломным моментом в отношении военного ведомства к криптографии стала серия инцидентов 1920–1922 гг. Сначала осенью 1920 г. начальник хабаровской миссии капитан Хигути Киитиро проинформировал Владивосток о чтении Амурской армией ДВР его шифропереписки[210]. Затем полтора года спустя резидент Владивостокской армии подполковник Микэ Кадзуо получил от военных жандармов агентурно изъятые в отеле Дайрэна оригиналы зашифрованных отчётов делегации ДВР о ходе переговоров по выводу японской армии из Приморья, но взломать шифр не сумел. Содержание стало известно только после того, как военный атташе в Польше майор Окабэ Наосабуро передал их для дешифровки полякам и те 5 декабря 1922 г. вернули ему комплект из 26 полностью прочитанных сообщений[211].
В этой связи Генштаб Японии предпринял попытку сконцентрировать усилия разрозненных ведомств в едином криптографическом органе. В апреле 1922 г. по инициативе начальника 3-го управления (связь) ГШ генерал-майора Вада Камэдзи было организовано «Объединённое научно-исследовательское общество по вопросам криптографии», в состав которого вошли представители армии, флота, министерств связи и иностранных дел, включая криптографов военной разведки капитанов Хякутакэ Харуёси и Кудо Кацухико[212].
Одновременно вернувшийся из Варшавы Окабэ предложил начальнику Разведуправления генерал-майору Итами Мацуо пригласить в Токио ведущего польского криптоаналитика капитана Яна Ковалевского. Поляки имели репутацию крупнейших специалистов по взлому советских шифров, раскрыв в 1919–1920 гг. свыше 100 ключей Красной армии. Хотя первоначально Итами дал негативный ответ, позднее он передумал и пригласил польского специалиста.
Капитан Ковалевский прибыл в Токио 29 января 1923 г. На следующий день он встретился с Вада и заместителем начальника Генерального штаба и с 1 февраля приступил к проведению лекций для 23 специально отобранных офицеров. Ковалевский познакомил японцев с общей теорией шифров, принципами организации службы радиоразведки, провёл практические занятия по дешифровке советских шифров на примере взлома одного из использовавшихся в тот момент советским полпредом в Китае А.А. Иоффе, оценил и предложил внести изменения в японские шифры, в частности вводимые в действие по мобилизационным планам. По итогам семинара Ковалевского Генштаб подготовил и разослал во все соединения до дивизий включительно совершенно секретный «Справочник по основам дешифровального дела», в котором обобщил принципы построения и взлома шифров СССР и ведущих европейских стран[213]. В июне того же года ГШ ввёл в эксплуатацию первую в Японии станцию радиоперехвата, однако из-за технических проблем она вскоре закрылась[214].
Оценивая пребывание польского специалиста в Токио, начальник Генштаба Кааи Мисао заявил 1 июня 1925 г. Енджеевичу, что Ковалевский оказал огромную услугу японской армии, познакомив её с методами дешифровки[215].
Развивая сотрудничество с поляками, в декабре 1925 г. в Варшаву на годичную криптографическую стажировку выехали майор Хякутакэ Харуёси и капитан Кудо Кацухико. В течение первого месяца они знакомились с теорией и практикой взлома буквенных и слоговых шифров с разного рода короткими заменами. На втором месяце шло теоретическое и практическое знакомство с шифрами длинных замен, кодами, шифрами перестановок и книжными шифрами, использовавшимися в военной и дипломатической переписке. В оставшееся время Хякутакэ и Кудо изучали организацию радиоразведки в польской армии, а в конце обучения посетили один из радиоразведывательных пунктов (РРП), работавший против СССР. Позднее в Польше побывали ещё четыре японских криптоаналитика – майор Сакаи Наодзи, капитан Окубо Сюндзиро (1929), капитаны Сакураи Синта и Фукаи Эйити (1935), которые впоследствии возглавили армейские дешифровальные органы, действовавшие против СССР[216].
Результатом японо-польского сотрудничества в области криптоанализа стала организация в июле 1927 г. в составе 7-го отдела 3-го управления Генштаба шифровального отделения во главе с Хякутакэ. Однако работа армейских криптографов осложнялась постоянными ведомственными распрями между 2-м и 3-м управлениями, поэтому в июле 1930 г. начальник ГШ вывел дешифровальную службу из состава Управления связи и на правах 5-го отделения включил её в китайский отдел Разведуправления[217]. Штатная численность отделения была установлена в 6 человек (начальник, по 1 офицеру от европейского и китайского отделов, 2 офицера-стажёра и 1 машинистка), на него возлагались задачи по разработке и оценке криптографической стойкости используемых в японской армии шифров, криптоанализу шифрованной переписки США, СССР и Китая, организации и руководству аппаратом радиоразведки в период войны, контролю за соблюдением режима секретности в хранении шифроматериалов и подготовке сотрудников шифрорганов. В перспективе планировалось вывести 5-е отделение из состава военной разведки и подчинить его непосредственно начальнику ГШ[218].
Хотя добиться положительных результатов в дешифровке советской переписки до 1935 г. отделению не удалось, оно методично накапливало опыт и исходные материалы для её взлома: в феврале 1922 г. ПГШ передал военному атташе Ямаваки образец шифровальной таблицы Красной армии, в декабре 1922 г. начальник полицейского бюро генерал-губернаторства Кореи направил Военному министерству добытые его агентурой пять шифрантов 1-й Амурской стрелковой дивизии и ГПО Приморской губернии, а в июне 1929 г. китайские власти ознакомили японцев с советскими перешифровальными таблицами, захваченными при обыске генерального консульства в Харбине[219].
Если аппарат стратегической разведки в Советском Союзе во второй половине 20-х гг. только приобретал очертания, то оперативный уровень разведорганов Генерального штаба был представлен уже сложившейся системой информационно-аналитических служб Квантунской и Корейской армий.
Деятельность Квантунской армии против СССР сохраняла преемственность форм и методов прошлых лет и велась головной миссией в Харбине, состоявшей из начальника – специалиста по России, его заместителя-китаиста и прикомандированного к харбинскому отделению ЮМЖД сотрудника Генштаба, а также миссией в Маньчжоули и внештатным разведпунктом в Хэйхэ. Малочисленность североманьчжурских миссий объяснялась отсутствием крупной группировки советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкалье и вовлечённостью оперативного состава военной разведки в реализацию материковой политики Японии на континенте. На прежнем уровне оставалось и финансирование деятельности разведорганов Квантунской армии против СССР: согласно изданному в ноябре 1925 г. приказу по Военному министерству, на 1926 финансовый год военные миссии в Харбине, Маньчжоули и Пограничной получали, как и годом ранее, 20 400 иен, из которых 17 040 иен отводилось Квантунской армии[220].
В июне 1926 г. Военное министерство утвердило «Официальные правила организации агентурной разведки в Квантунской армии», которые отменяли действовавшую с мая 1917 г. инструкцию. В соответствии с Правилами, зона ответственности разведорганов армии охватывала Северную Маньчжурию, восточную часть Внутренней Монголии, Халху во Внешней Монголии, Забайкалье и Приамурье, в то время как разведка в Приморье оставалась за Корейской армией. Разграничительная линия между разведорганами объединений проходила через Хайлинь – Дуньхуа – Люхэ (населённый пункт около Тунхуа) – Фынхуанчэн (населённый пункт юго-восточнее Мукдена). При необходимости харбинская и маньчжурская миссии могли забрасывать агентуру западнее Байкала, в глубинные районы Сибири и европейскую часть СССР[221].
Принятие Правил было вызвано, безусловно, активизацией японской разведывательной деятельности в Китае в результате начавшегося Северного похода Чан Кайши против фэнтяньской клики. Вместе с новыми Правилами Военное министерство утвердило и новый план разведывательной деятельности объединения, который был целиком ориентирован на сбор информации о военном потенциале, экономике, внешней политике, транспортной инфраструктуре и организации связи противоборствующих группировок в Китае[222].
В свою очередь, харбинская миссия, координируя работу всех разведорганов в Северной Маньчжурии, непосредственно отвечала за сбор информации по широкому кругу интересовавших командование вопросов о Советском Союзе и Китае, в том числе о дислокации, организации, вооружении и боевой подготовке частей и соединений Красной армии на Дальнем Востоке и в Забайкалье; деятельности местных органов власти, состоянии сельского хозяйства, промышленности, транспорта и финансов регионов; социально-экономической и политической ситуации в СССР в целом; советско-китайских отношениях, контактах правительства СССР с лидерами милитаристских клик; деятельности белоэмигрантских организаций в Маньчжурии и антисоветского подполья на Дальнем Востоке и в Забайкалье; транспортной инфраструктуре Маньчжурии, работе КВЖД; состоянии китайской армии и военной промышленности.
Для получения необходимых им сведений сотрудники миссии комбинировали различные методы разведывательной деятельности: обрабатывали советскую и китайскую прессу, прослушивали радиопередачи из Хабаровска, беседовали со служащими КВЖД и советского генконсульства в Харбине, обменивались информацией с китайской разведкой, задействовали осевших в Маньчжурии агентов из организаций Н.Л. Гондатти, Г.М. Семёнова и М.К. Дитерихса, забрасывали маршрутную агентуру в СССР.
В соответствии с правилами секретного делопроизводства, начальник миссии отправлял донесения в штаб армии или в Токио в обезличенном виде, поэтому судить об источниках его информации сложно. В телеграммах за 1926–1928 гг. фигурируют публикации харбинской печати и агентурные сообщения из советского генконсульства о борьбе в высшем руководстве ВКП(б), приводятся ссылки на беседы с председателем Правления КВЖД М.М. Лашевичем и доклады агентов из числа членов корейской или японской секции компартии во Владивостоке[223] о политических акциях СССР в Северной Маньчжурии[224].
Не стоит, однако, переоценивать агентурные возможности харбинской миссии в силу того, что основа её вербовочного контингента – белая эмиграция – была разобщена и не имела надёжной связи с единомышленниками в Советском Союзе. На это обстоятельство, в частности, в начале 1927 г. обращал внимание Генерального штаба сотрудник миссии майор Канда Масатанэ, отмечавший, что «финансовые и людские ресурсы русских эмигрантов разобщены, поэтому нет той организации, которая бы выступала цементирующим ядром», а «связь между белогвардейскими организациями в Северной Маньчжурии и на советском Дальнем Востоке очень затруднена»[225]. Ситуация не выправилась и через три года: в докладе главы ЯВМ подполковника Савада Сигэру в Токио от 17 июня 1930 г. сообщалось о трёх крупных антисоветских организациях в Северной Маньчжурии, группировавшихся вокруг студенческого течения правого толка, митрополита Мефодия и бывших служащих КВЖД «Маамурэнтофу», Олегова и Каппеля, которые отправили в Приморье партизанскую группу полковника Ф.Д. Назарова, однако не называлось ни одного контактировавшего с ними отряда повстанцев, а лишь говорилось об очагах антисоветского сопротивления в Анучино и Сучане (Партизанске). Более того, Савада констатировал нерешительность атамана Г.М. Семёнова в деле свержения советской власти в Забайкалье, несмотря на имевшуюся у него там поддержку в крестьянской среде и органах местного управления[226]. Не могло быть и речи об активном использовании японской военной разведкой дальневосточного отдела Русского общевоинского союза: 17 сентября 1930 г. Савада проинформировал Токио о прибытии в Харбин его главы М.К. Дитерихса, с которым миссия контактировала с 1919 г., однако отмечал, что генерал не имел прежнего авторитета у местной эмигрантской верхушки и не сумел взять под контроль обучение молодёжи[227].
В то же время харбинская миссия сохраняла тесные отношения с бывшим приамурским генерал-губернатором Н.Л. Гондатти, установленные ещё в 1919 г., используя его для опроса дезертировавших из Приморья красноармейцев[228].
Часть информации харбинского разведоргана японский Генштаб перепроверял через своего военного атташе при посольстве в Китае, который получал сведения о группировке Красной армии за Байкалом и намерениях советского военно-политического руководства от французского коллеги[229].
Миссия в Маньчжоули продолжала собирать информацию о Забайкалье, Монголии и КВЖД. Сведения органа носили разносторонний характер и целиком соответствовали очерченному ему кругу задач. Источниками информации выступали открытая печать, советские и монгольские официальные лица, чиновники китайской полиции, маршрутная агентура из числа белоэмигрантов, контрабандистов и проводников Забайкальской железной дороги. Ссылка на последнюю категорию агентов встречается, в частности, в донесении начальника миссии в Харбин от 7 сентября 1928 г., в котором он сообщал сведения проверенного агента-проводника о начале автомобильных перевозок винтовок и ручных гранат из Борзи в Санпэйцзу для антикитайских партизанских отрядов Хулун-буира[230]. В белоэмигрантской среде миссия опиралась в первую очередь на организации, располагавшие возможностями для заброски людей в Забайкалье и имевшие связи среди проживавшего там населения, поэтому начальник органа капитан Кавамата контактировал с руководителями партизанских отрядов в Трёхречье И.И. Зыковым, И.А. Пешковым, Куржанским, а его преемник Уэда Масао установил доверительные отношения с проживавшими в Харбине генерал-майором Е.К. Вишневским и полковником А.Г. Бычковым[231].
Тем не менее, как и в предыдущие годы, информация миссии носила размытый и искажённый характер, свидетельством чего стал подготовленный по её материалам 25 февраля 1927 г. доклад начальника головного харбинского органа о советской группировке войск в Забайкалье. Из него следовало, что в Чите дислоцировалось управление 18-го стрелкового корпуса, которое, однако, ещё в июле 1924 г. было переведено в Иркутск. Кроме того, миссия правильно установила дислокацию в Забайкалье 36-й стрелковой дивизии, но ошибочно отразила в её составе 105-й стрелковый полк 35-й дивизии, который к тому же находился не в Чите, а в Верхнеудинске, не подозревала о существовании 108-го полка в Сретенске и неверно определила артиллерийскую часть в Чите как дивизион, хотя это был полк. Точно так же обстояло дело с 5-й Кубанской кавалерийской бригадой в Верхнеудинске, номер которой был не известен маньчжурскому разведоргану. Его агентура не смогла установить действительное наименование ни одного из трёх кавалерийских полков бригады, но сообщила о мифических «Сибирском кавалерийском полке» близ Читы и «Бурятском кавалерийском полке» в Троицкосавске (Кяхте), хотя в последнем случае подразумевался отдельный Бурят-Монгольский кавэскадрон 5-й бригады, дислоцированный в Верхнеудинске и развёрнутый до полка только в 1932 г.[232]
Особое место в системе японских разведорганов в Маньчжурии занимал внештатный разведывательный пункт в Хэйхэ, который после отъезда капитана Канда в 1924 г. возглавил управляющий местной аптекой Миядзаки Масаюки. Его заместителем стал бывший агент благовещенской миссии Кумадзава Садаитиро, владевший в Хэйхэ собственным постоялым двором. Никто из сотрудников пункта не имел специальной разведывательной подготовки, что явилось одной из причин успешного внедрения в его аппарат квалифицированной агентуры советских органов государственной безопасности и создания канала передачи японцам дезинформации в рамках оперативной игры «Макаки – Маки – Мираж».
Хэйхэская резидентура подчинялась головной миссии в Харбине и имела небольшой агентурный аппарат в Приамурье, контролировавшийся через китайских и русских контрабандистов: по данным КРО Полпредства ОГПУ по Дальневосточному краю за декабрь 1926 г., Миядзаки располагал двумя агентами в штабе 2-й Приамурской стрелковой дивизии в Благовещенске из числа бывших офицеров, передававшими секретные документы штаба Сибирского ВО, связь с которыми поддерживал через контрабандиста Д.Б. Тимеркеева[233].
Практически не претерпела изменений после восстановления советско-японских отношений разведывательная работа Корейской армии. Однако с 1926 г. её деятельность стали регламентировать ежегодные планы, детализировавшие дислокацию, задачи и зоны ответственности разведорганов армии.
Так, согласно плану на 1926 г., объединение должно было собирать информацию о корейских революционных организациях, советской и китайской армиях через подчинённые ему разведпункты в Пограничной, Яньцзи, Тунхуа и Хайлине, а также через органы военной жандармерии («кэмпэйтай») внутри Кореи. Для этого в каждом пункте находился один офицер. Ведущую роль в сборе данных по СССР играла военная миссия в Пограничной, которая совместно с отделениями военной жандармерии в Сэйсине и Кёнхыне вела разведку в полосе КВЖД и в Приморской губернии. Пункт в Яньцзи отвечал за сбор информации по Красной армии, Китаю и корейским повстанцам. Резидентура в Тунхуа (её планировалось развернуть в августе на базе пункта в Мукдене) должна была работать исключительно по китайской и корейской тематикам. Кроме того, армия спланировала закрытие пункта в Хайлине, передислокацию резидентуры из Яньцзи в Лунцзин, отправку офицера разведки в Хуньчунь и создание одного пункта в центре антияпонского движения корейцев в Шанхае или Пекине[234].
Спустя год, 6 июня 1927 г., начальник штаба Корейской армии представил в Военное министерство новый план разведывательной деятельности объединения на 1927 финансовый год, который детализировал задачи разведорганов в Пограничной, Лунцзине, Тунхуа и жандармских отделений внутри Кореи. Как и в предыдущем году, основная тяжесть работы по получению данных о СССР ложилась на офицеров разведки на станции Пограничной и в Лунцзине.
Лунцзинская миссия отвечала за сбор сведений о советской военной инфраструктуре и корейских революционных организациях на юге Уссурийского края, пропагандистских и подрывных акциях СССР в отношении Японии и Китая.
На миссию в Пограничной возлагался сбор материалов об организации и дислокации войск Сибирского военного округа, их вооружении, мобилизационных возможностях, боевом потенциале и материально-техническом обеспечении (МТО); уровне подготовки командного состава Красной армии; состоянии фортификационных сооружений и системы ПВО Дальнего Востока, строительстве новых укреплённых районов; дислокации, вооружении, тактике применения частей ВВС и отрядов Гражданского воздушного флота на Дальнем Востоке и в прилегающих к нему районах; политическом и экономическом положении в СССР; советской пропаганде на различные государства и, в частности, на Японию; влиянии СССР в полосе КВЖД; состоянии советско-китайских отношений; деятельности корейских революционных организаций в СССР; работе КВЖД и проходящих южнее неё параллельных дорог Нингута – Мулин и Суйфэньхэ – Хэньдаохэцзы[235].
Для решения этих задач миссия в Пограничной располагала небольшой агентурной сетью в советском Приморье – резидентурой в Гродеково во главе с Ким Идэ и агентом-японцем во Владивостоке, – а также регулярно забрасывала туда корейских маршрутных агентов и опрашивала контрабандистов. Опираясь на полученные таким образом сведения, 3 февраля 1926 г. начальник штаба армии доложил в Генеральный штаб о дислокации 2 стрелковых и 1 кавалерийского полков в районе Гродеково, наличии там бронепоездов и боевой авиации, переброске резервов на юг Приморья из Сибирского военного округа, мероприятиях органов ОГПУ по обеспечению скрытности воинских перевозок и ликвидации приграничных каналов контрабандной торговли[236].
Главной проблемой Корейской армии оставался низкий уровень финансирования. Осознавая недостаточность выделяемых на разведку средств, 6 мая 1927 г. начальник штаба армии направил запрос в Военное министерство об увеличении её ежегодных секретных расходов до 9900 иен, мотивируя свою просьбу обострением обстановки в Китае, Советском Союзе и Корее, однако военное ведомство отказалось выделить искомую сумму[237].
Общее состояние органов военной разведки Японии в Северной Маньчжурии, Корее и на Дальнем Востоке во второй половине 20-х гг. наглядно характеризовал подготовленный для Генштаба в начале 1927 г. сотрудником харбинской миссии майором Канда Масатанэ доклад «Основы подрывной работы против России», который, по сути, являлся перспективным планом разведывательно-диверсионных операций против СССР. При этом соображения Канда во много перекликались с «Размышлениями относительно размещения разведывательных органов армии в Сибири и на Дальнем Востоке после восстановления дипломатических отношений между Японией и Россией» начальника штаба Квантунской армии генерал-майора Кавада Акидзи.
Считая столкновение между Советским Союзом и Японией неизбежным, Канда предлагал уже в мирное время расширить сеть японских разведывательных органов на основных ТВД, чтобы с началом войны изолировать советский Дальний Восток от европейской части страны. Он, в частности, отмечал полное отсутствие у Генштаба резидентур в Сибири и на Дальнем Востоке, из-за чего «нам совершенно неизвестно действительное положение дел у населения и армии», поэтому рекомендовал в дополнение к уже существовавшим ЯВМ в Харбине, Маньчжоули и Пограничной учредить разведорганы в Новосибирске, Чите, Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Нанаме, Хайларе, Цицикаре, Таонане и на Южном Сахалине. По мнению Канда, главной задачей разведаппарата в Маньчжурии, Корее, Забайкалье, Сибири, на Дальнем Востоке и Южном Сахалине являлось установление контактов с антисоветскими силами уже в мирное время и их использование в период войны для разрушения железных дорог, линий связи и партизанских рейдов в тылу Красной армии. Новосибирская, благовещенская, хабаровская и владивостокская резидентуры должны были осесть под крышами японских консульств или торговых компаний, наладить связь с антисоветскими организациями крестьян и хунхузами и в случае начала войны с их помощью срывать заготовки зерна, угля и перевозки по Транссибирской железной дороге. Читинской резидентуре отводилась роль регионального центра, который, наряду со сбором информации о Забайкалье и руководством антисоветским движением, должен был поддерживать связь с новосибирским и североманьчжурскими органами[238].
Особое место в своём докладе Канда отвёл Китайско-Восточной железной дороге. Он отмечал, что «в случае продвижения Красной армии на равнины Северной Маньчжурии быстрее нас, необходимо предусмотреть меры для уничтожения КВЖД». Для этого Канда предлагал во время войны использовать 1600 североманьчжурских хунхузов, а также забрасывать в западный и восточный сектора дороги смешанные диверсионные группы из белоэмигрантов и японских сапёров-подрывников, которые бы выводили из строя подвижной состав, мосты, горные тоннели, железнодорожные станции и депо. Оценивая потенциальные возможности белогвардейских организаций и их лидеров в Северной Маньчжурии, японский разведчик находил наиболее пригодными для решения очерченного круга задач Эмигрантский и Офицерский союзы А.В. Бордзиловского, поскольку Н.Л. Гондатти, М.М. Плешков и Д.Л. Хорват утратили былое влияние, однако считал, что, хотя Бордзиловский и «может быть весьма полезен нам, но никогда не сумеет взять под контроль все белогвардейские организации», поэтому «было бы выгоднее обратить внимание на молодое поколение», то есть на Союз молодёжи во главе с В.Н. Осиповым[239].
В целом Канда представил военно-политическому руководству Японии долгосрочную детально разработанную программу разведывательных и подрывных операций против СССР. Однако её реализация требовала значительных финансовых затрат и, кроме того, противоречила принятому империей курсу на нейтралитет в отношениях с Москвой, поэтому на пять лет «легла в долгий ящик». Единственное, на что согласилось Военное министерство, – организовать в июне 1928 г. нелегальную резидентуру в Хайларе под видом конторы по торговле мехами во главе с майором Тэрада Тосимицу, который формально числился за Генштабом, но фактически подчинялся Квантунской армии[240]. Однако появление нового разведоргана у границ Забайкалья диктовалось не усилением агентурной разведки против СССР, а повышенным интересом Токио к антикитайскому движению за независимость Хулун-буира.
Инициативы харбинской миссии и командования Квантунской армии по расширению разведывательной деятельности в СССР и Маньчжурии обуславливались в первую очередь активизацией советской политики экспорта революции в Китай во второй половине 20-х гг. В июне 1925 г. в докладе «О советском коммунистическом движении в Китае» Генштаб констатировал прямое участие Москвы в организации «часто возникающих в последние годы в различных районах страны бойкотов и забастовок служащих железных дорог, экипажей судов, рабочих промышленности» и её тесную связь с группировками антиимпериалистической и антияпонской направленности[241].
