Воспоминания. Министр иностранных дел о международных заговорах и политических интригах накануне свержения монархии в России. 1905–1916
Tekst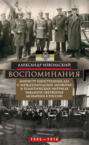


Przejdź do audiobooka
- Rozmiar: 260 str. 1 ilustracja
- Kategoria: literatura faktu, reportaż, biografia, historia Rosji
То же самое утверждение появилось вновь в книге, написанной английским публицистом доктором Диллоном и озаглавленной «Россия в упадке», которая была издана в 1918 году и сообщала те факты, которые были лично переданы графом Витте автору, пользовавшемуся, как известно, его полным доверием.
Доктор Диллон, который, несомненно, знал ошибки утверждений его друга, сравнив их с текстом договора, постарался избегнуть этих слишком очевидных противоречий путем объяснения, что память графа Витте не всегда была отчетлива в последние годы его жизни и что он протестовал против опасности, которая обозначилась ввиду столь враждебной позиции по отношению к Франции.
К сожалению, я должен сказать, что истинная подоплека всего этого заключалась не в слабости памяти графа Витте, но как в этом, так и в других случаях он исказил факты из-за глубоко укоренившейся неприязни, которую он испытывал к императору Николаю, чувство, которое в его последние годы переросло в настоящую ненависть. Стараясь быть справедливым по отношению к памяти графа Витте, который возвышался над уровнем обычных людей не только своими выдающимися качествами, но даже своими недостатками, я не могу слишком строго осуждать такой акт посмертной мести, который он совершил, не только раскрыв журналисту государственную тайну такой огромной важности, но еще больше обвинив его суверена в преступлении, в котором тот, как он, должно быть, знал, невиновен.
Теперь, когда мы знаем точный текст Бьеркского договора и обстоятельства, связанные с его подписанием, совершенно невозможно поддержать обвинение, выдвинутое против императора Николая графом Витте и принятое доктором Диллоном, а также некоторыми другими менее авторитетными авторами, в совершении акта измены по отношению к Франции. После того как русское революционное правительство опубликовало секретные документы, я приложил все усилия, чтобы исправить неправильное толкование договора, сообщив то, что знал, Ф. Йенсену, издателю газеты Le Temps, интервью которого со мной было опубликовано в конце сентября 1917 года. Зная о том, что происходило в Бьерке, и будучи вполне осведомлен о содержании договора и телеграмм, которыми обменивались императоры, – по должности министра иностранных дел, – я считал моим прямым долгом исправить неточную версию, которая не только порочит репутацию Николая II, но и была рассчитана на то, чтобы дискредитировать всю Россию.
Я с удовлетворением узнал, что статья в Le Temps внесла существенный вклад в просвещение общественности относительно роли, которую сыграл царь в этом деле, но, поскольку обвинение графа Витте в государственной измене было возрождено с замечательной силой и талантом доктором Диллоном в его работе «Россия в упадке», не могу удержаться от повторного вступления в дискуссию с более компетентным, достоверным и полным свидетельством, которое позволяет внести мой бывший пост министра иностранных дел императора.
Совершенно необходимо, прежде всего, вспомнить те события, под влиянием которых находился царь во время встречи с германским императором, и попытаться воспроизвести его душевное состояние во время этого свидания.
Незадолго до этой знаменитой встречи царь узнал о неудачах своей армии в борьбе с японцами в Маньчжурии; его флот, под командованием адмирала Рожественского, был разбит под Цусимой; революционное движение прокатилось по всей России, и самодержавной власти царя угрожали широкие народные массы, которые требовали участия нации в управлении страной. Все это в глазах императора Николая являлось последствием войны с Японией, с этой державой, которая никогда не осмелилась бы провоцировать на войну Россию и тем более никогда бы не имела ни малейшего шанса оказаться победоносной на бранном поле, как только с помощью Англии, этого извечного врага, который становился на путях России повсюду, в Европе и в Азии. Разве удивительно, что в таких условиях было нетрудно кайзеру убедить русского императора принять его план континентальной коалиции против Англии и сделать из него посредника для привлечения в эту коалицию и Франции? Однако мы видели, что после нескольких месяцев переписки германскому императору не удалось преодолеть чувство лояльности, которое помешало царю подписать договор, предварительно не заручившись поддержкой Франции. Время и место были удачно выбраны кайзером, чтобы преодолеть сомнения своего кузена, который оказался одиноким в Бьерке, беспомощным, можно сказать, перед атакой гостя, получившего после своего трехдневного пребывания полное преобладание над волей своего хозяина.
Мне рассказывал сам царь, что договор был подписан за несколько минут до отъезда императора Вильгельма, после завтрака, который состоялся на борту «Гогенцоллерна». Некоторые писатели оказались способными инсинуировать, что количество и качество вин послужило до некоторой степени причиной согласия императора Николая, – вульгарное утверждение, которое легко могло бы быть устранено, если бы кто-нибудь из них имел случай, как это бывало со мной, часто присутствовать на подобных завтраках. Кроме того, подобная гипотеза излишня для объяснения успеха кайзера, поскольку он слишком хорошо понимал, как управлять царем, не прибегая к столь жестоким мерам. При каждом общении кайзер, непревзойденный актер, каким он был, прилагал все усилия, чтобы предстать в новой роли; каждая роль, которую он играл, была тщательно изучена заранее и адаптирована к конкретным обстоятельствам места и момента; он не давал своей жертве времени на размышления и шанса избежать его цветистого красноречия и властной манеры аргументации.
Когда оба императора, оставшись наедине, поставили свои подписи в конце текста, который предварительно был подготовлен кайзером, последний настаивал, чтобы договор был контрассигнован. Он пригласил с собой в путешествие чиновника высокого ранга из министерства иностранных дел фон Чиршки, который впоследствии сделался статс-секретарем этого министерства и подпись которого должна была заверить подпись его шефа. Ввиду того что в царской свите не было никого, равного по рангу и по осведомленности этому чиновнику, германский император настоял призвать адмирала Бирилева, русского морского министра, который присутствовал на борту «Полярной звезды» в качестве гостя. Старый моряк, совершенно не осведомленный в вопросах внешней политики, был призван в последний момент и без колебаний приложил свою руку к документу, о содержании которого он не мог даже догадываться; действительно, одно из лиц царской свиты рассказывало мне, что в то время, когда адмирал Бирилев подписывал свое имя в конце страницы, верхнюю ее часть царь закрывал своей рукой. Когда впоследствии адмирал Бирилев был спрошен об этом графом Ламсдорфом, он заявил, что, если бы он оказался снова в том же самом положении, сделал бы то же самое, считая своим долгом, как морской офицер, беспрекословно повиноваться своему государю.
Теперь, когда восстановлены все обстоятельства, сопутствовавшие заключению договоров в Бьерке, всякий, кто с должным вниманием отнесется к его тексту, не может не понимать, что император Николай II никогда не помышлял заключить союз, враждебный Франции, и, следовательно, не может быть вопроса и об измене с его стороны. Совершенно верно, что первая статья договора предусматривает, что «если какое-нибудь европейское государство нападет на одну из империй, другая договаривающаяся сторона обязуется помочь своему союзнику всеми имеющимися в ее распоряжении силами на суше и море»; неопределенности редакции этой статьи, если взять ее вне контекста, может быть и могли быть истолкованы в том смысле, что, в случае агрессивности Франции по отношению к Германии, Россия должна бы была оказаться на стороне последней, но такое толкование становится абсолютно невозможным, если принять во внимание 4-ю статью того же договора, по которой Россия должна была принять необходимые шаги для ознакомления Франции о содержании договора по возможности скорее и предложить Франции присоединиться к нему в качестве союзника.
Бесполезно указывать на абсурдность приглашения Франции присоединиться к союзу, направленному против нее самой. Очевидность показывает, что договор в Бьерке ни в какой степени не был изменой Франции. Столь же ясно, что он был направлен против Англии, и только против нее. В то время, когда подписывался договор, Англия была наиболее враждебно настроена против России; вооруженный конфликт между этими двумя странами был только что предотвращен благодаря дружественному вмешательству со стороны Франции, но враждебное влияние Англии продолжало чувствоваться повсюду по отношению к России. Не было ли естественным и даже законным со стороны царя заручиться гарантией против Англии посредством создания «континентальной коалиции»? Но поскольку император Николай может быть совершенно свободен от обвинений в намерении изменить Франции, постольку он был не прав, когда, после долгих колебаний, уступил убеждениям германского императора и согласился подписать договор без предварительного осведомления своего союзника. Как только кайзер уехал и царь имел возможность спокойно оценить то, что сделал, он понял свою ошибку, и, когда вернулся в Петербург, он был очень обеспокоен и озабочен, как рассказывал мне граф Ламсдорф, во время аудиенции, которая была дана министру иностранных дел. Он медлил пятнадцать дней, прежде чем решился заговорить о договоре. Граф Ламсдорф был совершенно подавлен, когда узнал об этом, и со всей убедительностью, на которую он только был способен, стремился указать императору всю опасность положения и полную необходимость принять немедленные меры для уничтожения договора. Царь увидел, что совершил ошибку, и дал графу Ламсдорфу карт-бланш предпринять необходимые шаги, чтобы локализовать последствия договора, – дело, которое граф Ламсдорф выполнил со свойственной ему опытностью в этом и с энергией, заслуживающей величайшей похвалы.
В это время на сцене появляется граф Витте, который только что заключил мирный договор с Японией в Портсмуте.
Граф Ламсдорф, ввиду политической и личной близости с ним, призвал его на помощь, чтобы выпутаться из того положения, которое создалось благодаря слабости императора. По дороге домой из Америки граф Витте остановился в Париже, где его визит совпал с наиболее острой фазой переговоров между Францией и Германией по мароккскому вопросу. Он имел случай видеть французских министров, которые не скрыли от него опасений относительно возможного разрыва отношений с Германией. Зная, что граф Витте был приглашен императором Вильгельмом посетить его во время охотничьей прогулки в Роминтене, французское правительство попросило Витте сделать все возможное, чтобы устранить затруднения и прийти к соглашению. Граф Витте очень активно пришел на помощь министрам республики, так как ему было поручено подготовить пути для подготовки весьма важного займа, предназначенного для восстановления финансов России после войны, и потому что он знал, что успех этого займа зависит от урегулирования мароккского вопроса. В Роминтене кайзер выказал громадную предупредительность и внимание по отношению к графу Витте, которого он уже рассматривал как главу русского правительства, заходя в этом отношении так далеко, что обращался с ним почтительно, как с коронованной особой. Нет никакого сомнения в том, что разговор между этим русским государственным деятелем и германским императором имел благоприятное влияние на ход переговоров, которые велись в то же самое время между французским правительством и германским посланником в Париже. Обсуждался ли в это время договор в Бьерке и сообщил ли кайзер его содержание? Я склонен думать это, потому-то кайзер телеграфировал царю 11 сентября, запрашивая, знает ли граф Витте, о пребывании которого в Роминтене он был извещен, о договоре и, если нет, может ли он ему сообщить о нем? Император Николай ответил, что только великий князь Николай, военный министр, начальник Генерального штаба и граф Ламсдорф знают о договоре, но что царь ничего не имеет против осведомления о нем и графа Витте. Однако, судя по тем сведениям, которые сам граф Витте дает о своем посещении Роминтена и которые были сообщены им доктору Диллону и опубликованы последним в его книге, кайзер говорил только в общих чертах о своем плане коалиции континентальных держав, указывая, что ее целью является поддержание длительного мира в Европе, и уклоняясь от прямого указания на то, что договор уже подписан им и царем. Граф Витте говорил позже доктору Диллону, что осторожность кайзера была вызвана, по-видимому, боязнью, что преждевременное обнаружение договора может вызвать затруднения, подобные тем, которые встретились несколькими годами раньше, во время заключения соглашения относительно Киао-Чао и Порт-Артура.
Несмотря на то что свидетельство доктора Диллона изобилует ошибками, я считаю его точным в той части, которая касается этого периода, и, конечно, это было до того, как граф Витте возвратился в Петербург, где он был осведомлен графом Ламсдорфом о происшествии в Бьерке.
Действительное положение вещей обязывает меня сказать здесь, что граф Витте, будучи приглашен графом Ламсдорфом помочь ему в усилиях по уничтожению несчастного договора, оказал величайшую услугу и проявил недюжинную энергию. Тем более должно быть отмечено, что граф Витте в течение долгого времени придерживался мысли о заключении союза между Россией, Германией и Францией. Ему казалось, что такого рода союз, не направленный специально против Англии, может быть в конце концов образован без участия в нем этой державы. Он надеялся, что этот союз может быть противопоставлен домогательствам Соединенных Штатов Америки во имя осуществления интересов Европы. Доктор Диллон сообщает в своей книге очень любопытный разговор, происходивший по этому поводу между графом Витте и германским императором, во время его прежнего, первого посещения Петербурга после вступления на трон в 1888 году. В этом случае молодой император выразил свое полное согласие с планом Витте вообще, но энергично протестовал против исключения из этой комбинации Англии, указывая, что Америка является таким врагом, против которого вся Европа должна вести беспощадную войну.
В статье, посвященной договору в Бьерке, появившейся в Revue de Paris в 1918 году, Бомпар, посол Франции в Петербурге в ту эпоху, когда договор был подписан, и весьма проницательный наблюдатель людей и событий в России, после общей характеристики графа Витте, высказывает свое мнение об этом государственном деятеле и о его иностранной политике в следующих выражениях: «Витте был озабочен мыслью о предотвращении европейской войны какой угодно ценой. В настоящее время совершенно очевидно, что европейская война могла быть вызвана только Германией.
Я убежден, что Витте не возлагал надежд на военное могущество России как на средство помешать этому; ввиду этого он считал наиболее действенным средством заключение союза с Германией. Но такого рода союз сам по себе сделал бы Россию простым спутником Германии, и поэтому он настаивал на мысли о привлечении Франции в качестве третьего союзника.
В представлении Витте Германия могла дать военную силу, а Франция деньги; объединившись с этими двумя нациями, Россия могла бы без риска подпасть под гегемонию одной из них, использовать силу одной и деньги другой.
Он был захвачен этой мыслью и пропагандировал ее при всяком удобном случае. Было бы неправильно, однако, думать, что он имел в виду подчинить Францию Германии вместо России. Его оппозиция договору в Бьерке, которая имела столь решающее значение, совершенно убеждает в том, что он не мог иметь подобной мысли. Но франко-германский союз, с участием или без участия России, являлся совершенной утопией, и германское правительство никогда не относилось к этому серьезно, если не считать мнимого признания его в Бьерке».
Эти строки кажутся мне наиболее точным изображением точки зрения графа Витте по этому вопросу. Не было бы ничего странного, особенно после столь лестного приема германским императором, если бы он принял на себя защиту договора в Бьерке, но он был слишком дальновиден, чтобы не понять ошибки царя; как только увидел текст договора, Витте без всяких колебаний присоединился к графу Ламсдорфу в его усилиях выйти из затруднительного положения.
Переговоры, которые последовали между Петербургом и Берлином и которые принесли свои плоды только после прохождения различных фаз, были, как это и следовало ожидать, весьма деликатными и трудными. Два свидетельства были опубликованы по этому поводу – заявление доктора Диллона в его книге «Россия в упадке» и Бомпара в его статье, помещенной в Revue de Paris[5].
Оба показания, хотя и не вполне точные в деталях небольшой важности, согласуются с теми фактами, которые я узнал от графа Ламсдорфа и которые можно было узнать из ознакомления с документами, найденными в Министерстве иностранных дел и в частных архивах императора Николая во дворце Царского Села.
Я расскажу теперь коротко, как все это происходило. Граф Ламсдорф повел тройную атаку в неофициальной форме, посредством частного письма царя к императору Вильгельму, письма графа Витте к императору Вильгельму и частного представления со стороны русского посла в Берлине канцлеру. Предметом представлений являлось стремление обратить внимание на недействительность договора в Бьерке, ввиду того что он не был контрассигнован русским министром иностранных дел, и на противоречия в тексте, которые необходимо внимательно рассмотреть и исправить. Ни одно из этих представлений не имело успеха (ответ графу Витте был передан через канцлера).
Между тем Россия и Япония были накануне ратификации Портсмутского договора, и следует вспомнить, что это время как раз было определено для вступления в силу договора в Бьерке.
Граф Ламсдорф ввиду этого решил поторопиться с переговорами и написал Нелидову, русскому послу в Париже, запрашивая его, возможно ли позондировать французское правительство по поводу возможного присоединения Франции к договору в Бьерке. Нелидов поспешил ответить, даже не посоветовавшись с французским правительством, что Франция, которая так и не примирилась с положением вещей, созданным Франкфуртским договором, и которая только что заключила «сердечное согласие» с Англией, никогда не согласится присоединиться к подобному союзу.
Вслед за этим царь направил германскому императору новое письмо с целью разъяснения невозможности выполнения положений Бьеркского договора при существующих обстоятельствах, и в то же время граф Ламсдорф направил графу Остен-Сакену инструкции официально заявить, что присоединение Франции в настоящее время невозможно, а обязательства по Бьеркскому договору несовместимы с обязательствами по союзному договору между Францией и Россией, было необходимо, чтобы Бьеркский договор не вступал в силу до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по этому вопросу между Россией, Германией и Францией.
Графу Остен-Сакену было указано прибавить, что значительное количество времени и терпения потребуется, чтобы склонить Францию присоединиться к России и Германии, но что русское правительство приложит все усилия, чтобы достигнуть благоприятного результата. Ни один из ответов, полученных графом Ламсдорфом или графом Витте из Берлина, не содержал – я отчетливо это помню – никакого указания на аннулирование договора в Бьерке, и русскому министру иностранных дел не оставалось ничего иного, как ожидать удобного случая, чтобы показать, что Россия не считает себя чем-либо связанной с Германией и остается верной своему союзу с Францией.
Этот случай представился во время Альхесирасской конференции.
Царь не возвращался больше к этому вопросу в своей частной корреспонденции с императором Вильгельмом, хотя переписка некоторое время продолжалась, она не была выдержана в прежнем доверительном тоне и с течением времени становилась все реже и реже. Германский император со своей стороны не оставлял своего первоначального проекта и пытался всякими способами убедить своего кузена признать действенность соглашения, которое они подписали в Бьерке, не довольствуясь повторением своих прежних доводов и клеветы на Францию и Англию, но старался повлиять на царя драматическими фразами и языком, окрашенным мистицизмом. Любопытный пример этих усилий имеется в телеграмме, которую он отправил императору Николаю 12 октября 1905 года, то есть в то самое время, когда граф Остен-Сакен выполнял данное ему поручение в Берлине:
Gluecksburg Ostsee, October 12 tn. 1905.
«Характер договора не противоречит – как мы установили это в Бьерке – франко-русскому союзу, принимая во внимание, конечно, что этот последний не направлен против моей страны. С другой стороны, обязательства России по отношению к Франции могут оставаться в силе только в том случае, если Франция заслуживает этого своим поведением. Твой союзник совершенно бросил тебя в беде на протяжении всей войны, в то время как Германия помогала тебе чем могла, не нарушая нейтралитета. Это создает со стороны России моральные обязательства по отношению к нам; do ut des. В то же время нескромность Делькассе показала всему миру, что хотя Франция и является твоим союзником, она тем не менее заключила соглашение с Англией и была готова напасть на Германию с помощью Англии, несмотря на царящий между нами мир и на то, что я помогаю тебе и твоей стране, ее союзнику. Этого эксперимента она не должна повторять, и против повторения этого я прошу гарантировать меня. Я совершенно согласен с тобой, что будет потрачено много времени, труда и терпения, чтобы склонить Францию присоединиться к нам обоим, но рассудительный французский народ заставит наконец себя услышать. Наши марокканские дела улажены к полному удовлетворению, и таким образом создается благоприятная атмосфера для достижения взаимного понимания между нами. Наш договор является великолепной базой для этого. Мы соединили руки и подписали его пред лицом Бога, который слышал наши обеты. Я продолжаю думать, что договор может войти в действие.
Но если ты хочешь внести какие-либо изменения в слова, выражения или определение будущего или различные вариации, на случай полного отказа Франции, что я считаю невероятным, я буду с радостью ожидать всяких предложений, которые тебе угодно будет представить мне. Мне кажется, однако, что договор мог бы быть принят таким, как он есть. Вся твоя влиятельная пресса: „Новости“, „Новое время“, „Русь“ и т. д. – за последние две недели ожесточенно выступает против Германии и за Англию. Несомненно, что некоторые из этих газет получили крупную сумму от англичан. Это очень оскорбительно для моего народа и создает большие затруднения в осуществлении тех новых отношений, которые сложились теперь между нашими странами. Все это указывает на то, что время тревожное и что мы должны ясно определить путь, куда следует идти. Подписанный нами договор является одним из средств определить этот путь, не вступая в соглашение с твоей союзницей, как таковой. Что подписано, то подписано, и Бог тому свидетель. Я буду ждать твоих предложений. Лучшие пожелания Алисе.
Вилли»[6].
Из вышеизложенного совершенно ясно, что император Вильгельм, несмотря на положительный отказ русского правительства ратифицировать договор, питал иллюзию и даже, в конце концов, надежду использовать свое влияние на царя, и только после опубликования инструкции графа Ламсдорфа русским уполномоченным в Альхесирасе он был вынужден прекратить эти попытки.
В течение двух лет, которые следовали за только что описанными мною событиями, императоры не встречались больше, и, когда в 1907 году состоялась их встреча в Свинемюнде, во время которой я присутствовал в качестве министра иностранных дел, царь настолько боялся возобновления настояний кайзера, что просил меня предупредить германского канцлера, что договор в Бьерке должен рассматриваться как совершенно уничтоженный и что он не мог бы выслушивать никаких аргументов со стороны германского императора в пользу его возобновления.
Я уже отдал на этих страницах должное дальновидности, проявленной графом Витте в вопросе о договоре в Бьерке. Хотя он долгое время мечтал об осуществлении союза между Россией, Францией и Германией, имел достаточно здравого смысла, чтобы понять с самого начала, что метод, принятый императором Вильгельмом, может повести только к разрыву уз, которые соединяли Россию и Францию. Несмотря на это, он оставался горячим сторонником этого союза и, крепко веря в свои дипломатические способности после достигнутого им успеха в Портсмуте, рассчитывал склонить Францию в свое время принять его проект. С этой целью он очень желал получить пост русского посла в Париже. Во Франции, как и в Германии, он пользовался значительным авторитетом в финансовом мире и рассчитывал осуществить свой проект с помощью известных групп, принадлежащих к высшим финансовым кругам. Он пытался всеми мерами, какие были в его распоряжении, заменить Нелидова в Париже, и всегда встречал решительный отказ со стороны императора Николая.
Со своей стороны, я был убежден, что назначение графа Витте в Париж было неприемлемо и даже опасно с точки зрения наших отношений с Францией и Англией, и, признаюсь, я упорно сопротивлялся этому в то время, когда был министром иностранных дел. Я думаю, что граф Витте был серьезно рассержен этим моим сопротивлением. Во время своих частных посещений Парижа он делал все, чтобы продвинуть свой утопический проект, но он не мог приобрести значительного количества сторонников.
Через несколько дней после свидания императоров в Бьерке, когда был посланником в Копенгагене, я узнал, что кайзер известил короля Кристиана IX, что остановится в Копенгагене на обратном пути в Киль на борту «Гогенцоллерна». Я уже упоминал о внезапных визитах, которые император Вильгельм имел обыкновение наносить в датскую столицу; каждый раз его приезд вызывал громадное возбуждение не только при дворе, но и по всей стране, ввиду раздражения датского народа против Пруссии и Гогенцоллернов, вызванного событиями 1864 года. Королевская фамилия в полной мере разделяла это негодование, и присутствие кайзера в Копенгагене всегда являлось источником большого возбуждения со стороны короля Кристиана IX и его свиты. Неприязнь вдовствующей русской императрицы, второй дочери короля, к Германии и ко всему немецкому была настолько велика, что когда она отправлялась к своему отцу, то всегда пользовалась собственной яхтой, чтобы не пересекать германской территории. Когда плохая погода или время года вынуждали ее возвращаться на материк через Германию, она отказывалась пересекать пролив, отделяющий датские острова от германского берега, на пароходе, идущем под немецким флагом, и вместо этого садилась на датский пароход в Варнемюнде, откуда специальным поездом русских железных дорог отправлялась на русскую границу с возможно короткими остановками. Третья дочь короля Кристиана, принцесса Тира, вышедшая замуж за герцога Камберлендского, тоже была настроена против немцев. В тот период, который я теперь описываю, ее муж, сын последнего ганноверского короля, который был лишен трона Пруссией, разделял ее чувства. Случилось однажды так, что неожиданный визит кайзера застал герцогиню и герцога Камберлендского в Копенгагене. Раньше, чем можно было бы ожидать встретиться с германским императором, герцогская чета поспешила оставить датскую столицу в самый день его приезда. Этот инцидент дал случай принцессе Марии Орлеанской, жене принца Вольдемара, третьего сына короля Кристиана, сделать одно из тех остроумных замечаний, которыми она была известна при датском дворе. Во время обеда, данного в этот день в королевском дворце в честь германского императора, она заявила достаточна громко, чтобы это достигло уха коронованного гостя: «О, какой прекрасный соус и как он хорошо бежит; он может быть назван соусом Камберлендским».
Что касается императора Вильгельма, то у него, по-видимому, никогда не было никаких опасений относительно впечатления, которое он производил на своих хозяев; напротив, он, казалось, был уверен, что одно его присутствие и неотразимый эффект его личности покорили все сердца. Готовя роль, соответствующую случаю, он, по своему обыкновению, изобразил преувеличенное почтение к личности старого короля, которого, как он знал, обожал его народ, воображая, что это расположит к нему датскую публику. Например, в конце одного из своих визитов, прощаясь с королем на вокзале, он удивил прохожих, поцеловав руку Кристиана IX. Однако все его усилия завоевать популярность не увенчались успехом, и каждый раз, когда он приезжал в Копенгаген, датские власти были вынуждены принимать меры для предотвращения враждебных демонстраций со стороны населения.
Летом 1905 года общественное мнение Дании было особенно враждебно по отношению к кайзеру по двум причинам: в течение этого лета германские власти усилили карательные меры по отношению к датскому населению Шлезвига и выслали нескольких молодых людей датского происхождения; кроме того, ходили упорные слухи о попытке императора склонить Швецию и Россию присоединиться к нему в вопросе о запрете въезда в Балтику людям призывного возраста всех государств, не соприкасающихся с этим морем. Кампания по проведению этого плана, начатая полуофициальной немецкой прессой, вызвала неудовольствие в Дании так же, как и в Англии, и даже побудила британское правительство отдать приказ одной из ее эскадр пройти в Балтийское море и посетить различные шведские, датские и германские порты. Это посещение, конечно, очень не понравилось кайзеру и вызвало со стороны германской прессы далеко не лестные комментарии. Визит императора Вильгельма в Копенгаген, или, вернее, в замок Бернсторф, где королевская фамилия имела резиденцию, официально носил частный характер и, следовательно, не вызывал необходимости для иностранного дипломатического корпуса представляться ему. Ввиду этого я был очень удивлен, когда германский министр фон Шен (впоследствии посол в Петербурге, статс-секретарь по иностранным делам и, наконец, посол в Париже во время объявления войны 1914 года) известил меня, что император желает меня видеть. Он прибавил, что подобное приглашение не было послано ни одному из членов дипломатического корпуса и что меня просят не говорить об этом никому из моих коллег. Несмотря на свои усилия понять причину столь исключительного внимания ко мне, я не мог, конечно, воображать, что кайзер рассматривает меня как представителя своего нового и ценного союзника, которого, как он льстил себя надеждой, приобрел в Бьерке. Я пришел тогда к заключению, что царь говорил с ним о моем возможном назначении в Берлин и что он полюбопытствовал узнать меня поближе. Я никогда не встречался с императором Вильгельмом, и перспектива разговора с ним, признаюсь, глубоко меня взволновала.
