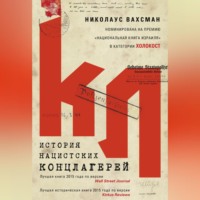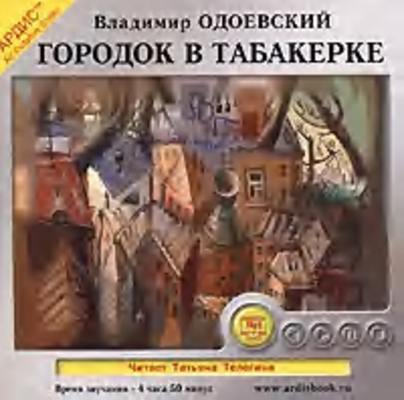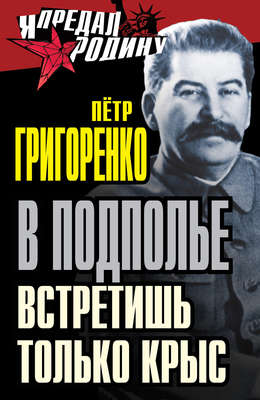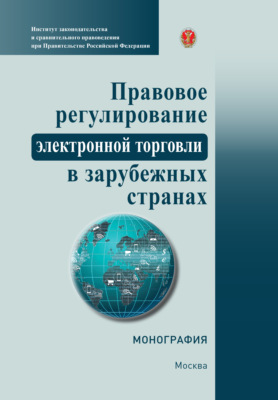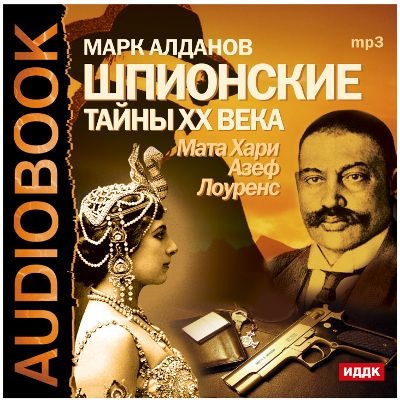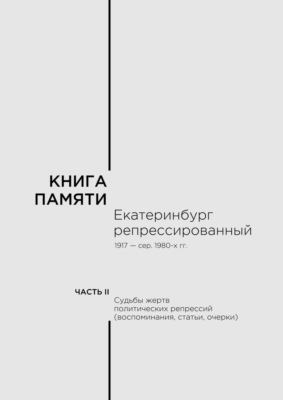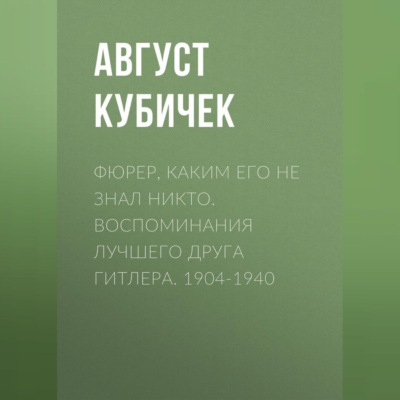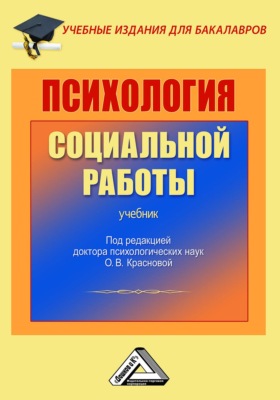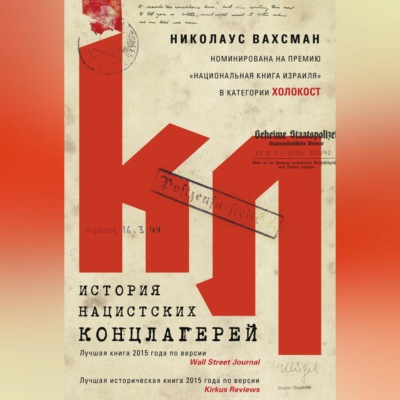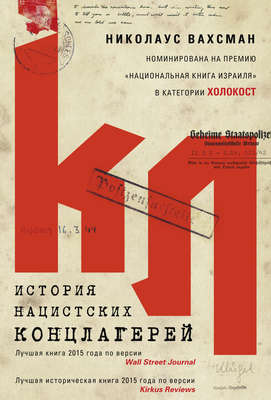Cytaty z audiobooka «История нацистских концлагерей», strona 10

Любой пишущий о концентрационных лагерях сталкивается с парадоксом: хотя объем доступной документации нередко подавляет, ее все равно недостаточно. С момента крушения Третий рейх был исследован куда более дотошно, чем любая другая современная диктатура. И очень немногие его аспекты, если таковые вообще имеются, послужили причиной стольких публикаций, как концентрационные лагеря. Есть десятки тысяч свидетельств и исследований и еще больше оригиналов документов, рассеянных по всему миру. Никто не в состоянии осилить эти материалы[81]. В то же время есть очевидные лакуны и в архивных записях, и в академической литературе. Несмотря на пугающие объемы, исследователи-историки в последние годы проявляют определенную разборчивость, что нередко служит причиной того, что некоторые весьма важные аспекты упускались[82]. Что касается первоисточников, СС позаботились об уничтожении в конце Второй мировой войны основного массива документов, а Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты погибли, унеся тайны в могилу[83].

К концу 1940-х, однако, когда речь зашла о публикации книги Когона в Америке, его издатель Роджер Строс, страстный поклонник книги, был неприятно удивлен «апатией со стороны общественности к чтению произведений данной тематики»[40]. Первоначальный интерес читателей к теме концлагерей – вспыхнувший после освобождения Европы от нацистов и какое-то время не угасавший – к концу десятилетия явно шел на убыль, причем по обоим берегам Атлантики. Отчасти это объяснялось перенасыщением книжного рынка книгами на подобные темы, причем по разным критериям явно уступавшими самым первым мемуарам. Если же судить более широко, память о лагерях постепенно отступала на задний план в ходе послевоенного восстановления и смены дипломатических приоритетов.

Вероятно, самый близкий зарубежный сородич концентрационных лагерей СС находился в Советском Союзе при Сталине[21]. Используя накопленный за годы Первой мировой войны опыт, большевики использовали лагеря (иногда называемые «концентрационными лагерями») начиная с революции [1917 года]. К 1930-м годам они образовали гигантскую систему принудительной изоляции под названием ГУЛАГ, включавший трудовые лагеря, колонии, тюрьмы и так далее. В исправительно-трудовых лагерях одного только Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) на начало января 1941 года насчитывалось приблизительно 1,5 миллиона заключенных, во много раз больше, чем даже в эсэсовских концлагерях. Как и нацистские, так и советские концлагеря создавались на основе бредовых утопий создания идеального общества посредством устранения его врагов. Все лагеря эволюционировали по одной и той же схеме: от единичных мест содержания под стражей к необозримой сети централизованно управляемых лагерей, от арестов политически неблагонадежных до изъятия из общества других социальных и этнических аутсайдеров, от перевоспитания на раннем этапе существования лагерей до заведомо обрекавшего узников на гибель принудительного труда в дальнейшем[22].

Дахау был первым из многих концентрационных лагерей СС. Созданные в Германии в первые годы правления Гитлера, лагеря эти по мере захвата нацистами Европы с конца 1930-х распространятся и на Австрию, Польшу, Францию, Чехословакию, Нидерланды, Бельгию, Литву, Эстонию, Латвию[8] и даже на британский островок Олдерни в водах пролива Ла-Манш. Всего СС за период существования Третьего рейха создали 27 крупных лагерей и свыше 1100 лагерей помельче, хотя число это колебалось: постоянно исчезали старые лагеря и появлялись новые; один только Дахау просуществовал все 12 лет правления нацистов[9].

«Они объявили нам войну, – впоследствии писал один заключенный Бухенвальда, – но лишили нас права обороняться»

Первоначально земли Германии сами управляли своими войсками. Но вскоре силы были скоординированы, и тем, кто их поставил под единое командование, был Гиммлер. С конца 1933 года он расширил полномочия, ограничивавшиеся одной только Баварией, и за несколько месяцев целеустремленный рейхсфюрер СС подчинил себе силы политической полиции фактически всех германских земель. Последней из оказавшихся в тисках Гиммлера была самая крупная земля – Пруссия, где шла ожесточенная борьба за первенство управления террористическим аппаратом. В конце концов глава Пруссии Герман Геринг 20 апреля 1934 года согласился назначить Гиммлера инспектором тайной государственной полиции Пруссии. Руководитель эсэсовской службы безопасности (СД) Рейнхард Гейдрих был назначен Гиммлером новым главой прусского гестапо с 600 служащими в Берлинском главном управлении и еще 2 тысячами по всему рейху. На бумаге Геринг оставался главой прусского гестапо и на первых порах продолжал играть значительную роль. Но впоследствии его непрерывно уменьшавшееся влияние не шло ни в какое сравнение с таковым его куда более проницательных подчиненных[448].

Центрами коррупции были Освенцим и Майданек, два концентрационных лагеря, наиболее сильно вовлеченные в холокост. У эсэсовцев, обслуживавших крематории, раздевалки и станционные платформы, были самые широкие возможности доступа к деньгам и ценностям. Георг В., часовой, несший службу возле комплекса газовых камер Майданека, позже признал, что обычно обходил «места, где можно было найти ценные вещи», и забирал их. Были такие эсэсовцы, кто разбогател буквально за одну ночь. Однажды офицер Освенцима по имени Франц Хофбауэр прикарманил 10 тысяч рейхсмарок. Даже машинисты, водившие транспортные составы с депортируемыми, разыгрывали неисправность локомотива, чтобы слезть и броситься на поиски оброненных заключенными по пути к гибели ювелирных изделий[2110]. Живя в перевернутом с ног на голову мире, некоторые преступники считали нацистское «окончательное решение» звездным часом.
Эсэсовские охранники грабили в лагерях Восточной Европы не только вновь прибывших и обреченных на гибель, но и обычных зарегистрированных заключенных. Товары, предназначенные для распределения в концентрационных лагерях, регулярно сбывались на сторону. В Плашуве большинство полагавшихся заключенным продуктов питания реализовалось эсэсовцами на местном черном рынке, причем с благословения коменданта Гёта, предпочитавшего скармливать собакам предназначавшееся для заключенных мясо. Эсэсовцы присваивали также одежду заключенных. В Варшаве, например, эсэсовские охранники лагерей продавали нижнее белье местным полякам[2111]. Но, несмотря на явную выгоду подобных сделок с местным населением, большинство обменов все же осуществлялось с заключенными и в границах концентрационных лагерей.
В каждом концлагере существовала своя собственная подпольная экономика – у заключенных было что предложить на обмен. Черный рынок, будучи жизненно важным во всех без исключения лагерях, приобретал особую важность на оккупированных территориях Восточной Европы. В связи с исключительно тяжелыми условиями содержания узников на первый план выдвигалось физическое выживание, невозможное без дополнительных ресурсов, доступ к которым открывался через бартер. Ради выживания им приходилось идти на всяческие ухищрения, и все, что оставалось после гибели жертв холокоста, предоставляло им такую возможность. В Освенциме заключенные в рабочей команде «Канада» были предметом зависти остальных, ибо имели свободный доступ к еде и одежде – не только для собственного использования, но и для бартера на черном рынке. Узники из зондеркоманды Бжезинки (Биркенау) также пользовались их особым статусом. «Дантист» Леон Коэн, например, обменивал золотые зубы у эсэсовцев на шнапс, курятину и другую еду[2112]. Бартер постоянно занимал мысли узников, включая и тех, кто ничего не имел для выгодного обмена. Проходя по лагерю, они постоянно смотрели под ноги в надежде найти что-то, пусть даже мелочь, которую потом можно будет обменять[2113].

Но, оглядываясь назад, на Бухенвальд, он извлек для себя два важнейших урока: «Первое – любыми способами попытайся вытащить из лагерей или вообще из Германии тех, кто еще там остается, а во-вторых, не уставай повторять себе: если у тебя что-то не заладится: в концлагере было хуже!».

Преследование лиц, чье поведение не вписывалось в рамки общепринятого, являлось неотъемлемым элементом нацистской политики устранения из жизни рейха всех тех, кто по различным критериям не желал или не мог вписаться в мифическое «народное сообщество».

В начале мая 1945 года даже самые узколобые нацистские фанатики понимали, что игра проиграна. Третий рейх лежал в руинах, и многие карьерные эсэсовцы, вроде Рудольфа Хёсса, чувствовали, что «с уходом фюрера рухнет и наш мир». Последней надеждой был Генрих Гиммлер. Когда 3–4 мая 1945 года Хёсс и другие высокопоставленные эсэсовцы готовились ко встрече с рейхсфюрером СС в Фленсбурге, они, скорее всего, надеялись услышать последний боевой клич. Предложит ли Гиммлер им новое фантастическое видение лучезарного будущего? Или прикажет погибнуть, сгорев в огне славы? Но никакой последней линии обороны не было. Гиммлер, уже освобожденный к этому времени Дёницем от всех должностей, с улыбкой объявил, что для руководства концентрационных лагерей у него больше нет указаний. Прежде чем отпустить подчиненных, он, обменявшись с ними рукопожатиями, отдал последний приказ: всем эсэсовцам обзавестись новыми документами и спрятаться, что намеревался сделать и он сам[3286].
После разгрома Германии вожди СС последовали приказу Гиммлера. Несколько офицеров из отдела D переоделись в военно-морскую форму и раздобыли фальшивые документы. Герхард Маурер стал Паулем Керром. Рудольф Хёсс превратился во Франца Ланга. Переодевшись, Хёсс и Маурер вместе с несколькими другими деятелями ВФХА нашли работу на фермах на севере Германии и поначалу избежали плена. Их бывший начальник Рихард Глюкс, избравший себе веселый псевдоним Зонненманн («Солнечный человек»), за крестьянина сойти не надеялся. Глюкс превратился в тень того корпулентного малого, которым был шесть лет назад, когда возглавил систему концлагерей СС. Постепенная утрата им власти, наглядно проявившаяся во все более редких встречах с Освальдом Полем, сопровождалась заметной физической деградацией. Много пивший и злоупотреблявший успокоительными средствами, он, по слухам, потерял рассудок и доживал в военном госпитале в Фленсбурге, будучи скорее мертв, чем жив. 10 мая 1945 года, сразу после капитуляции Германии, Рихард Глюкс покончил с собой, раскусив ампулу с цианистым калием[3287].
Смерть Глюкса стала лишь каплей в целой волне самоубийств, прокатившейся по Германии весной 1945 года. Нацистская пропаганда всячески превозносила самоубийства как высшее самопожертвование. На деле свести счеты с жизнью бывших нацистских бонз заставили главным образом страх и отчаяние[3288]. Тон задал Генрих Гиммлер, покончивший с собой 23 мая 1945 года в британском плену, через два дня после ареста. Его примеру последовали Энно Лолинг и последний комендант Дахау Эдуард Вейтер[3289]. Большинство самоубийц были несгибаемыми ветеранами СС. Правда, некоторые из них испытывали по отношению к концлагерной системе противоречивые чувства. Таков был Ганс Дельмотт, молодой врач, у которого во время его первой селекции в Освенциме случился нервный срыв[3290]. Несколько чинов лагерных СС, подобно Гиммлеру и Глюксу, покончили с собой, воспользовались цианистым калием, специально для этого испытанным несколько месяцев назад в Заксенхаузене в ходе смертельных экспериментов над заключенными. Другие, наподобие коменданта Гросс-Розена Артура Рёдля, ушли из жизни драматичнее: человек с давней склонностью к рукоприкладству, Рёдль избрал более кровавую смерть, подорвав себя гранатой[3291].