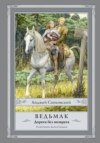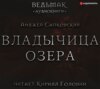Czytaj książkę: «Башня Ласточки»
Andrzej Sapkowski
WIEŻA JASKÓŁKI
© Andrzej Sapkowski
© Перевод. Е. Вайсброт, наследники
© Издание на русском языке AST Publishers, 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Глава первая
Ночью как траур черной
К Дун Дару они подкрались,
Где юна ведьмачка скрывалась.
Ночью как траур черной
Село они окружили,
Чтоб ведьмачка сбежать не сумела.
Ночью как траур черной
Врасплох млоду ведьмачку
Хотели взять – прогадали.
Не взошло еще солнце ясно,
А уж на дороге мерзлой
Тридцать убитых лежало…1
Песня нищих о жуткой резне, случившейся в Дун Даре в ночь Саовинны
– Могу дать тебе все, что пожелаешь, – сказала волшебница. – Богатство, власть, скипетр и славу, жизнь долгую и счастливую. Выбирай.
– Не нужны мне ни богатство, ни слава, ни власть и ни скипетр, – ответствовала ведьмачка. – А хочу я, чтоб был у меня конь черный, как ночной вихрь быстрый. Хочу, чтоб был у меня меч блескучий и острый как луч луны. Хочу ночью черной носиться на коне моем черном по земле, хочу разить силы Зла и Тьмы моим блескучим мечом. Вот чего я желаю.
– Дам тебе коня, коий будет чернее ночи и быстрее вихря ночного, – обещала волшебница. – Дам тебе меч, что острее и ярче лунного луча будет. Но ты требуешь многого, ведьмачка, значит, и заплатить придется немало.
– Чем? Ведь у меня же ничего нет.
– Кровью твоею.
Флоуренс ДеланнойСказки и Предания
Каждому ведомо: Вселенная, как и жизнь, движется по кругу. По кругу, на ободе которого помечены восемь волшебных точек, дающих полный оборот, или годичный цикл. Этими точками, попарно лежащими на ободе круга друг насупротив друга, являются Имбаэлк, или Почкование; Ламмас, или Созревание; Беллетэйн, или Цветение, и Саовинна, или Замирание. Обозначены на том ободе также два Солтыция, или Солнцестояния: зимнее, именуемое Мидинваэрн, и Мидаёт – летнее. Есть также два Эквинокция, или Равноночия, также Равноденствием именуемые: Бирке – весеннее и Велен – осеннее. Даты эти делят обруч на восемь частей – именно так в календаре эльфов делится год.
Высадившиеся на пляжах в устьях Яруги и Понтара люди привезли с собой собственный календарь, в основе которого лежит движение Луны. Календарь этот делит год на двенадцать лун, или месяцев, определяющих цикл годичной работы кмета, начиная с изготовления в январе кольев и до самого конца, до того часа, когда мороз скует землю, превратив ее в твердь. Но хоть люди и по-иному делили год и отсчитывали даты, тем не менее они не отринули эльфий круг и восемь точек на его ободе. Позаимствованные из эльфьего календаря Имбаэлк и Ламмас, Саовинна и Беллетэйн, оба Солнцестояния и оба Равноночия стали и у людей важными праздниками, торжественными датами, кои выделялись меж других дат так же явно, как одиноко стоящее дерево выделяется посреди луга.
Ибо даты эти – магические.
Ни для кого не секрет, что во время этих восьми дней и ночей прямо-таки невероятно усиливается волшебная аура. Никого не удивишь магическими феноменами и загадочными явлениями, сопровождающими эти восемь дат, а в особенности же Эквинокции и Солтыции. К таким феноменам все уже настолько привыкли, что они редко кого волнуют.
Однако в тот год все было иначе.
В тот год люди, как обычно, отметили осенний Эквинокций торжественным семейным ужином, на котором полагалось выставить как можно больше различных плодов, собранных в уходящем году, пусть даже и понемногу каждого. Так велел обычай. Откушав и поблагодарив богиню Мелитэле за урожай, люди отправились отдыхать. И тут-то и начался кошмар.
К самой полуночи разразилась страшнейшая метель, подул убийственный ветер, в котором сквозь шум пригибаемых чуть не до земли деревьев, скрип стрех и хлопанье ставней слышался жуткий вой, крики и скулёж. Мчащиеся по небу тучи принимали самые фантастические формы, среди которых чаще всего повторялись мчащиеся в карьер кони и единороги. Почти целый час не утихал ураган, а в наступившей после него неожиданной тишине ночь ожила трелями и хлопаньем крыльев сотен козодоев, этих таинственных птиц, которые, если верить молве, собираются в стаи, чтобы распевать над умирающими отходную песнь. На сей раз хор козодоев был так могуч и громок, словно вот-вот предстояло погибнуть всему миру.
Козодои дикими голосами орали свой реквием, небосклон затянули тучи, погасившие остатки лунного света. Тогда занудила страшная беанн’ши, вестница чьей-то скорой и дурной смерти, а по черному небу пронесся Дикий Гон – табун огненнооких, развевающих лохмотьями плащей и штандартов призраков на конских скелетах. Как и всегда, Дикий Гон собрал свой урожай, но уже много десятилетий он не был так ужасен, как в этом году: в одном только Новиграде насчитали двадцать с лишним человек, пропавших бесследно.
Когда Гон промчался и тучи развеялись, люди увидели луну – на ущербе, как всегда во время Эквинокция. В ту ночь у луны был цвет крови.
У простого народа для феномена Равноночия было множество объяснений, кстати, существенно различающихся в зависимости от специфики региональной демонологии. У астрологов, друидов и чародеев тоже были свои объяснения, но в большинстве случаев ошибочные и как бы придуманные «про запас». Мало, невероятно мало было людей, которые умели бы это явление связать с реальными фактами.
На Островах Скеллиге, например, некоторые суеверные люди видели в удивительных явлениях предвестие Tedd Deireadh, конца света, предваряемого битвой Rag nar Roog, последней битвой Света и Тьмы. Бурный шторм, который в ночь Осеннего Солнцестояния потряс остров, верящие в приметы островитяне сочли волной, создаваемой носом чудовищного, с бортами, выложенными ногтями трупов, драккара Нагльфар из Морхёгга, везущего армию призраков и демонов. Однако люди более просвещенные либо лучше информированные связывали безумство небес и моря с ужасной смертью злой чародейки Йеннифэр. Третьи – совсем уж хорошо осведомленные – видели в бурлящем море знамение того, что в этот момент умирает кто-то, в чьих жилах течет кровь королей Скеллиге и Цинтры.
Над миром раскинулась ночь Осеннего Солнцестояния, ночь ужасов, кошмаров и привидений, ночь бурных, удушающих и жутких пробуждений на вздыбленных и влажных от пота простынях. Видения и пробуждения не обошли стороной и самые светлые головы: в Нильфгаарде, Городе Золотых Башен, с криком проснулся император Эмгыр вар Эмрейс. На севере, в Лан Эксетере, вскочил с ложа король Эстерад Тиссен, потревожив свою супругу, королеву Зулейку. В Третогоре сорвался с постели и схватился за кинжал архишпион Дийкстра, разбудив при этом супругу министра финансов. В огромном замке Монтекальво спорхнула с дамастовых простыней чародейка Филиппа Эйльхарт, не став, однако, будить супруги графа да Ноалье. Проснулись – более или менее резко – краснолюд Ярпен Зигрин в Махакаме, старый ведьмак Весемир в горной крепости Каэр Морхен, банковский клерк Фабио Сахс в городе Горс Велен, ярл Крах ан Крайт на борту драккара «Рингхорн». Проснулась чародейка Фрингилья Виго в замке Боклер, проснулась жрица Сигрдрифа в храме богини Фрейи на острове Хиндарсфьялл. В осажденной крепости Марибор проснулся Даниель Эчеверри, граф Гаррамон. Зывик, десятник Бурой Хоругви, в форте Бан Глеан. Купец Доминик Бомбаст Хувенагель в городке Клармон. И многие, многие другие.
Однако мало было таких, кто сумел бы все эти явления и феномены связать с истинным, конкретным фактом. И с конкретной личностью. Так уж получилось, что трое из них провели ночь осеннего Эквинокция под одной крышей. В храме богини Мелитэле в Элландере.
– Козодой… – простонал писарь Ярре, вперившись во тьму, затянувшую храмовый парк. – Никак не меньше тысячи, целые тучи… Кричат о смерти… О ее смерти… Она умирает…
– Не болтай глупостей! – Трисс Меригольд резко отвернулась, занесла кулак: несколько мгновений казалось, что она вот-вот толкнет или ударит паренька в грудь. – Ты что, веришь в идиотские приметы? Конец сентября, козодои перед отлетом собираются в стаи. Вполне естественно!
– Она умирает…
– Никто не умирает! – крикнула чародейка, бледнея от бешенства. – Никто, понятно? Перестань нести дурь!
Библиотечный коридор заполняли адептки, разбуженные ночной тревогой. Лица их были серьезны и бледны.
– Ярре, – Трисс успокоилась, положила пареньку руку на плечо, сильно сжала, – ты – единственный мужчина в храме. Все мы смотрим на тебя, ищем в тебе опоры и помощи. Ты не смеешь впадать в панику, ты не смеешь бояться. Возьми себя в руки. Не разочаровывай нас.
Ярре глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в руках.
– Это не страх, – прошептал он, отводя взгляд от глаз чародейки. – Я не боюсь, я тревожусь! За нее. Я видел сон…
– Я тоже, – сжала губы Трисс. – Мы видели один и тот же сон. Ты, я и Нэннеке. Но об этом – молчок.
– Кровь у нее на лице… Столько крови…
– Я же просила – молчи. Идет Нэннеке.
Подошла верховная жрица. Лицо у нее было утомленное. На немой вопрос Трисс она ответила, отрицательно покачав головой. Заметив, что Ярре собирается что-то сказать, она опередила его:
– К сожалению, ничего. Когда Дикий Гон мчался над храмом, проснулись почти все, но ни у одной не было видений. Даже таких туманных, как наши. Иди спать, мальчик, тебе тут делать нечего. Девочки, по спальням!
Она обеими руками протерла лицо и глаза.
– Э-э-х! Эквинокций. Чертова ночь… Иди приляг, Трисс… Не в наших силах что-либо сделать.
– Беспомощность, – стиснула кулаки чародейка, – доводит меня до сумасшествия. При мысли, что она где-то там страдает, истекает кровью, что она в опасности… Дьявольщина! Знать бы, что делать.
Уже собравшаяся уходить верховная жрица храма Мелитэле повернулась:
– А молиться не пробовала?
На юге, в Эббинге, за горами Амелл, в районе под названием Переплют, на обширных трясинах, иссеченных реками Вельда, Лета и Арета, в восьмистах милях полета ворона по прямой от города Элландер и храма Мелитэле, приснившийся под утро кошмар разбудил старого отшельника Высоготу. Проснувшись, Высогота никак не мог вспомнить содержания сна, но необъяснимое волнение не дало ему больше уснуть.
* * *
– Холодно, холодно, холодно, бррр, – шептал про себя Высогота, пробираясь по тропинке среди камышей. – Холодно, холодно, бррр.
Очередная ловушка тоже была пуста. Ни одной ондатры. На редкость неудачный лов. Бормоча проклятия и шмыгая замерзшим носом, Высогота очистил ловушки от грязи и травы.
– Ох и холодно же, – бормотал он, направляясь к краю топи. – А ведь четыре дня только прошло с Эквинокция. Сентябрь. Да, таких холодов в конце сентября я за всю свою жизнь не припомню. А ведь живу уже достаточно долго!
Следующая, предпоследняя ловушка тоже была пуста. Высоготе даже ругаться расхотелось…
– Не иначе, – бормотал он, направляясь к последней ловушке, – с каждым годом все больше холодает. А теперь, похоже, эффект похолодания пойдет лавиной. Ну, эльфы предвидели это уже давным-давно, да кто верит в предсказания эльфов?
Над головой старика снова захлопали крылышки, пронеслись серые, невероятно быстрые тени. Туман над трясиной опять раззвонился дикими, урывчатыми трелями козодоев, заполнился быстрым хлопаньем крыльев. Высогота не обращал внимания на птиц. Суеверным он не был, а козодоев на болотах всегда было множество, особенно на заре, когда они летали так плотно, что, казалось, вполне могли задеть за голову. Впрочем, не всегда их было так-то уж много, как сегодня, может, и не всегда они носились так неистово… ну что же, последнее время природа проделывала диковинные штучки, а диковинки гонялись за диковинками, да при этом каждая следующая диковинка была диковиннее предыдущей!
Он уже вытаскивал из воды последнюю – тоже пустую – ловушку, когда услышал ржание. Козодои как по команде разом умолкли.
На трясинах Переплюта были островки, сухие, выступающие из воды места, поросшие черной березой, ольхой, свидиной, кизилом и терновником. Большинство пригорков трясина обступала так плотно, что туда самостоятельно ни в коем разе не мог бы добраться конь либо не знающий тропинок наездник. И все же ржание – Высогота снова услышал его – шло именно со стороны такого островка.
Любопытство взяло верх над осторожностью.
Высогота слабо разбирался в лошадях и их породах, но он был эстетом, умевшим распознать и оценить красоту. А вороной конь с блестевшей словно антрацит шерстью, которого он увидел на фоне березовых стволиков, был дивно красив. Он был прямо-таки квинтэссенцией красоты. Он был так дивно красив, что казался нереальным.
И тем не менее был вполне реальным. И вполне реально попал в ловушку, запутавшись вожжами и уздечкой в кроваво-черные ветки свидины. Когда Высогота подошел ближе, конь прижал уши, ударил ногой так, что почва задрожала, дернул красивой головой, повернулся. Теперь стало видно, что это кобыла. И кое-что еще. Нечто такое, от чего сердце старого Высоготы забилось, словно ошалевшее, а невидимые клещи стиснули горло.
За лошадью в неглубокой яме от вывороченного дерева лежал труп.
Высогота сбросил на землю мешок. И устыдился первой мысли: развернуться и бежать. Он подошел ближе, сохраняя осторожность, потому что вороная кобыла переступала на месте, прижимала уши, скалила зубы в мундштуке и, казалось, только и ждала случая укусить его или лягнуть.
Труп был трупом паренька чуть старше десяти – двенадцати лет. Он лежал ничком, одна рука прижата телом, другая впилась в землю пальцами и откинута в сторону. На парнишке была замшевая курточка, плотно облегающие кожаные штаны и эльфьи мягкие сапожки на застежках.
Высогота наклонился, и тут труп громко застонал. Вороная кобыла протяжно заржала, хватанула копытами по земле.
Отшельник опустился на колени, осторожно повернул раненого. Невольно отдернул голову и свистнул. Чудовищная маска из грязи и запекшейся крови заменяла пареньку лицо. Он осторожно собрал мох, листья и песок с покрытого слизью и слюной рта, попытался оторвать от щеки сбившиеся в твердый колтун, слепленные кровью волосы. Раненый застонал, напрягся, и его стала бить дрожь. Высогота наконец отлепил ему волосы от лица.
– Девочка, – сказал он громко, не в силах поверить в увиденное. – Это девочка.
Если б в ту ночь кто-нибудь сумел тихо и незаметно подобраться к затерянной среди трясин хате с провалившейся и обросшей мхом стрехой, если б он заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в слабо освещенном сальными свечами помещении молоденькую девочку с плотно обмотанной тряпицами головой, лежащую в мертвой, почти трупной неподвижности на застланных шкурками нарах. Увидел бы он и старца с седой бородой клинышком и солидной, начинающейся от высокого, изборожденного морщинами лба лысиной, обрамленной длинными белыми волосами, падающими на плечи. Он заметил бы, как старец зажигает еще одну свечу, как ставит на стол песочные часы, как точит перо, как наклоняется над листом пергамента. Как задумывается и бормочет что-то себе под нос, не спуская глаз с лежащей на нарах девочки.
Но такое было невозможно. Никто этого увидеть не мог. Домишко отшельника Высоготы был ловко упрятан на вечно покрытом мглой безлюдье, среди трясин, на которые никто не решился бы забрести.
– Запишем, – Высогота обмакнул перо в чернила, – нижеследующее: «Прошло три часа после процедуры. Диагноз: vulnus incisivum, рубленая рана, нанесенная с большой силой неизвестным острым предметом предположительно с искривленным острием. Рана охватывает левую часть лица, начинается ниже глазной впадины, пересекает щеку и доходит до приушно-челюстного участка. Наиболее глубокая, почти касающаяся надкостницы часть раны оказалась несколько ниже глазной впадины, на скуловой кости. Предполагаемое время, прошедшее с момента ранения до первой перевязки, – десять часов».
Перо заскрипело по пергаменту, но скрип этот продолжался лишь несколько секунд. И несколько строчек. Не все, что Высогота говорил себе, он считал нужным заносить на пергамент.
– Возвращаясь к перевязке раны, – продолжал спустя немного старик, уставившись на мигающий и коптящий огонек свечи, – запишем нижеследующее: «Я не срезал рваные края раны, а ограничился лишь тем, что убрал несколько не получающих крови лоскутков и, разумеется, запекшуюся кровь. Промыл рану вытяжкой из коры вербы, удалил загрязнения и посторонние тела. Наложил швы. Конопляные. Другим родом нитей, сие следует отметить особо, я не располагал. Использовал компресс из горной арники и наложил муслиновую повязку».
На середину избы выбежала мышь. Высогота кинул ей кусочек хлеба. Девочка на нарах вела себя неспокойно, стонала сквозь сон.
– Восьмой час после операции. Состояние больной без изменений. Состояние лекаря – стало быть, мое – улучшилось, поскольку я малость вздремнул… Можно продолжать записи. Ибо следует перенести на сии листы некоторые сведения о моей пациентке. Для потомков. Ежели какие-либо потомки доберутся до здешних трясин прежде, чем все тут пожухнет и превратится в пыль.
Высогота тяжко вздохнул, обмакнул перо и вытер его о краешек чернильницы.
– Что же касается пациентки, – забормотал он, – то да будет записано нижеследующее. Лет ей, похоже, около шестнадцати, высокая, строения на вид худощавого, но отнюдь не тощего, не вызванного долговременным голоданием. Упитанность и физическое строение типичны скорее для юной эльфки, однако никаких признаков того, что она метиска до квартеронки включительно, не отмечено… Как известно, низкий процент эльфьей крови может следов не оставить.
Высогота как бы только теперь вспомнил, что не нанес на листок ни одной руны, ни единого слова… Он поднес перо к пергаменту, но чернила уже высохли. Старика это нисколько не огорчило.
– Так и запишем, – продолжал он, – что девушка никогда не рожала, а также что на теле ее не обнаружены никакие застарелые знаки, шрамы, рубцы, следы, которые оставляют тяжелый труд, несчастные случаи, бурная жизнь. Подчеркиваю: речь идет о застарелых следах. Свежие следы на ее теле наличествуют в достатке. Девочку избивали. Хлестали, причем не отцовской рукой. Ногами, вероятно, пинали тоже.
Я обнаружил на ее теле весьма странный, я бы сказал, своеобразный знак… Хм… Запишем и это для блага науки… В паху, почти у самого срама, вытатуирована пунцовая роза.
Высогота сосредоточенно осмотрел очиненный конец пера, затем погрузил его в чернильницу. Однако на этот раз не забыл, с какой целью это сделал, – начал быстро покрывать листок ровными строками наклонного письма. Писал, пока чернила не высохли на пере.
– В полубреду она говорила и кричала. Однако акцент и характер произношения, если отбросить частые вкрапления непристойностей, взятых из жаргона преступников, не позволяют сказать что-либо с абсолютной уверенностью, но я рискнул бы утверждать, что ее родина скорее всего Север, нежели Юг. Отдельные слова…
Он снова поскрипел пером по пергаменту, правда, не очень долго, и даже очень недолго, чтобы успеть записать все только что сказанное. Затем продолжил монолог прямо с того места, где прервал его:
– Некоторые выражения, слова, имена и названия, произнесенные в бреду, следовало бы запомнить. И впоследствии изучить. Все указывает на то, что весьма – к тому же весьма – необычная особа нашла тропинку к хибаре старого Высоготы…
Он немного помолчал, прислушался.
– Только бы, – пробормотал он, – хибара старого Высоготы не оказалась завершением ее пути.
Высогота склонился над пергаментом и даже поднес к нему перо, но не написал ничего, ни единой руны. Бросил перо на стол. Несколько секунд сопел, раздраженно ворчал, сморкался. Поглядел на топчан, прислушался к исходящим оттуда звукам.
– Необходимо отметить и записать, – сказал он утомленно, – что все обстоит очень скверно. Мои старания и процедуры могут оказаться недостаточными, а усилия тщетными, ибо опасения были обоснованными. Рана заражена. Девочка вся в огне. Уже выступили три из четырех основных признаков резкого воспалительного процесса. Rubor, calor и tumor. В данный момент они легко обнаруживаются визуально и на ощупь. Когда пройдет постпроцедурный шок, проявится и четвертый симптом – dolor2.
Запишем: почти полстолетия минуло с того дня, как я занимался медицинской практикой. Чувствую, как годы иссушают мою память и снижают ловкость моих пальцев. Я уже мало что делать умею и еще меньше сделать могу. Вся надежда на защитные механизмы юного организма.
– Двенадцатый час после процедуры. Как и ожидалось, наступило четвертое кардинальное проявление признаков заражения: dolor. Больная кричит от боли, поднимается температура, усиливается фебра3. У меня нет ничего, никаких средств, которые можно было бы ей дать. Есть лишь небольшое количество датурового эликсира4, но девочка слишком слаба, чтобы выдержать его действие. Есть также немного бореца, но борец ее наверняка убьет.
– Пятнадцатый час после процедуры. Рассвет. Больная без сознания. Температура резко возрастает. Фебра усиливается. Кроме того, наблюдаются сильные спазмы лицевых мышц. Если это столбняк – девочке конец. Вся надежда на то, что это просто сокращения лицевого либо тройничного нерва. Либо и того и другого… Тогда девочка будет обезображена… Но жить будет…
Высогота глянул на пергамент, на котором не увидел ни одной руны, ни единого слова.
– При условии, – глухо пробормотал он, – что нет заражения.
* * *
– Двадцатый час после процедуры. Температура поднимается. Rubor, calor, tumor и dolor подходят, как мне кажется, к кризисной точке. Но у девочки нет шансов дотянуть хотя бы до этих границ. Так и запишу… Я, Высогота из Корво, не верю в существование богов. Но если они случайно все же существуют, то пусть возьмут под свое крыло эту девочку. И да простят мне то, что я сделал… Если то, что я сделал, окажется ошибкой.
Высогота отложил перо, потер припухшие и свербящие веки, прижал ладони к вискам.
– Я дал ей смесь датуры и аконита, – глухо сказал он. – В ближайшие часы должно решиться все…
Он не спал, а лишь дремал, когда из дремы его вырвали стук и удары, сопровождаемые стоном. Стоном скорее ярости, чем боли.
На дворе светало, сквозь щели в ставнях сочился слабый свет. Песок в часах пересыпался до конца, причем уже давно – Высогота, как всегда, забыл их перевернуть. Каганчик едва тлел, рубиновые угли в камине слабо освещали угол комнатушки. Старик встал, отдернул сляпанную на скорую руку занавеску из покрывал, которой отгородил топчан от остальной части комнаты, чтобы обеспечить больной покой.
Девочка уже ухитрилась подняться с пола, на который только что скатилась, и теперь сидела, сгорбившись на краю постели, пытаясь почесать лицо, обмотанное перевязкой.
– Я же просил не вставать, – кашлянул Высогота. – Ты слишком слаба. Если чего-то хочешь, крикни. Я всегда рядом.
– А я вот как раз и не хочу, чтобы ты был рядом, – сказала она тихо, вполголоса, но вполне внятно. – Мне надо помочиться.
Когда он вернулся, чтобы забрать ночной горшок, она лежала на топчане, ощупывая материю, прижатую к щеке лентами и охватывающую лоб и шею. Когда минуту спустя Высогота снова подошел к ней, она не пошевелилась, чтобы изменить позу, а лишь спросила, глядя в потолок:
– Четверо суток, говоришь?
– Пятеро. После нашего последнего разговора прошли еще сутки. Все это время ты спала. Это хорошо. Тебе сон необходим.
– Я чувствую себя лучше.
– Рад слышать. Снимем повязку. Я помогу тебе сесть. Возьми меня за руку.
Рана затягивалась хорошо и не мокла. На этот раз почти не пришлось с болью отрывать тряпицу от струпа. Девушка осторожно дотронулась до щеки. Поморщилась. Высогота знал, что причиной была не только боль. Всякий раз она заново убеждалась в размерах раны и понимала, сколь она серьезна. С ужасом убеждалась, что то, что раньше она чувствовала прикосновением, не было кошмаром, вызванным температурой.
– У тебя есть зеркало?
– Нет, – солгал он.
Она взглянула на него, пожалуй, впервые совершенно осознанно.
– Стало быть, все настолько плохо. – Она осторожно провела пальцами по швам.
– Рана очень обширная, – прогудел он, злясь на себя за то, что вынужден объяснять и извиняться перед девчонкой. – Опухоль на лице все еще не спадает. Через несколько дней я сниму швы, а пока буду прикладывать арнику и вытяжку из вербены. Не стану обматывать всю голову. Рана хорошо заживает. Поверь мне – хорошо.
Она не ответила. Пошевелила губами, подвигала челюстью, морщила и кривила лицо, проверяя, что рана делать позволяет, а чего нет.
– Я сварил бульон из голубя. Поешь?
– Поем. Только теперь попробую сама. Унизительно, когда тебя кормят будто паралитичку.
Она ела долго. Деревянную ложку подносила ко рту осторожно и с таким трудом, словно та весила фунта два. Но справилась без помощи Высоготы, с интересом наблюдавшего за ней. Высогота был любознательным и сгорал от нетерпения, зная, что одновременно с выздоровлением девушки начнутся разговоры, которые могут прояснить загадку. Он знал – и не мог дождаться этой минуты. Он слишком долго жил в одиночестве, в отрыве от людей и мира.
Девушка кончила есть, откинулась на подушки. Некоторое время неподвижно глядела в потолок, потом слегка повернула голову. Невероятно большие зеленые глаза – в который раз отметил Высогота – придавали ее лицу невинно детское выражение, в данный момент, однако, противоречащее жутко искалеченной щеке. Высогота знал такой тип красоты – большеглазый вечный ребенок, лицо, вызывающее инстинктивную симпатию. Вечная девочка, даже когда двадцатый или тридцатый дни рождения давно останутся в прошлом. Да, конечно, Высогота прекрасно знал этот тип красоты. Такой была его вторая жена. Такой же была его дочь.
– Мне надо отсюда бежать, – неожиданно сказала девушка. – И как можно скорее. За мной гонятся. Ты же знаешь.
– Знаю, – подтвердил он. – Это были твои первые слова, которые вовсе не были бредом. Точнее – одни из первых. Потому что прежде всего ты спросила о своем коне и своем мече. Именно в такой последовательности. Когда я заверил тебя, что и конь, и меч под надежным присмотром, ты заподозрила меня в соучастии какому-то Бонарту и решила, что я не лечу тебя, а подвергаю пыткам надежды. Когда я не без труда вывел тебя из заблуждения, ты назвалась Фалькой и поблагодарила меня за спасение.
– Это хорошо. – Она отвернулась, словно опасалась смотреть ему в глаза. – Хорошо, что не забыла поблагодарить. Все, что случилось, я помню как бы сквозь туман. Не знаю, что было явью, а что сном. И боялась, что не поблагодарила. Меня зовут не Фалька.
– Об этом я тоже узнал, хотя скорее всего случайно. Ты разговаривала в бреду.
– Я беглянка, – сказала она, не поворачиваясь. – Беглец. Укрывать меня опасно. Опасно знать, как меня в действительности зовут. Мне надо лезть в седло и выматываться, пока они не добрались сюда.
– Ты только что, – мягко сказал он, – с трудом села на горшок. Что-то я не представляю себе, как ты залезешь в седло. Но уверяю: здесь безопасно. Здесь тебя никто не отыщет.
– За мной наверняка гонятся. Идут по следу, перепахивают все кругом…
– Успокойся. Ежедневно идут дожди, следы найти невозможно. А ты на безлюдье, у отшельника. В доме пустынника, который отринул себя от мира или мир от себя так, чтобы миру тоже нелегко было бы его отыскать. Впрочем, если ты так хочешь, я могу найти способ передать весть о тебе твоим родным или друзьям.
– Ты даже не знаешь, кто я…
– Ты – раненая девушка, – прервал он. – Убегающая от кого-то, кто не задумываясь ранит девушек. Хочешь, чтобы я кому-нибудь сообщил о тебе?
– Некому сообщать, – после краткого молчания ответила она. Высогота уловил, как изменился ее голос. – Мои друзья погибли. Все до единого.
Он промолчал.
– Я – смерть, – продолжала она странным голосом. – Каждый, кто сталкивается со мной, умирает.
– Не каждый, – возразил он, внимательно глядя на нее. – Не Бонарт, тот, чье имя ты выкрикивала в бреду, тот, от которого собираешься теперь убегать. Ваше столкновение навредило больше тебе, чем ему. Это он… ранил тебя в лицо?
– Нет. – Она сжала губы, чтобы приглушить то ли стон, то ли ругательство. – В лицо меня ранил Филин. Стефан Скеллен. А Бонарт… Бонарт ранил гораздо сильнее. Глубже. Что, я и об этом тоже говорила в бреду?
– Успокойся. Ты ослабла, тебе нельзя перевозбуждаться.
– Меня зовут Цири.
– Я сделаю тебе компресс из арники, Цири.
– Подожди… немножко. Дай мне зеркало.
– Я же сказал…
– Пожалуйста!
Высогота решил, что дальше оттягивать не стоит. Принес даже каганчик, чтобы она могла лучше рассмотреть, что сотворили с ее лицом.
– Ну да, – сказала она изменившимся, ломким голосом. – Ну да. Так я и думала. Почти так, как я думала.
Он вышел, задернув за собой занавеску.
Она старалась всхлипывать совсем тихо, так, чтобы он не слышал. Очень старалась.
* * *
Через день Высогота снял половину швов. Цири ощупала щеку, пошипела как змея, жалуясь на сильную боль около уха и большую чувствительность шеи в районе челюсти. Однако встала, оделась и вышла во двор. Высогота не возражал и сопровождал ее. Помогать или поддерживать надобности не было. Она была здорова и гораздо сильнее, чем можно было предполагать.
Покачнулась лишь, когда выходила, и прислонилась к дверному косяку.
– Однако… – Она подавилась воздухом. – Ну и холодина! Мороз, верно? Уже зима? Сколько же времени я здесь провалялась? Сколько недель?
– Ровно шесть дней. Сегодня пятое октября. Но октябрь обещает быть очень холодным.
– Пятое октября? – Она поморщилась, ойкнула от боли. – Это как же так… Две недели?
– Что? Какие две недели?
– Не важно, – пожала она плечами. – Может, я что-то путаю… А может, и не путаю. Скажи, чем тут так жутко несет?
– Шкурами. Я ловлю ондатр, бобров, нутрий и выдр, выделываю шкуры. Ведь отшельникам тоже надо на что-то жить.
– Где моя коняга?
– В овчарне.
Вороная кобыла встретила пришедших громким ржанием, а коза Высоготы поддержала ее блеянием, в котором прозвучало явное недовольство необходимостью делить обиталище с другим жильцом. Цири обхватила лошадь за шею, пошлепала, погладила по загривку. Кобыла фыркала и гребла копытом солому.
– Где мое седло? Упряжь? Чепрак?
– Здесь.
Он не возражал, не делал замечаний, не высказывал своего мнения. Просто молчал, опираясь на палку. Не пошевелился, когда она застонала, пытаясь поднять седло, не дрогнул, когда покачнулась под грузом и тяжело, с громким стоном хлопнулась на застеленный соломой глинобитный пол. Не подошел, не помог встать. Просто внимательно смотрел.
– Ну да, – проговорила она сквозь стиснутые зубы, отталкивая кобылу, пытавшуюся сунуть ей нос за воротник. – Все ясно. Но я должна отсюда бежать, холера меня забери! Попросту должна!