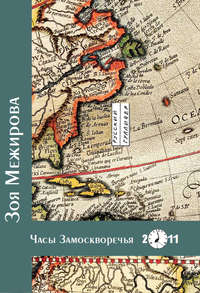Czytaj książkę: «Часы Замоскворечья»

…Одно – и знакомое и незнакомое – имя: Зоя Александровна Межирова.
Безупречная точность самовыражения, полная слитность внутреннего лиризма с пластическим его осуществлением, душевного жеста с жестом стихотворным обеспечивают ей право на безоглядную самостоятельность.
Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ
Как много трепетного понимания в стихах Зои Межировой. Понимания чужой беды и боли, беспощадного хода времени, понимания главных истин и ценностей нашей быстролетящей жизни. И как прекрасно – точно и возвышенно выражает она это понимание в своих высоких и удивительных стихах.
Среди многих талантливых ныне живущих русских женщин поэтов я не знаю более живой и сильной, чем Зоя Межирова.
Анатолий ЖИГУЛИН
Нелегко быть дочерью знаменитого поэта, особенно если ты пишешь стихи. Жизнь Зои Межировой сложилась неожиданно для нее самой – она уехала в США, вышла замуж. Муж, неординарный американец, умер. Зоя осталась совсем одна. А вот стихи продолжает писать и, конечно, по-русски. Стихи прозрачные, наполненные терпкой печалью.
Евгений ЕВТУШЕНКО
Зоя, сознаешь ли ты, знаешь ли, что тебе дано то, что почти ушло из русской поэзии – лирическая стихия…
Александр МЕЖИРОВ
Зоя Межирова – поэт глубокий, вдумчивый, немногословный истинный мастер!
Перечитайте ее стихотворения «Часы Замоскворечья», «Старые вещи», «Мир за стеной где-то там, в отдаленье…», «Давно от всех событий…» и многие другие – это законченные новеллы в стихах, запечатленные – мастерски! – мгновения жизни, судеб, истории, современности.
Редко встретишь у нее так называемые «риторические» стихи, но, если и встретишь, то они звучат великолепно – и настроением, и своеобразной их новизной. Так, например, одно из ее таких стихотворений – «Дискотека» («Мы молоды – и потому вовеки не умрем…») я перепечатывал на машинке и дарил –молодым поэтам (приходящим ко мне со стихами) – для учебы, для уточнения и укрепления жизненного тонуса и настроя.
Мне – в этих стихах – очень дорога дерзкая вера автора в бессмертие жизни.
Михаил ЛЬВОВ
Таинственный манок
Зоя Межирова, которая выпустила в России две книги стихов, продолжает писать и публиковать их, живя в штате Вашингтон, США. У нее несомненный лирический дар, а то одиночество, на которое она обречена, судя по ее лирическим признаниям, является замечательным допингом для творчества. Как говаривал князь Вяземский: «Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастием лопнет прекрасная струна его лиры».
Говоря об одиночестве, имею в виду прежде всего лингвистическое: даже граждане русской диаспоры стараются заменить родной язык благоприобретенным воляпюком.
Еще один двигатель поэзии Зои Межировой – бессобытийность ее американской жизни, даже если эта бессобытийность кажущаяся: «Весь мой бессобытийный, на разлуку потраченный год…» Напомню, что один из лучших рассказов Чехова – «Скучная история». Нет, я далек от того, чтобы сравнивать Зою Межирову с великим русским прозаиком, да и темперамент не тот. У нее как раз повышенная, драматическая реакция на мир окрест: именно ввиду этой – все равно, субъективной или объективной – бессобытийности. В этом манок ее поэзии, хоть и не единственный.
Для Зои Межировой событием является то, что на поверхностный взгляд, до этого ранга не дотягивает. Но художник заново выстраивает иерархический ряд, и желание Акакия Акакиевича приобрести новую шинель в плане эстетическом не менее значимо, чем желание Гамлета отомстить за поруганную честь матери и убийство отца. Весь вопрос, насколько художник убедителен. Зоя Межирова умеет настоять на своем, и ее рассказы о магазине восточной бронзы либо о госпитале Святой Марии захватывают читателя.
Да, она – отличный рассказчик, что среди стихотворцев случается не так уж часто. Сюжеты у нее напряженные и сентиментальные (без уничижительного оттенка этого хорошего слова). Все это не мешает ей быть также проникновенным лириком. Сюжетные и лирические стихи замешаны у Зои Межировой на сильной, я бы сказал – волевой эмоции, хотя, конечно, в своих стихах она женщина с ног до головы, и автору этих строк немного даже жаль, что он знаком с ней только заочно – «путем взаимной переписки». В том-то и дело, что при чтении таких ее стихов, как «Все ящики в Нью-Йорке для отбросов…», «По своей, чужой ли воле…», «В госпитале Святой Марии…», «Восточная бронза» не отпускает чувство, будто знаком с этой женщиной давно и близко. Это ли не свойство настоящей поэзии?
Владимир СОЛОВЬЕВНью-Йорк
Красный форт
В Красном Форте старого Дели,
Чьи сапфиры спят на прилавках
И смеются ветрено изумруды,
У стены глухой и великой
Почти терракотового цвета,
Где автобусы съезжаются на площадь,
С самого утра и до заката
Под шелково-палящим солнцем
Нищая девочка с ребенком
Встречает иностранных туристов.
Она ничего у них не просит,
Что как-то чудно́ и необычно,
Весела и резва в тряпье цветастом.
Но минутами взгляд ее глубокий
Вдруг задумчив, хотя и без грусти,
И тогда становится серьезным.
На руках больного ребенка
Вечно полусонного таскает,
Вовсе, кажется, не замечая
Судорог его улыбки странной.
То к бедру прижав, а то в обнимку
Ходит с ним по площади гудящей,
Возникая то тут, то там без цели,
Радуясь лишь тем, что жизнь встречает,
Никому не нужна в жаре столичной.
Я зашла в раскаленный автобус
И оттуда протянула ей плитку
Чуть подтаявшего шоколада,
Чтобы на меня опять взглянули
Темные глаза, где пламя в пепле.
Радостью такой, какую в лицах
Так нечасто отыскать возможно,
Той, которую теперь вовеки
Позабыть, наверно, не удастся,
Полыхнули они и засветились.
Обхватив поудобней ребенка,
Шоколад под худенькую руку
Сунула ему и так прижала,
Улыбаясь, тихого младенца,
Что сразу стало понятно —
Нет счастливее ее на свете.
Просто так, а не за услугу
Принимая случайный подарок,
Улыбнулась такой улыбкой,
Словно меня и раньше знала,
Будто я ей не чужая,
Постояла несколько мгновений
И снова куда-то исчезла.
Загудел тяжелый автобус,
И стена терракотового цвета
За стеклом поплыла под солнцем мимо.
Красный Форт за спиной оставался.
Только вдруг заглох мотор – как видно,
Вышла какая-то неполадка.
И минуту мы еще стояли.
Я тогда опять к окну прильнула —
Не появится ли где-то рядом?..
Так и есть, смотрю, стоит у стекол
(Все же догнала, чтоб проститься),
Мне в лицо, как прежде, улыбаясь.
Навсегда прощай, уже во веки
Не увидимся больше с тобою!
Все поплыло мимо, только помню —
Смуглая рука еще мне машет.
В тот день у Красного Форта,
В далеких и чужих широтах
Я тогда поняла такое,
Что уже и счастья не надо, —
Жалкая, пустая затея.
Песня капель дождя
Г. М.
В дождь, в грусть
Все становится
На свои места,
Потому что никто не торопится
Никуда.
В шелестящий дождь,
Провисающий сетью
Над морем покатых крыш,
Ты когда-нибудь
Позвонишь.
Будет сумрачный голос
И глух и хмур.
Я искала тот звук,
Шаря взглядом слепым
Среди нот, на пюпитре лежащих,
Годов-партитур.
Затвердила до обморока
Спотыкающийся,
Горько-терпкий,
Шершаво-гортанный акцент,
Как прилежный упрямый студент.
Низкий звук этой ноты,
Восстав над ненужностью слов,
Мне слепил из реальности снов.
Он вот-вот прикоснется
Отвесною тенью
Безветренной стаи дождя,
Снова прежний напев поведя.
Вновь ему все равно —
Время дальше торопится
Или отхлынуло вспять…
Снова он… Мне ль тебя не узнать?..
Что мне делать, когда
В этот тихо подкравшийся миг,
Сквозь беззвучный растерянный час
Номер мой набираешь сейчас?..
«Отчужденность чужой столицы…»
Отчужденность чужой столицы
Прибалтийской страны укромной.
Дни аннексии. Тленье пепла.
Черепичные крыши Европы.
В парках невозмутимых тюльпаны.
На брусчатке голуби, дети.
И язык тех мест незнакомый.
Алма Яновна вяжет на спицах
Толстой шерстью тяжелый свитер.
Проживает одна в просторной
Светлой комнате старого дома,
Где высокие окна от пола
И сверкает паркет навощенный.
На столе деревянном салфетки,
То ли шерсть, то ли хлопок жгутами,
С бахромой нарядной по краю.
Желтый цвет янтаря на каждой.
Так и помню ее, седую,
Аккуратная стрижка и руки,
Окруженные спиц порханьем.
Объясняла трудные петли,
Говорила какие нитки
Деревенской крученой шерсти
Надо мне купить на базаре,
Где осенних цветов изобилье.
На окне высоком от пола
Было много горшков с цветами.
Дни на хмуром песчаном взморье,
Между сосен дюнная дача.
Элегантные магазины,
Непустеющие прилавки,
Под пятой имперской тяжелой
Не терявшие лоск всегдашний.
И душистый хлеб пеклеванный,
Тот, что рижским в Москве считался.
Все родное. И запах сладкий
Торфяной, если печи топились.
Эту землю я бы узнала,
Даже если глаза закрыты,
По шуршанью дождей на асфальте.
Алма Яновна вяжет из толстой
Теплой шерсти тяжелый свитер.
Вновь сюда приехав однажды
По прошествии лет немалых,
Я решила зайти к ней в гости,
Как в года былые с букетом.
Позвонила. Дверь приоткрыли.
И в ответ, посмотрев исподлобья,
Известили коротко, жестко,
Что зимой умерла. И сразу
Дверь захлопнулась. Я осталась
В полумраке лестничной клетки.
Повернулась. Нетвердым шагом
По ступенями чугунным спустилась,
Из подъезда на улицу вышла,
Всю залитую теплым светом.
Алма Яновна… Сны из детства…
Неприязнь я помнила эту
И сочувственно замолкала,
В несогласном живя согласьи
С затаенной ее причиной,
Стыд бессильный топя в смущенье,
В безмятежности дней любуясь
На дожди твои и костелы,
Твоего языка не зная,
Проходя по старинным паркам,
Обживая чужую дачу
У песка на янтарном взморье.
Все слова мои неуместны,
Как в руках букетик мой жалкий,
Так беспомощно опоздавший,
Знак привязанности безмолвной,
Что к тебе я несла в то лето.
Но молчат петухи на шпилях
Иностранного государства.
«И вот о былом не жалея…»
И вот о былом не жалея,
В чем будешь почти что права,
Смотрителем зала в музее
Ты станешь работать сперва.
С безумством последнего риска,
Сквозь множество колких преград
Поблизости от Сан-Франциско
Ты жизнь поведешь наугад.
Из снежных заносов России,
Как остро отточенный нож,
Не помня усмешки косые,
Ты в это пространство войдешь.
И чуждый язык, наплывая,
Возьмет в небывалый полон,
Как будто волна штормовая,
Диктуя свой новый закон.
И мертвые ставя зарубки
На этом витке бытия,
Здесь будет лишь голосом в трубке
Страна ледяная твоя.
«Протаскиваю свое тело волоком…»
Протаскиваю свое тело волоком
Сквозь гул нью-йоркских щедрот,
Где медный заяц летит над колоколом,
Слушая свой полет.
Где на Бродвее, прося подаянье,
В наушниках черный слепой,
К прохожим без видимого вниманья,
Танец затеял свой,
И на асфальте, судьбой не смяты,
Жизнью не дорожа,
Беспечные уличные акробаты,
Смертельные антраша.
Вопли сирен в Никуда – Ниоткуда.
Солнцем над сквером палим,
В позе нирваны джинсовый Будда
Пьет сигаретный дым.
Что улей Столицы Мира сулит мне,
Меняясь сто раз на дню?..
В отдельном от всех существуя ритме,
Бреду сквозь бред авеню.
Нью-Йорка яростная утроба,
Безумья и грез обвал.
Мираж стартующего небоскреба —
Приказ взлететь запоздал.
Но вечен вихрь вселенских тусовок
Наций, пространств и дней, —
Он ловок в сценах гигантских массовок
Без всяких главных ролей.
Ве́ка заокеанская Мекка.
Души неприют, разброд.
А тело – втянутая помеха
В энергий круговорот.
«У менеджера…»
Памяти мужа Джона Сти́дли Дже́нкинса
У менеджера
Непреклонные скулы
И хватка акулы.
И вся его бодрость
Лишь вечная ширма,
Чтоб выжила фирма.
Выигрывающая
Эта команда —
Страны доминанта.
Они энергичные,
Эти ребята,
Иначе – расплата.
А ты этот ритм
Заменил на поспешность,
Английская внешность,
И вроде бы свой,
Но чужой от рожденья —
Улыбка смущенья.
Хоть, кажется, принял
Все эти законы,
Что тут незаемны, —
Такие, как ты,
Не в почете у босса,
И нет на них спроса.
Тебе эта жизнь
Не годится в подметки,
И тихий, и кроткий,
Могучею фирмой,
Что дни твои тратит
И много не платит,
Неделями без выходного
Распятый
За мизер зарплаты,
Ребенок седеющий,
С вечной святою
Мечтой золотою,
Без тени обиды
В душе не убитой,
О рае Флориды 1.
«Окрик и свист… И мгновенно в сыреющем мраке…»
Окрик и свист… И мгновенно в сыреющем мраке
Шелест по листьям откуда-то мчащей собаки.
Дальний фонарь. И теней мутноватый клубок.
В час этой мертвой, пустынной, безлюдной прогулки
Снова промчалась в осенней ночи переулка,
Вихрем свободы и верности встала у ног.
Сад опустел. И костры по дворам отгорели.
Странные теплые перед зимою недели.
Окна желтеют, и голые сучья черны.
Отсветы стылой воды на дороге у края.
Что-то не ладится. Дней этих не понимаю.
Впрочем, не вижу ничьей тут особой вины.
Дальше идем и по влажному долгому следу
Тянем опять молчаливую нашу беседу
Темной прогулки сквозь дождь, моросящий тайком.
Произносить все слова ни к чему и напрасно.
Знаешь, наверное, всё. Оттого и безгласна.
Сад. Переулок. И тающий призрачно дом.
Снова свищу. Подбегает. Ошейник на шею
Вновь надеваю, того и сказать не умея,
Что этот мудрый и пристальный взгляд говорит.
Тянет на мокрую землю, где запахи млеют.
(Как эта ночь по глубоким дворам цепенеет…)
Лижет холодную руку, зачем-то жалеет.
И по асфальту к подъезду легко семенит.
«Но стре́лки затвердили о своем…»
М. Л.
Но стре́лки затвердили о своем.
И до восьми —
уже осталось мало.
У входа в тот
оцепеневший дом
Машина одинокая стояла.
Забыть об этом и не вспоминать,
Не прикасаться к снам, что память копит…
И вроде невозможно продолжать,
Но дальше говорю, и стих торопит.
Не опоздала. Вовремя пришла.
За дверью нервно разговор прервался:
– Перезвоню…
И сразу поняла —
Он ждал давно и тяжко волновался.
Открылась дверь.
И – вот он на пороге
Июльской душной и предотпускной
Пустой квартиры.
И глаза в тревоге.
Растерянный, смущенно сам не свой.
Как будет всё? Невероятность встречи,
Которой так безмерно дорожу,
Не думая, взвалил себе на плечи…
Не выдержит, заранее скажу.
Она была случайным отголоском
Той жизни, что из юности, другой.
И все же, оплывая жарким воском,
Какой ни есть сюжет имела свой.
И та, что в этот вечер перед ним, —
Да и сама она об этом знала, —
Всем юношеским обликом своим
О друге прежних лет напоминала,
С кем ослепила ссора навсегда,
Навечно развела, непоправимо,
А если и встречались иногда,
То отчужденно проходили мимо.
О том уже никто не вспоминал.
Ненужною с годами тема стала.
Зачем же он
ее к себе позвал?
Пришла зачем —
она сама не знала…
Заветные мечты не сделать явью.
И потому
запретный взгляд лови
И возвращай, все навсегда оставя
На грани восхищенья и любви.
На улицах давно прохожих нет.
И, редкую машину карауля,
За окнами наметился рассвет
Удушливого знойного июля.
Их время тополиным пухом прочь
Легко и незаметно отлетело.
Никто ничем не в силах им помочь.
Да и кому до них какое дело.
Пора… В руке помедлила рука…
И он сказал: – Благодарю за вечер.
Но каждый знал почти наверняка,
Что будет их последней эта встреча.
Живи, покуда жив, и не проси
У жизни благ иных, везений прочих.
Зеленый свет внезапного такси
Притормозил в пустых пространствах ночи.
Простились. И машина унеслась.
В скрещеньях улиц затерялась где-то.
Они встречались мельком, и не раз.
Но стоит ли рассказывать про это.
Дискотека
Мы молоды – и потому
Вовеки не умрем.
Вот эта музыка звучит, —
Ведь и она о том.
Вращающийся черный диск
Пророчит, что сейчас
Взойдет бессмертье над землей, —
Оно начнется с нас.
Мы молоды – и не умрем,
Миг на века продлив.
Он воцарил верховный ритм
И упразднил мотив.
Записка
На о́ктопус2 и белое вино
Тебя запиской этой приглашаю,
В ту приглушенность дымного агата,
Мерцающего глыбой на Бродвее
Волокнами вечерних голосов
Сквозь хрупкость звона тающих бокалов,
Где год назад (как мчится, ускользнув,
Непойманное ветреное время)
Вполголоса, но жарко обсуждали
Переливающиеся мечты.
Мне так хотелось тайну описать,
Загадку рассказать стихотворенья,
Чьи строки долго повторяли мы,
Охваченные музыкою слов.
А ты, делясь и ношей, и блаженством,
Мне говорил о длящейся работе,
Название которой не посмею
Произнести, пока не завершил.
В молчанье потоплю величье темы.
Подслушивал замедленный Нью-Йорк,
Дневную спешку наконец-то сбросив,
Беседы наши о скитаньях жизни
На многотрудных узких тропах духа.
…Официант на стол бокалы ставит
В беспечном оживленье голосов,
Протянутых, как млечные волокна,
Сквозь дымный полусумрак ресторана,
Агатом ставшим на исходе дня.
…Всегдашняя упорная забота
И бесконечная слепая цель —
Всё в ритме ускользающих минут
Навеки рассказать,
Наперекор,
Наперерез
Быстролетящей жизни…
Вот и сейчас я вижу те часы…
Прислушайся… опять нью-йоркский сумрак,
С прожилками агат иссине-дымный,
Почти что перелившийся в записку,
Которую кладу тебе под дверь,
Столицей Мира мимо пробегая,
И сизый океанский осьминог
На белизне блистающей тарелки,
Легко смеясь, как прежде зазывают
За прежний столик наших разговоров
О днях судьбы на тесных тропах духа.
Чтоб снова их подслушать сквозь мечту.
P. S. Дверь отворив, записку не смахни
Из тамбура ворвавшимся порывом.
Теперь уже за ужин – я плачу́.
На этот раз мне в этом не перечь.
Darmowy fragment się skończył.