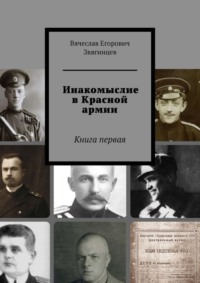Czytaj książkę: «Инакомыслие в Красной армии. Книга первая», strona 3
Егор Устинов и Алексей Дулин, гальванеры линкора «Севастополь», в период мятежа оставались на корабле и «выполняли свою обычную работу, находясь в перегрузочном отделении, следя за электроприборами…».
Реввоентрибунал обоснованно принял во внимание, что они «в уличных боях не участвовали и в боевых отрядах не состояли». В то же время приговорил каждого к пятнадцати годам лишения свободы.
А вот другие военморы, которые также «несли обычную службу» – ходили в наряды, караулы и т. п. – отделывались, как правило, пятью годами.
Именно такой срок трибунал отмерил военным морякам Лобашкову, Чертилину, Степанову и многим другим.
Ранним утром 17 марта Кронштадт атаковали большевистские войска. Спустя сутки последние очаги сопротивления были подавлены.
Судебные процессы, о которых мы рассказали, стали лишь вершиной репрессивного айсберга. Более оперативно и «массовидно» вершили «правосудие» внесудебные органы – тройки Особого отдела (действовали до конца марта 1921 года) и Президиума Петрогубчека. Они рассматривали групповые дела – от нескольких десятков до ста «мятежников» и более.
Так, членов мятежного ревкома и других активных участников восстания – Перепелкина, Валька, Вершинина, Коровкина, Савченко и других – осудила 20 апреля 1921 года чрезвычайная тройка Петрогубчека под председательством Волина. Всего по этому делу проходил 81 человек, большинство приговорено к расстрелу.
Среди расстрелянных за проявленное инакомыслие: член редакции Известий Кронштадского ревкома Евгений Владимиров – «выпускал газету и просматривал рукописи»; моторист дивизиона форта №6 Василий Невский – на собрании дивизиона «внес предложение разобрать Кронштадтскую резолюцию по пунктам, без чего не принимать ее»; старший помощник командира ледокола «Огонь» Сергей Ершов – «голосовал за резолюцию»; боцман того же ледокола Александр Миронов – «в споре с пришедшим на ледокол для разбора дела комиссаром… защищал резолюцию». Шесть матросов с линкора «Севастополь» приговорены к расстрелу за пронос кронштадтских прокламаций. По одному году принудительных работ получили по этому делу лекарь 1-го Морского берегового отряда Сергей Бычков, который в Петрограде на Николаевском вокзале «рассказывал группе человек в 15 красноармейцев о событиях в Кронштадте и тех требованиях, которые были там выставлены»; красноармеец роты связи 187-й бригады Ефим Дурнев, арестованный за то, что «при отправке части под Кронштадт говорил: «Почему нам не объясняют, а ведут под пули». Такое же наказание определено конюху Отдельного артиллерийского дивизиона в Новом Петергофе Александру Изосимову «за попытку агитировать среди проезжавших курсантов в пользу Кронштадтских мятежников»18.
По этому же делу проходили и были расстреляны как участники восстания несколько офицеров, в том числе С. Н. Дмитриев, ставший контр-адмиралом уже при советской власти19.
Незадолго до распада Советского Союза были впервые обнародованы сведения из центрального архива КГБ СССР, согласно которым по делам о Кронштадтском мятеже проходило 10001 человек (при общей численности военных моряков и гарнизона крепости в 26887 человек). Из них 2103 человека было осуждено к расстрелу, 6447 – к лишению свободы.
Долго еще не смолкали ружейные залпы над Кронштадтской крепостью. Уже не срывались с деревьев обезумевшие от грохота птицы. Давно выплакали все слезы вдовы. А репрессивный конвейер продолжал работать. Кронштадтская земля продолжала принимать убиенных. Если вам доведется побывать в Кронштадте, посетите Якорную площадь. Там лежат в братской могиле 426 неопознанных бойцов. И с той, и с другой стороны. Не их вина в том, что подняли друг на друга оружие. Символично, что они вместе. Таких могил, примиривших враждующие стороны, сотни на многострадальной земле российской.
В заключение остается сказать, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г. №65 «О событиях в г. Кронштадте весной 1921 года» репрессии, проводившиеся в отношении матросов, солдат и рабочих Кронштадта, признаны незаконными.
3. «Второй Кронштадт» (дело «ПБО» и др.) 1921—1922 гг.
В 1921—1922 годах репрессии в отношении бывших офицеров, включая тех, которые согласились сотрудничать с новой властью, проходили под знаком ликвидации последствий кронштадтского мятежа, хотя большинство арестованных было к этим событиям непричастно.
Еще до подавления мятежа, 14 марта, чекисты репрессировали в Архангельске две группы офицеров. Первую группу в количестве 20 человек расстреляли, «принимая во внимание неисправимость означенных кровавых белогвардейцев, ярую ненависть к рабоче-крестьянской власти, усиленную их агитацию за выступление среди заключенных в связи с кронштадтскими событиями». Вторую группу офицеров из 14 человек приговорили к расстрелу, просто признав их «подлежащими ликвидации», как врагов советской власти20.
…Мятеж способствовал многократному увеличению числа лиц, обвиненных в проведении антисоветской агитации и пропаганды. Под это обвинение подводили любое проявление инакомыслия21. Репрессиям подвергали за сочувствие мятежникам, за участие в собраниях, поддержавших кронштадтцев, за любые связи и сношения с ними. Так, морской артиллерист, командир отдельного дивизиона 187-й бригады Д. Л. Введенский был осужден на два года лагерей за «несообщение о получении письма от бежавшего после кронштадтских событий в Финляндию бывшего начальника 187-й бригады Соловьянова».
Одно из самых крупных дел того времени, подаваемое чекистами как «второй Кронштадт», именуют «Таганцевским заговором» или делом «Петроградской боевой организации» (ПБО). В общей сложности в рамках этого дела арестовали 833 человека. 96 человек были расстреляны (по постановлениям президиума Петроградской губчека от 24 августа и 3 октября 1921 года) либо убиты при задержании. 83 человека – отправлены в концлагерь.
Наиболее известные фигуранты дела «ПБО» – профессора В. Н. Таганцев, В. И. Орловский (объявленные руководителями заговора), поэт Н. С. Гумилев, скульптор С. А. Ухтомский и др. По делу было арестовано немало офицеров, в том числе контр-адмирал С. В. Зарубаев, сменивший А. М. Щастного в должности командующего флотом.
Структура «ПБО», по версии Д. Л. Голинкова22, была следующей. Во главе находился комитет, в который входили В. Н. Таганцев и два бывших офицера В. Г. Шведов и Ю. П. Герман, (убитые еще до окончания следствия23). Им починялись несколько групп (ячеек), в том числе «Объединенная организация кронштадтских моряков» и офицерская группа.
До сих пор существуют две версии о деле «ПБО»:
1. Такой организации не существовало. В 1992 году эта версия была подкреплена заключением Генеральной прокуратуры России: «дело полностью сфальсифицировано», организация «создана искусственно следственными органами».
Г. Е. Миронов, изучавший в Генпрокуратуре архивно-следственное дело, полагал, что это было «первое крупное дело, от начала и до конца сфабрикованное Петрогубчека, и первое крупное политическое дело, инспирированное фактически по прямому „заказу“ властных структур тех лет с целью создать прецедент осуждения по политическим мотивам большой группы представителей тех классов, сословий, профессий или менталитета, которые никак не вписывались в прокрустово ложе новой идеологии»24.
2. Ряд исследователей полагают, что «ПБО» реально существовала и даже готовила восстание в Кронштадте. При этом, ссылаются на свидетельства финского подполковника Юрьё Эльфенгрена и бывшего члена Госсовета, кадета Д. Д. Гримма.
Есть основания полагать, что чекисты, формируя это дело, собрали в одну кучу как мифические, созданные их воображением, так и реально существовавшие в Петрограде разрозненные кружки либо группы общавшихся между собой, критически настроенных по отношению к советской власти людей, в основном из числа интеллигенции и бывших офицеров. Некоторые из них не только осуждали политику новой власти, но и высказывали намерения ее свергнуть. Об этом свидетельствуют признательные показания ряда лиц, арестованных по делу «ПБО». Но значительная масса репрессированных по этому делу людей была включена чекистами в состав организации без достаточных оснований.
Главные следователи по делу – особоуполномоченный ВЧК Я. С. Агранов и председатель Петроградской губчека Б. А. Семенов – особо и не скрывали, что акция носит упреждающий характер. Агранов, например, говорил: (со слов Бермана), что значительная часть петроградской интеллигенции находилась одной ногой в стане врага, и эту ногу требовалось «ожечь».
Сказанное подтверждается характером обвинений, предъявленных участникам «ПБО». Так, обвинение скульптора князя Сергея Ухтомского было основано на его научной статье «Музеи и революция», текст которой обнаружили у убитого при переходе границы Германа.
Самую многочисленную группу в деле «ПБО», насчитывавшую 173 человека, следователи назвали – «соучастники». Из их числа 21 человек был приговорен к расстрелу, в том числе – один из лучших поэтов «серебряного века», бывший офицер Н. С. Гумилев25.
Согласно выписке из протокола заседания президиума Петрогубчека, он был арестован 3 августа за то, что, как «активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании, получил от организации деньги на технические надобности»26.
Многие исследователи задолго до реабилитации поэта ставили под сомнение обоснованность его ареста. На одном из допросов (в деле их – три) Гумилев заявил, что, встретившись с Вячеславским (он не знал, что это Шведов), говорил ему, что может «собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно». На следующем допросе он добавил, что не имел в виду «кого-нибудь определенного, а просто человек десять встречных знакомых, из числа бывших офицеров»27.
Судя по всему, за свой «легкомысленный треп» поэт и поплатился. Какие-либо другие серьезные доказательства его вины в деле отсутствуют.
Н. С. Гумилев и еще 56 человек, сочувствовавших или симпатизировавших восставшему Кронштадту, были расстреляны 26 августа 1921 года. А за несколько дней до этого были произведены массовые аресты морских офицеров, в том числе – командования Балтийского флота и Морских сил Республики.
Часть из них успели включить в расстрельные списки по делу «ПБО». Остальных пропустили через Центральную фильтрационную комиссию.
Из 783 человек, проходивших службу на флоте, комиссия отобрала к «изъятию» и арестовала более половины. В декабре 1921 года более двухсот заключенных выпустили из тюрем и «раскассировали под наблюдение ВЧК», определив им для проживания несколько городов страны, в том числе Иркутск и Самарканд. Остальные продолжали находиться в тюрьмах и концлагерях. Только в Новгородском «исправдоме» содержались 350 человек. К концу 1922 года в заключении находилось 60 человек, по делам которых ВЧК продолжала следствие. В отношении 283 заключенных дела были пересмотрены. Из них служить на кораблях в Морских Силах Республики разрешили только 103 бывшим офицерам28.
Деление заговорщиков на кронштадтских мятежников, членов «ПБО» и тех, кого выявили в ходе «фильтрации», было весьма условным. Главное – изъять и обезвредить инакомыслящих, потенциальных врагов советской власти.
Г. Миронов писал: «По „Делу Таганцева“ не случайно проходит много моряков Балтийского флота. Дело в том, что командный состав Флота, а также все арестованные при обратном переходе границы кронштадтские моряки воспринимались петроградскими чекистами однозначно как враги, подлежащие уничтожению вне зависимости от наличия (а уж тем более доказанности) вины»29.
Darmowy fragment się skończył.