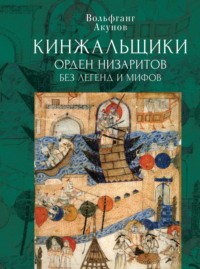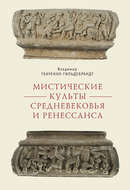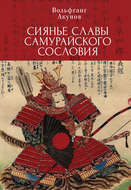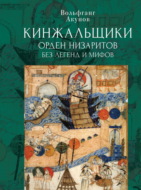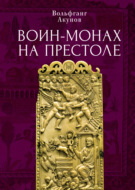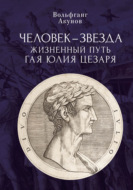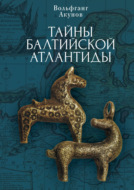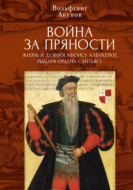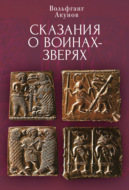Czytaj książkę: «Кинжальщики. Орден низаритов без легенд и мифов»

Светлой памяти моей жены Валерии

Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© В. В. Акунов, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2025
Зачин
Он на клинок дохнул – и жало
Его сирийского кинжала
Померкло в дымке голубой:
Под дымкой ярче заблистали
Узоры золота на стали
Своей червонною резьбой.
«Во имя Бога и пророка.
Прочти, слуга небес и рока,
Свой бранный клич: скажи, каким
Девизом твой клинок украшен?»
И он сказал: «Девиз мой страшен.
Он – тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».
«Элиф, Лам, Мим? Но эти знаки
Темны, как путь в загробном мраке:
Сокрыл их тайну Мохаммед…»
«Молчи, молчи! – сказал он строго, —
Нет в мире бога, кроме Бога,
Сильнее тайны – силы нет»
Иван Бунин. «Тайна».
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Автору настоящего правдивого повествования представляется необходимым предпослать его основному тексту несколько общих предварительных замечаний, весьма важных для понимания причин и механизма возникновения в рамках ислама враждебных течений, «партий» или «сект».
Основатель новой мировой религии – ислама – пророк Мухаммед учил своих приверженцев не сомневаться. Религия нищих мудрецов, прикровенно проповедующих спасительное учение – это отнюдь не ислам в том виде, в каком его замыслил Мухаммед. Он замыслил ислам, как молодую феодальную державу, и сам начал строить ее не только мечом духовным, который есть слово Божие, но и мечом земным, железным (не случайно сабля Мухаммада – знаменитый «зульфикар» – имела не одно острие, а два). Слова пророка Единого Бога Мухаммеда, опытного и расчетливого купца из славного и богатого города Мекки – были обращены не к «беглецам от мира сего», а, в первую очередь – к воинам и купцам, которые спешили мечом утвердить святую веру и получить торговые монополии.
Если бы у основателей предшествовавших исламу «мировых» религий были родные сыновья, они, вероятнее всего, стали бы такими же бездомными, странствующими по градам и весям подлунного мира, мудрецами и учителями нравственности, как и их отцы. Родных сыновей не имел и Мухаммед, но присоединившиеся к нему близкие родственниками стали феодалами, образовав аристократию созданной пророком духовно-светской мировой державы. Они были вполне реальны, царство их было «от мира сего» они боролись за место у трона пророка точно так же, как сыновья, племянники, братья и сестры светского феодала.
Секты и расколы в буддизме, зороастризме и других религиях пророческого (профетического) типа возникали, как правило, в связи с различиями в толковании учения. В исламском же мире возникновение расколов, толков, «сект» и «ересей» чаще всего определялось политическими причинами. Порой между мусульманскими толками не было разногласий в обрядах или вероучении – в недрах формально и внешне единой «нации ислама» – мусульманской «уммы» – бурлили чисто политические страсти. Центрами притяжения враждующих толков в исламе оказывались не столько идеи, сколько люди – нередко родственники Мухаммеда и последнего праведного халифа «хазрата»1 Али. И потому столкновения и даже войны между приверженцами разных толков ислама велись не столько вследствие того, что одни были «еретиками», а другие ими не являлись, сколько вследствие того, что вожди сектантов были выразителями центробежных процессов в созданной, в первую очередь, силой оружия исламской державе, претендовавшей на вселенскость. Перейдем, однако, непосредственно к низаритам…
Эти главные герои настоящей книги – члены тайного мусульманского ордена (орденом их впервые назвал австрийский ориенталист XIX века барон Йозеф фон Хаммер-Пургшталь), несомненно, обладали редкостной способностью (конечно, не врожденной, а благоприобретенной в процессе обучения) оказывать неотразимое психологическое воздействие на всех, кому приходилось иметь с ними дело. Причем не только на тех, с кем они вступали в контакт с целью привлечь в ряды своего орденского братства все новых и новых последователей, но и на врагов, внушая последним панический страх. Силы, многократно превосходящие их в численном отношении (а низариты никогда не были слишком многочисленными даже на самом пике своего движения), постоянно угрожали развивавшемуся вне сферы их влияния низаритскому движению, неоднократно пытаясь уничтожить его и истребить самую память о нем.
Первейшим и главнейшим врагом этого движения была огромная и могущественная, но внутренне непрочная и фактически раздробленная (несмотря не свое внешнее и официальное единство) Сельджукская держава, возглавляемая огузской (тюркской) по происхождению султанской2 династией (о которой, как и о тюрках вообще, еще будет подробней рассказано далее), сложившаяся на протяжении XI века на территории Ирана и окружающих Иран земель и простиравшаяся вплоть до самой Земли Воплощения – Сирии и Палестины. Низаритской группировке, несмотря на вопиющее неравенство сил, удалось устоять в ожесточенной борьбе не на жизнь, а на смерть с поистине гигантским по своим размерам и ресурсам Сельджукским султанатом… л ишь для того, чтобы быть уничтоженной еще более могущественной военной державой, подвергшей весь мусульманский Средний и Ближний Восток невиданному дотоле разгрому и почти тотальному опустошению – державою потомков величайшего монгольского, или татарского, Великого хана3 – каана – Темучина-Чингисхана…
Однако даже в эту грозную для низаритов пору, перед лицом монгольского нашествия, неотвратимо надвигавшегося на раздробленный, погрязший в междоусобных войнах, мусульманский мир, подобно опустошительному огню, страх перед неуловимыми «кинжальщиками» не пропадал. По-прежнему казалось, что нет места в обитаемом мире, до которого бы не дотянулась длинная рука низаритов.
Одна из низаритских крепостей (немало которых все еще удерживалось представителями тайного движения низаритов на территории Ирана и Сирии) упорно сопротивлялась непобедимым завоевателям на протяжении долгих тринадцати лет до самой своей сдачи в 1270 году. То обстоятельство, что ее осада заняла столь продолжительное время, служит ярким свидетельством панического страха, внушаемого низаритским движением своим врагам, опасавшимся оставить крепость столь опасных людей не взятой у себя в тылу. Другим подтверждением этого почти иррационального страха служит печальная судьба низаритского гарнизона взятой, наконец, монголами – не штурмом, а измором! – горной крепости. Выдающиеся мужество и выносливость гарнизона, стойко выдержавшего столь продолжительную осаду, несмотря на свое безнадежное положение, не могли не впечатлить победителей, умевших, как и сам их предводитель, «священный воитель» Чингисхан, ценить доблесть и мужество даже в противнике. Чего сами осаждающие, собственно говоря, и не скрывали. И потому защитники низаритской крепости, принужденные к сдаче, между прочим, нехваткой не только провизии, но и одежды (совершенно износившейся и превратившейся в лохмотья за тринадцать – или, по другой версии – даже семнадцать! – долгих лет осады), казалось бы, могли рассчитывать на снисхождение и пощаду. Но нет, страх монголов перед низаритами оказался сильнее их уважения к доблести противника. И все сдавшиеся низариты были поголовно перебиты монголами. Впрочем, в данном случае могло сыграть роковую для участи сдавшегося на милость беспощадных победителей стойкого гарнизона низаритской крепости роль и убийство низаритским «кинжальщиком» хана монголов Чагатая, одного из сыновей самого грозного «Потрясателя Вселенной» – Чингисхана…
Осознание «нами, нынешними», в полной мере, постоянного, тягостного чувства страха перед низаритами, испытываемого их современниками-иноверцами, имеет решающее значение для правильного понимания нами истоков, истории и характера этого движения. Поскольку сами «кинжальщики» не оставили о себе никаких письменных свидетельств, а избежавшие уничтожения, сохранившиеся и дошедшие до нас документы вышли главным образом из-под пера их противников, сложившееся – задним числом! – мнение о низаритах неизбежно несет на себе отпечаток предвзятости и негативного отношения. Наиболее сильное влияние на наши современные представления об истории низаритского движения и о самих низаритах, как о коварных, злобных, мстительных и кровожадных существах, вне всякого сомнения, оказали жившие в эпоху монгольского нашествия на мусульманский мир, имевшие иранское происхождение авторы хроник, уцелевших до наших дней – Ала ад-Дин Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни, Рашид ад-Дин Фазлуллах ибн Абуль-Хайр Али Хамадани и Абу аль-Касим Абдаллах Кашани.
Все они, в силу своих религиозных убеждений, были ярыми врагами низаритов. Все они основывали свои труды на оригинальных низаритских источниках, но никто из них не относился к низаритам дружелюбно, не считая нужным дать тем возможности оправдаться в возводимых на них недоброжелателями бесчисленных обвинениях, оспорить точку зрения враждебных низаризму историков, изложенную в их хрониках, или внести в них свои поправки.
Хотя Рашид ад-Дин и Джувейни, вероятно, опирались на одни и те же источники, их точки зрения на низаритов и подход к низаритской теме сильно различались. Рашид ад-Дин приводил больше фактов, чем Джувейни, а Джувейни высказывал больше оценок, чем Рашид ад-Дин». Джувейни служит наиболее наглядным и ярким примером крайне антинизаритского подхода, характеризующегося преувеличениями и передергиванием фактов, поэтому при работе с его трудами следует проявлять крайнюю осторожность. Он находился на службе у монголов в период, когда они искореняли низаритов на территории Ирана. Прежде чем разрушить в 1256 году мощнейшую твердыню «кинжальщиков» – крепость Аламут – монголы позволили «своему» иранскому историку ознакомиться с книгами хранившейся в Аламуте богатейшей библиотеки. Персидскому историку-коллаборационисту было также позволено взять себе те книги, которые представляли для него интерес и ценность, а все остальное – главным образом, религиозная литература с изложением низаритского вероучения – было сожжено на огромном «погребальном» костре, чье пламя, вздымавшееся до небес, свидетельствовало всему миру о конце независимого низаритского государства на территории Ирана. Пожалуй, редко когда историку предоставлялась лучшая возможность сформировать у своих читателей – современных и будущих – взгляд на предмет его писаний, и представление об истории, соответствующие его собственным…Следует признать, что Джувейни весьма умело воздействовал на сердца, души и умы своих слушателей и читателей, убеждая их в своей правоте. Именно в его обличительных словах следует искать истоки позднейших «черных легенд» о низаритах, обретших, в кривом зеркале иранского прислужника монголов-победителей, карикатурный образ проклятых Богом и богооставленных адских служителей – «мульхидов»4, отвратительных в своей жестокости, приспешников достойного проклятия Иблиса (дьявола), соблазняющих «малых сих» отречься от Аллаха и продать свои бессмертные души Шайтану (сатане)…
С учетом положения, которое перс-иранец Джувейни занимал при новой, монгольской власти, не следует удивляться его подходу к низаритской теме. Вскоре после падения Аламута монголы назначили ученого иранца правителем захваченного ими города Багдада – «богоданного града», недавней столицы аббасидских халифов, считавшихся духовными владыками всех мусульман-суннитов (к числу которых относился и Джувейни, закрывший, в данном случае глаза на жестокую казнь монголами плененного ими халифа, традиционно считавшегося повелителем всех правоверных – ведь мусульман иных толков суннитское большинство исповедников ислама считало вообще не мусульманами, а еретиками; впрочем, последние отвечали суннитам тем же). Подобное назначение поистине многого стоило… Не удивительно, что все сочинение Джувейни было пронизано резко и яро антинизаритским духом, порой оно прямо-таки дышит ненавистью к «нечестивым сектантам-безбожникам». Подобная позиция не была редкостью среди историков-суннитов, готовых славить принявших их на службу иноземных захватчиков за искоренение теми измаилитско-низаритской ереси в Иране… «Цари греков и франков, что бледнели от страха перед этими проклятыми, и платили им дань, и не стыдились такого бесчестья, теперь вкушали сладость покоя. И все обитатели мира, и в особенности правоверные, были избавлены от их злых козней и нечистой веры. И все человечество, высокие и низкие, вельможи и чернь, разделили это ликование».
Многое в подборе фактов и в манере изложения низаритской темы, характерных для Джувейни, заставляет задаться вопросом, был ли он непредвзятым и объективным историком, способным и желавшим подходить к предмету «без гнева и пристрастия», и усомниться в этом. Наглядным подтверждением обоснованности этих сомнений может служить хотя бы приведенный ниже комментарий Джувейни к сообщению о падении древнейшей и главнейшей низаритской крепости под названием Аламут:
«В этом рассаднике ереси, в Рудбаре (водообильной горной долине, образованной реками Шахруд и Аламут и служившей главным оплотом низаритов – В. А.) и Аламуте, родине порочных приверженцев Хасана ибн Саббаха (основателя низаритского «национал-революционного» тайного братства, о котором еще пойдет речь на дальнейших страницах нашего правдивого повествования – В. А.)… не осталось камня на камне. И в этом процветающем обиталище нововведений Художник прошедшей вечности написал пером насилия на портике каждого жилища строчку: “Эти их пустые дома – необитаемые развалины” <…>. И так был очищен мир, оскверненный их злом. И путники теперь идут своей дорогой без страха и опасений, и им не чинят неудобств взиманием пошлин, и они молятся за [продление] удачи счастливого царя (хана монголов Хулагу, уничтожившего низаритов – В. А.), который вырвал их с корнем и не оставил от них следа. И это деяние было истинным бальзамом на раны мусульман и исцелением недугов Веры. И пусть люди, которые придут после этого века и этой эпохи, знают, сколько зла они принесли и какое смятение посеяли в сердцах людей. Те, кто заключил с ними соглашение, будь то цари прошлых времен или современные правители, дрожали и трепетали [от страха за свою жизнь], а те, [кто] враждовал с ними, день и ночь были скованы ужасом перед их подлыми фаворитами. Эта была чаша, наполненная до краев, это был ветер, что лишь на время стих. «Это – напоминание для помнящих», и да покарает Аллах так же всех тиранов!» («Чингисхан. История завоевателя мира»).
Как бы то ни было, не безмерно гиперболизированное повествование Джувейни и его собратьев по перу и предвзятости (вряд ли доступное «христианам-франкам», наверняка не знакомым, в подавляющем большинстве своем, с сочинениями иранских историков), а во многом недостоверные сообщения «франкских», «латинских», западных хронистов – впрочем, по вполне понятным причинам – внесли наиболее весомый вклад в формирование исключительно негативного образа низарита, как фанатичного и безжалостного убийцы, на котором буквально «негде штампы ставить», в европейском сознании. Тайное движение «кинжальщиков» произвело поистине неизгладимое впечатление на «франкских» авторов, получавших сведения о нем (причем, чаще всего, из третьих и четвертых рук). В общем и целом их представление о низаритах сводилось к тому, что последние представляли собой зловещую, банду пребывающих где-то в глубоком подполье (и в то же время готовых в любой момент выскочить из-за ближайшего угла) безжалостных убийц, наносящих своим жертвам смертельные удары исподтишка, чаще всего оставаясь при этом безнаказанными.
Тот несомненный факт, что эти безжалостные «человекоубийцы» (известные не только как «низариты», «батиниты» и «хашишимы»5, но и как «фидаины», или «федави», то есть «готовые пожертвовать собой») не испытывали страха смерти, а совсем напротив, как бы стремились к смерти, напрашивались на нее, нисколько не ослаблял, но лишь усиливал впечатление, производимое тайным движением «кинжальщиков» на сознание из «франкских» современников. В этой ситуации зерно истины о низаризме оказывалось погребенным под великим множеством невольных или вольных искажений и откровенно фантастических измышлений.
Данная традиция не прервалась и по завершении эпохи Средневековья, «плавно» перейдя из нее в Новое, а затем – и в Новейшее время. Когда в просвещенном, как принято считать, XIX веке европейские историки начали проявлять интерес к низаритской теме, сложившиеся вокруг него мифы стали, как это ни странно, множиться, приобретая все более неправдоподобные и порой совершенно гротескные формы. И лишь благодаря самоотверженному труду многих историков прошлого, XX века к истории низаритов стал проявляться более взвешенный, более сбалансированный подход, и маятник исторической науки стал двигаться в обратном направлении, от легенды обратно к истории. В результате усилий непредвзятых и лишенных антинизаритских предрассудков историков XX века мрачные, непроглядные тучи, затемнявшие так долго наш взгляд на низаритов, начали постепенно рассеиваться. Тем не менее, налет мифологии, по-прежнему окутывающий историю низаритов, остается настолько густым, а число достоверных источников об исторически реальном низаритском движении – столь ограниченным, что шансы на восстановление всей полноты правды о низаритах в их исторической перспективе весьма невелики.
Поскольку сами низариты не оставили о себе почти никаких исторических свидетельств, с самого момента возникновения низаритского движения стали возникать всякого рода легенды и мифы о нем. Разгром исторических низаритов монгольскими захватчиками лишил низаритское движение последней возможности защитить себя от все более чудовищных измышлений и обвинений, возводимых на них их противниками. Хотя они выжили и продолжали существовать долгие века после постигшей их катастрофы, ускользнув, пусть в сравнительно, небольшом числе, из рук беспощадных монгольских карателей, созданные низаритами независимые самостоятельные государства прекратили свое существование раз и навсегда. Уцелевшим низаритам пришлось удовольствоваться существованием в рамках относительно небольших, как правило, весьма уединенных, общин, влачивших свою жизнь в условиях строжайшей изоляции. И врагам низаритов уже никто не мог помешать писать и говорить о низаритах что угодно, не опасаясь ни малейших возражений и попыток оспорить или хотя бы поставить под сомнения все более дикие, безумные и яростные обвинения, возводимые на побежденных…Что называется, «игра в одни ворота»…Стоит ли удивляться тому, что в этих условиях расцвел столь пышным цветом миф об «ассасинах», под влиянием которого оказался целый ряд писателей, включая не только таких вдохновенных мастеров пера, как Василий Григорьевич Ян, Лев Николаевич Гумилев, Морис Давидович Симашко или Игорь Всеволодович Можейко, но и пишущего настоящие строки бумагомарателя (в нескольких его предыдущих книгах)?
Ядро и сердцевину этого мифа составляло представление о практикуемых «ассасинами» постоянных политических убийствах как главном и чуть ли не единственном средстве обеспечения существования их «скрытого», «глубинного» государства. Между тем, использование низаритами убийц-смертников было не более чем отработанным на протяжении долгой борьбы за выживание защитным механизмом, созданным гонимой многочисленными врагами группировкой, находившейся в безнадежно проигрышном положении, как с точки зрения численности, как и с точки зрения военно-политического могущества, по сравнению с ресурсами ее противников. В реальности же практика политических убийств была отнюдь не единственным, но лишь одним из средств низаритской стратегии, предусматривавшей, наряду с использованием, в зависимости от обстоятельств, террористических актов, строительство сильно укрепленных крепостей-убежищ в труднодоступных горных районах, в которых можно было укрыться в моменты наибольшей внешней угрозы, а также чрезвычайной (и в некоторых случаях – прямо-таки поразительной, если не сказать – обескураживающей!) гибкости, присущей низаритам способности изменять своим, казалось бы, священным ценностям и убеждениям, политическим взглядам и союзам и даже религиозным воззрениям, причем изменять мгновенно, почти молниеносно. Один из применяемых низаритами тактических приемов всегда доставлял историкам, изучающим низаризм, немало трудностей, и, возможно, создавал порою неуверенность в умах и душах, самих членов низаритского движения, внося в них немалую долю сомнений и смущения. Речь идет о тактическом приеме, именуемом «такийя» (что в буквальном переводе с арабского языка означает «мысленная оговорка», «благоразумие», «осмотрительность» или «осторожность»). В рамках данной концепции своеобразного «разумного оппортунизма» низаритам дозволялось скрывать свои подлинные взгляды, верования и убеждения во избежание тех или иных опасностей, невзгод и неудобств. Вплоть до допущения отречения от собственной веры, как средства сохранения жизни. Это называлось «благоразумным сокрытием своей веры ради высшей цели и высшего блага (то есть – для блага своей религиозной общины)», и вполне могло послужить образцом и моделью поведения для членов позднейшего «франкского» ордена иезуитов с его девизами «к вящей славе Божьей» и «цель оправдывает (или, буквально, «освящает» – В. А.) средства». Как говорится, притворно клянись и лжесвидетельствуй, но тайны раскрывать не смей…
Справедливости ради, следует заметить, что к тактическому приему «такийи» издавна прибегали не только низариты и не только измаилиты, но и мусульмане-шииты вообще. Это «благоразумное сокрытие своей веры» издавна считалось (и считается) одним из руководящих принципов шиизма. Порою не только шиитские, но и суннитские богословы обосновывали дозволенность «такийи» стихами-аятами священного Корана и сунной (преданиями о жизни) пророка Мухаммеда (чье имя означает по-арабски «Достохвальный»), указывая на то, что Коран допускает в случае крайней необходимости внешнее отречение от веры, дружбу с неверными, нарушение ритуальных предписаний. Как и на то, что во времена пророка Мухаммеда один из первых сподвижников пророка – Аммар ибн Ясир – был вынужден формально отречься от ислама, но сохранил в сердце истинную веру.
Тайный характер шиитской пропаганды («дават») и периодические гонения на шиитов привели не только к одобрению их руководителями практики «благоразумного сокрытия своей веры», но и к возведению ее в один из руководящих принципов шиизма. Шиитская «такийя» может применяться как для обеспечения личной безопасности правоверного, так и во имя соблюдения интересов всей общины верующих. Разработку принципа «такийи» и возведение ее в степень религиозной обязанности шииты связывают с именем шестого имама Джафара ас-Садика, умершего в 765 году (о том, кто такие имамы, будет подробно рассказано на дальнейших страницах настоящего правдивого повествования). При этом, в отличие от суннитов, допускавших «такийю» как средство самозащиты, средневековые богословы-шииты со временем стали рассматривать ее как долг и обязанность общественного значения. Но довольно об этом…
Как легко может убедиться уважаемый читатель, у низаритского тайногоордена имелись веские основания принять на вооружение тактику «такийи», отнюдь не являвшейся неким волюнтаристским нововведением основателя низаризма Хасана ибн-Саббаха (или Хасана-и-Саббаха), но восходившей к временам возникновения ислама как такового. Руководитель низаритского ордена (чье мнение считалось его последователями всегда безошибочным и неоспоримым, даже если он называл сегодня белым то, что еще вчера называл черным) был волен в любой момент объявить, что все предыдущие торжественные заявления об исповедуемых низаритами религиозных убеждениях отныне лишались всякой силы и теряли всякое значение. Мгновенное изменение низаритами своей политики на диаметрально, прямо противоположную, практиковалось сплошь и рядом с целью облегчения и оправдания расторжения прежних политических союзов и заключения, вместо них, новых союзов, со вчерашними, казалось бы, непримиримыми противниками и смертельными врагами. Эта казавшаяся пристрастным посторонним наблюдателям подобных «трансформаций» чистой воды оппортунизмом необычайная «политико-идеологическая гибкость» порой сбивала с толку и самих последователей низаризма, не всегда успевавших уловить перемену политического ветра, пере(на)строиться в соответствии с изменением политического вектора и уклоняться в ту или иную сторону, в соответствии с изменением «генеральной линии партии». Но изощренные в казуистике низаритские теоретики и богословы всегда ухитрялись представить очередной религиозно-политический «кульбит» главы движения как вполне законное средство манипуляции противниками низаризма, освященное традициями Корана и сунны.
Конечно, концепция «такийи», рассматриваемая ее критиками как «беспринципное приспособленчество» или «отъявленный оппортунизм», на первый взгляд представляется лишенной особой привлекательности и наверняка не раз смущала последователей низаритского движения. Вероятно, она также помогала сторонникам низаризма оправдывать, задним числом, очередную «смену курса», утверждая, что руководители низаритскогоордена никогда не были беспринципными оппортунистами, но всегда шли единственно верным путем, а их кажущиеся «идеологические шатания» служили лишь для отвода глаз политических оппонентов движения. «Такийя» дала критикам низаризма и творцам «черного» мифа о «вероломных ассасинах» дополнительный повод ставить им в вину постоянное двуличие и лицемерие, придававшее обраставшему легендами движению еще более зловещий характер. Однако именно «такийя» оказалась на поверку вполне оправданной и чрезвычайно успешной тактикой, обеспечивавшей низаритскому движению возможность существовать в качестве самостоятельной силы на протяжении куда более продолжительного периода времени, чем можно было ожидать, исходя из имевшихся в распоряжении этого движения достаточно ограниченных ресурсов. Именно в неизменной верности принципу «такийи» лежит ключ к пониманию удивительной жизнеспособности низаритов и их поразительной приспособляемости к меняющимся внешним обстоятельствам и условиям существования в неизменно враждебной среде. Ибо, как уже говорилось выше, низаризм всегда выживал благодаря своей гибкости и своей способности адаптироваться к процессу исторической эволюции.
Понимание этих факторов помогает развеять мифологический туман, окутывающий низарииский орден как факт реальной истории. На дальнейших страницах настоящего правдивого повествования его автор постарается отделить зёрна от плевел и факты от легенд. Это – дело далеко не простое и требующее немалого времени, в отличие от простого пересказа современным языком сочинений авторов времен давно прошедших. Тем не менее, использование современных представлений и подходов помогает разоблачить многие из глубоко укоренившихся за долгие века в людских умах мифов об «ассасинах». Усилия упомянутых выше и других современных исследователей помогли ввести низаритское движение в определенный реально-исторический контекст. Благодаря их исследованиям мы приблизились к правильной и достоверной оценки места, занимаемого низаритским орденом в истории Средневековья и в мировой истории вообще.
Но, невзирая ни на что, удивительно живучая «черная легенда» о вечно жаждущих крови «убийцах-ассасинах» продолжает существовать и сохранять для многих свою привлекательность и в наши дни, в том числе и потому, что она, несомненно, основывается и на подлинных фактах. Не может быть никаких сомнений в том, что множество террористических актов, приписываемых низаритам, действительно были совершены именно ими. Хотя в отдельных случаях вопрос о причастности низаритов к тому или иному громкому политическому убийству может и должен быть предметом обсуждения. Ибо нередко политические отношения низаритов с жертвой приписываемого им террористического акта на момент его совершения были отнюдь не враждебными, а нейтральными, дружественными или даже союзными (что ставит под сомнение целесообразность ликвидации данного «объекта» с точки зрения низаритов). Однако вся нарисованная усилиями творцов легенд и мифов, не пожалевших черной краски для «безбожных и вероломных кинжальщиков», картина «низаритского беспредела» продолжает свое существование (причем не только в компьютерных играх и комиксах), хотя является не более чем карикатурой на историческую реальность.
От мрачного очарования этой «черной легенды» не оказались застрахованными даже многие поистине великие историки. Например, сэр Стивен Рансиман, автор классической «Истории крестовых походов», писал о теснимых мусульманами «франках» Заморья, что никто из них не знал, сможет ли он избежать удара наточенного на него ножа приверженца ассасинов. Однако, несмотря на огромное впечатление, производимое представителями низаритской группировки как на индивидуальное сознание каждого «франка», так и на коллективное сознание «франкского» Запада, трезвомыслящие современные историки (например, Фархад Дафтари, хотя порой и «перегибающий палку» в своем нескрываемом «низаритофильстве») склоняются к мнению, что, в отличие от утверждений «черной легенды», в действительности жертвами низаритов, направлявших острие своего террора главным образом на выдающихся представителей не христианского, а исламского мира, пало не более пяти «франков».
Исполнителями «ассасинских» террористических актов, согласно популярным представлениям, вошедшим, прежде всего, в художественную литературу (вплоть до знаменитого романа «Граф Монте-Кристо» любимого писателя наших детства-отрочества-юности Александра Дюма-отца) были якобы слепые фанатики, находившиеся в состоянии наркотического безумия. И это – вопреки тому факту, что «кинжальщики» грозного главы низаритского ордена – «Горного старца» действовали всегда с холодным, трезвым, безошибочным расчетом, на что люди, одурманенные наркотиками, просто не были бы способны. Для характерного для низаритов поистине виртуозного совершения терактов требовались глазомер, быстрота, точность и твердая, верная рука, чего, как по отдельности, так и в совокупности, вряд ли можно было ожидать от наркоманов. Да и часто приводимое сравнение низаритских «фидаинов»-«федави» с людьми, пусть и не опьяненными наркотиками, но находящимися в состоянии малайского «амока», также абсолютно некорректно, ибо последние, в своем состоянии слепой ярости, или одержимости, способны убить первого попавшегося, случайного человека, но не заранее выбранную и тщательно выслеженную жертву. Существует основанное на утверждениях средневековых «франкских» хронистов стойкое представление (а у многих – даже убеждение), согласно которому «ассасины» были готовы, по первому же щелчку пальцев своего главы, мгновенно напороться грудью на торчащие из стены железные острия или бестрепетно спрыгнуть в пропасть с высокой башни своей горной крепости-убежища – только ради того, чтобы продемонстрировать свою слепую преданность «Горному старцу» и полное пренебрежение собственной жизнью. Что они якобы владели искусством превращаться в призраки и даже становиться невидимками (совсем как японские ниндзя). Что, сделавшись невидимыми, «кинжальщики» были способны прокрадываться совершенно незамеченными через ряды вооруженных до зубов телохранителей своей будущей жертвы и успешно выполнять порученное им задание.