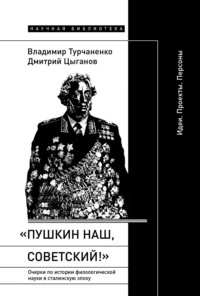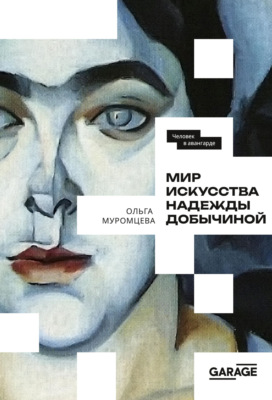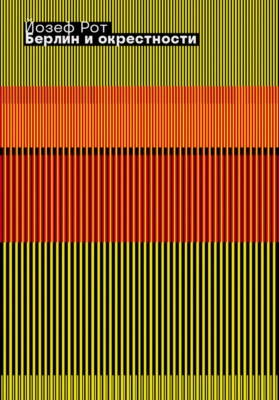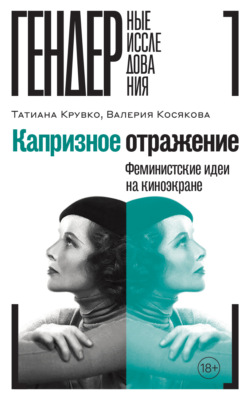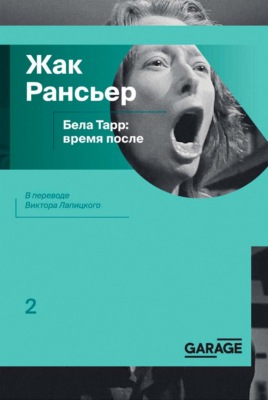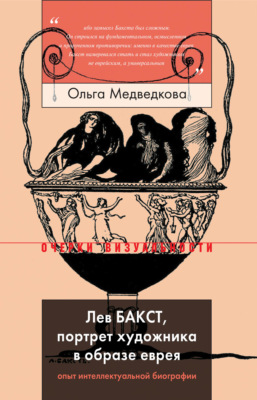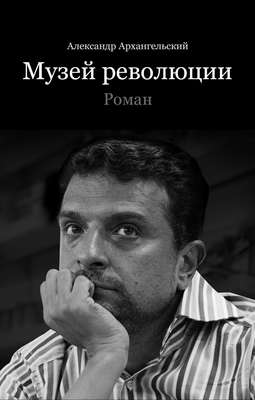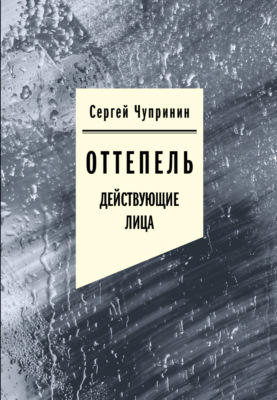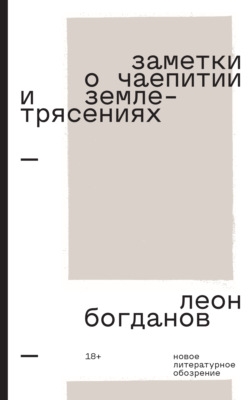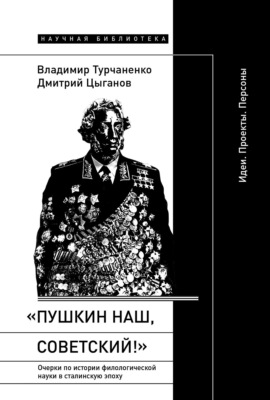Czytaj książkę: ««Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны», strona 3
Часть I
Глава первая
Овладеть литературным наследством
Классика и классическое в советской эстетической теории (1920‑е – середина 1930‑х годов)
Традиция – это мягкая подушка, которая подкладывается на жесткий стул яркой индивидуальности. Сидя на ней, художник должен смотреть в века – грядущие, а не назад.
В. В. Виноградов. Из письма Н. М. Малышевой-Виноградовой (20 апреля 1926 года)
Передача литературного наследства всегда происходила и может происходить по линии классовых связей, классовой близости, родства.
Н. Я. Берковский. Стилевые проблемы пролетарской прозы (1927)
Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого.
В. В. Маяковский. Баня (1930)
Многие слышали признание одного пролетарского писателя:
– Перед тем как начать писать, я снимаю с полки Чехова, Толстого… Почитаю, почитаю, потом сам сажусь и, смотришь, наковыряю что-нибудь.
Когда мы слышим это признание, нам невольно рисуется богадельня, но странная богадельня. Писатель садится за стол, а рядом с ним гроб с классиком. Писатель за перо, классик из гроба протягивает руку и водит рукою писателя.
Из черновых наметок творческих положений московской группы РАПП «Кузница» (1931)
1
1920‑е годы были отмечены затуханием авангардного импульса, сопутствовавшего революционному перевороту, и усилением реставрационных тенденций, которые способствовали стремительному преодолению интеллектуального разрыва с прежней культурой. Некогда отринутая «художественная традиция» тогда не только становилась ценностной опорой утверждавшейся власти, но и позволяла представителям «нового» искусства в первые пореволюционные годы локализовать собственную художественную практику на эстетически не упорядоченном культурном поле. Однако «художественная традиция» в то время еще не существовала как нечто раз и навсегда определенное, застывшее в своем величии: те институциональные механизмы, работа которых была отлажена в еще имперской России, отчасти продолжали поддерживать общее представление об иерархически упорядоченном и тем не менее подвижном устройстве литературной культуры XIX столетия, но у подавляющего большинства населения – малограмотных или неграмотных полуурбанизированных крестьян – попросту отсутствовало целостное представление об этой литературной культуре. Иными словами, понимание классики и классического разнилось в зависимости от общего уровня «культурности»: у той части социума, которая была непосредственно занята культурным производством, это понимание было вариативным, то есть обусловленным конкретными эстетическими или идеологическими задачами, у другой части – фрагментарным, то есть обусловленным не вполне конкретными знаниями, а также личными или навязанными читательскими пристрастиями, а у третьей части такое представление отсутствовало вовсе. Такое положение дел оказывалось благоприятным для осуществления партийного проекта по (пере)созданию литературной классики, так как нецельное и потому податливое расфокусированное массовое сознание тогда уже было готово усвоить идею новой эстетической иерархии – классического канона русской культуры.
Ведущую роль в деле формирования нового представления о классике играла раннесоветская издательская политика55. Вопрос об образовании государственного издательства встал едва ли не на следующий день после осуществления Октябрьского переворота. Так, на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в Смольном В. Д. Бонч-Бруевич предложил положить в основу новой издательской политики именно публикацию собраний сочинений классиков русской литературы. Уже в конце ноября 1917 года была урегулирована правовая сторона вопроса: члены Государственной комиссии по просвещению пришли к решению, что издание литературных произведений станет вопросом ведения государства спустя пять лет после смерти автора. Тогда же по итогам слушания доклада П. И. Лебедева-Полянского Совнарком своим решением учредил Литературно-издательский отдел Наркомпроса (ЛИО), ставший первым советским органом книгоиздания – «государственным издательством»56. В ведение соответствующей секции Отдела входили вопросы подготовки и издания собраний сочинений отечественных классиков и томов массовой «Народной библиотеки» (такой способ издания литературных произведений был закреплен в Декрете о Государственном издательстве, принятом 11 января 1918 года57. При ЛИО была создана специальная Литературно-художественная комиссия, которую возглавил П. И. Лебедев-Полянский. А. А. Блок писал в дневнике: «Дело комиссии – выработать план издания классиков по-новому (шрифты, формат, новая орфография, иллюстрации, бумага, медицинская точка зрения и мн. др.)»58. Именно на заседаниях этой комиссии впервые было выдвинуто предложение о «монополизации классиков». Позднее, 20 мая 1919 года, путем слияния издательств ВЦИКа, Московского и Петроградского Советов рабочих и красноармейских депутатов, специализированного издательства политической литературы «Коммунист» и Литературно-издательского отдела Наркомпроса было образовано Государственное издательство РСФСР (Госиздат) – крупнейшее книгоиздательское предприятие, которое возглавил В. В. Воровский. Согласно принятому тогда же Положению, не только почти вся издательская деятельность (включая издание классиков), но и работа по «распределению литературных и художественных изданий» отныне курировались Госиздатом. В 1919–1921 годах им было выпущено более 40 наименований текстов классической литературы, среди которых произведения Герцена, Гоголя, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова и др.59
Критическая дискуссия о классике и классическом и их месте в «новой» культуре берет начало еще в модернистских исканиях рубежа веков, а ее содержание в те годы отнюдь не исчерпывается стремлением наиболее радикальных авангардных групп «…бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности»60. Почти каждое эстетически самостоятельное объединение пыталось предложить собственную стратегию взаимодействия с художественной традицией61; множество этих разнонаправленных стратегий оформили дискурсивный арсенал для работы с наследием в диапазоне от категорического отрицания (например, Пролеткультом или ЛЕФом) до производства ностальгических ремейков. Революционные события существенно упростили модернистскую множественность апроприационных практик62 и свели их к нейтральной производственнической логике напостовцев – рапповцев. В рамках этой концепции вопрос об отношении теоретиков и практиков пролетарской культуры к «наследству» сопрягался с вопросом о мастерстве «наследника»; проблема же мастерства провоцировала усиление самокритических настроений внутри творческого сообщества63, которое обрекалось партийным начальством на вечное ученичество.
В начале 1920‑х годов потребность в самоопределении привела участников многочисленных литературных группировок к необходимости концептуализировать свое отношение к классике. Важность этого шага осознавалась всеми, так как от того, насколько убедительно теоретикам удастся простроить идейные взаимоотношения с художественной традицией, зависело не только положение того или иного объединения на литературном поле, но и перспектива его дальнейшего существования. Активнее всех в этом процессе заявил о себе провластный («пролетарский») «Октябрь», руководители и участники которого в 1923–1924 годах развернули на страницах журнала «На посту» широкое обсуждение проблемы взаимодействия с «культурным наследством». (Несколькими годами позднее Коган писал о творческих принципах, о трех путях критики напостовцев:
Первое: ни слова о форме, важна только тенденция. Второе: никаких полетов, никаких художественных обобщений, переходящих за границы сегодняшнего дня, все, что может хотя бы на минуту отвлечь от работы данного момента, должно быть изгнано из литературы, как зловредное мечтательство. Третье: резкий разрыв с прошлым, отречение от всяких традиций, строительство на голом месте, поэту полезно читать «Экономическую жизнь», но нигде не упоминается о полезности ознакомления с художественными образцами, с великими предшественниками, о необходимости усвоения своего мастерства64.)
Поводом к началу полемики стало появление статьи редактора «Красной нови» и идеолога «Перевала» А. К. Воронского «О хлесткой фразе и классиках (К вопросу о наших литературных разногласиях)»65. Этот текст – реакция критика на появление первого, июньского, номера «На посту» – по своей прагматике был намного сложнее и выходил за первоначально намеченные рамки «статьи по поводу». (Примечательно, что само слово «классика» встречается в первом номере журнала лишь несколько раз в нейтральных контекстах; однако напостовцы упоминали конкретные имена, в том числе имя Пушкина66.) Дискурс ответных статей показывает, что напостовцы хорошо понимали, что поражение в намеренно начатом Воронским споре о классиках грозило им и всей пролетарской эстетической платформе не только символическим, но даже физическим устранением с арены идейных столкновений. Дело в том, что уже в самом начале статьи Воронский, хорошо знакомый с правилами «литературной борьбы», атаковал напостовцев, подчеркнув, что «ими допущен целый ряд серьезных промахов и упущений»67. Критик, в статье «На перевале» (с подзаголовком «Дела литературные»; опубл.: Красная новь. 1923. № 6) провозгласивший лозунг «Вперед к классикам, к Гоголю, к Толстому, к Щедрину», указывал на то, что напостовцы предлагают упрощенческую и примитивную интерпретацию литературной жизни прошлого:
Буржуазно-помещичья литература, разумеется, имеет общие черты, свойственные только ей; тем не менее рассматривать ее исключительно как нечто единое, цельное, значит заранее запутаться в общих фразах, в общих местах, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу. Это – в лучшем случае, а в худшем такая точка зрения должна привести к ряду самых печальных недоразумений и ошибок. Буржуазная литература жила и развивалась вместе со своим классом. Было время, когда буржуазия боролась с феодализмом, когда она была революционна. Тогда и наука, и искусство было революционны; после побед был период зрелости, равновесия, полнокровия, здоровья, расцвета; в эту эпоху буржуазия и в области науки, и в области литературы дала несравненные образцы творения мысли и чувства; наконец, наша эпоха – эпоха распада, упадка, разложения, умирания буржуазного общества, и этому соответствуют упадок, регресс и контрреволюционность и в науке, и в искусстве. Различие между литературой буржуазии эпохи Sturm und Drang’a и литературой последних десятилетий такое же примерно, какое существует между материализмом Гольбаха и Гельвеция и современной философией Бергсона, Кайзерлинга, Шпенглера. Приблизительно такая же дистанция может быть указана и при сравнении нашей эпохи с эпохой зрелости и расцвета буржуазии. Сочинения Гольбаха, Гельвеция, Фейербаха, Дарвина и т. д. до сих пор лежат в основе коммунистического образования. В равной мере не подлежит сомнениям благотворная положительная роль Мольера, Бомарше, Гейне, Гёте, а из более ранних – Сервантеса, Шекспира и т. д. Взять в общую скобку эту литературу и современных Маринетти и Д’Ануннцио (sic!), свалить всех в одну кучу, наклеив ярлык «буржуазный», значит отделаться от серьезного вопроса пустопорожней, хлесткой фразой.
Или возьмем нашу русскую литературу. Неверно, что старая русская литература отражала только навыки и чувства богачей, дворян и князей. <…> Наши разночинцы писали не только о своих навыках и чувствах; в своих произведениях они главное внимание сосредоточивали на крестьянине, на бедноте, на общих условиях царского строя. Достаточно вспомнить Некрасова, Успенского, Короленко, а из критиков-публицистов – Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. <…> Даже тогда, когда русская интеллигенция, после 1905 г., стала «умнеть», отходить от революции, преемственность и связь литературы с литературой разночинцев никогда не нарушалась. М. Горький, И. Шмелев, В. Вересаев, Ив. Вольнов, Серафимович, Скиталец отправлялись от лучших заветов шести- и семидесятников68.
И далее:
Мы ни на минуту не сомневаемся, что все это не хуже нас известно редакции «На посту» – но привычка оперировать где попало словами «буржуазный», «контрреволюционный», но общий схематизм, но увлечение хлесткой фразой, но невнимательное и неряшливое отношение к вопросам литературной жизни в прошлом и в настоящем, но размах с плеча там, где требуется утонченное и осмотрительное отношение к вопросу, но развязность, но уверенность, что писатель все проглотит, лишь бы было горячо, – приводит к общим местам и положениям, звучащим твердо и неукоснительно, но, к сожалению, без достаточных оснований, если не считать достаточным основанием, употребляя выражение одного урядника, «легкость и бодрость в функции» и героическую решимость блуждать даже в трех соснах69.
Вердикт напостовцам прозвучал отчетливо и внятно: «<…> они, – утверждал Воронский, – нигде не проводят грани между суб<ъ>ективным и об<ъ>ективным в художественном произведении, отчего „идеология“ целиком совпадает с содержанием»70. Обвинение это было прямым и резким, и состояло в том, что пролеткритика отказывала «новой» литературе в истории: вопреки положениям марксистской историософии, революционная случайность, а не эволюционная закономерность становилась первопричиной существования «советской культуры» как «надстройки», оторванной от «базиса».
Тезис о неизбежной и необходимой политизации литературного творчества стал, с одной стороны, стимулом к обострению конкурентной борьбы, а с другой – поводом к отрицанию значимости непролетарских – «попутнических» (Л. Д. Троцкий) – литературных групп и отдельных авторов71. В статье «Под обстрелом», опубликованной в 1923 году в сдвоенном номере журнала «На посту», С. А. Родов, полемизируя с А. К. Воронским, писал:
Но как бы то ни было, по существу большинство современных «попутчиков», «попутчиков» 6‑го года революции – писатели буржуазные. Они последние остатки литературы «упадка, регресса и контрреволюционности». Не только по идеологии, но и по форме попутчики исходят не от классиков, а от писателей эпохи упадка. Не от Пушкина и Толстого отправляется в своем творчестве Пильняк, а от Ремизова и А. Белого; не Гоголь и Щедрин служат примером Зощенко, а Замятин и Лесков; не Гейне и Шекспир вдохновляют Каверина и других «серапионов», а Гофман; и т. д., и т. д. С классиками современные буржуазные писатели и попутчики имеют очень мало общего.
Поэтому напрасно хочет уверить нас Воронский в том, что «замахнувшись на попутчиков, наши критики естественно замахнулись и на эту (классическую) литературу». Вовсе нет. Замахнувшись на попутчиков (и вовсе не на всех), мы прежде всего замахнулись на гниль и мерзость трупа, который хочет потащить за собой в могилу живых строителей будущего; мы вскрываем дряблость и слабодушие последних певцов обреченного класса72.

Илл. 2. И. С. Нович. Дерево современной литературы. Рисунок опубликован в журнале «На литературном посту» (1926. № 3. С. 24–25)
Отношение к классике, творческая генеалогия авторов-современников становились для напостовцев критериями, позволяющими провести черту различия между «своими» и «чужими»73. (Эта же тактика инструментализации «культурного наследства» характеризует наднациональную литературную борьбу других эпох, однако ни один из предшествующих периодов не характеризовался таким разнообразием интерпретационных спекуляций.)
Спекуляция с именами классиков в те годы стала одним из действенных средств в обострявшейся литературной борьбе. Г. Лелевич в программной статье «Партийная политика в искусстве» развил линию, намеченную Родовым в цитировавшемся выше фрагменте:
Неверно, что у нас есть только «еще неоплаченные векселя под будущую пролетарскую литературу». Эти векселя в значительной степени уже оплачены. Демьян Бедный, Безыменский, Александровский, Гладков, Либединский, Кириллов, Доронин, Ляшко, Обрадович, Жаров, Голодный, Садофьев, Самобытник и много других, – все это художники, если и не являющиеся пролетарскими Пушкиными, то, во всяком случае, не уступающие в художественном отношении Полонским, Слонимским, Зощенкам, Никитиным и иным. Имеются свидетельства на этот счет людей достаточно компетентных и беспристрастных74.
Заявленная тогда же претензия напостовцев на профессионализацию своих литературно-критических занятий предполагала перемену в отношении к некогда отринутому ими «наследству». Авторитетное обоснование напостовская претензия на создание «новой классики» получила в статье А. В. Луначарского «Читайте классиков» (опубл.: Комсомольская правда. 1925. № 53):
Растет класс – растет и его самосознание, растет и его литература. Она приобретает необыкновенно напряженно яркий, острый характер, когда класс вступает в борьбу с господствующим классом за власть. В такие годы подымающийся класс считается выразителем всех попранных интересов народа и создает широкое миросозерцание с очень далеко идущими выводами, освещенными более или менее общечеловеческими идеалами.
Если подымающемуся классу суждено овладеть властью, то в первый период, пока он устраивается, пока он создает основы государства согласно своему пониманию и пока народные массы продолжают видеть в нем единственного естественного устроителя новой жизни, литература начинает ярко процветать. К этому времени ее бурнопламенность, неудовлетворенность, кипучее бунтарство выветриваются, класс сознает себя господином, защищает это свое господство. Он спокоен, он уравновешен, он находится в своем зените – и в это время выливается в классические формы его литература. <…>
Из этой схемы видно, что одна и та же нация может пережить и несколько классических эпох75.
Тезис о возможном повторении «классической эпохи»76, «новом преломлении классики»77 был не столько очередным фантазмом утопического сознания, сколько оправданием набиравшего силу социалистического («пролетарского») литературного проекта78. Луначарский, следуя за интеллектуальными веяниями начала 1920‑х, связывает вопрос о классике не только с тернарной оппозицией «романтизм – реализм – классика», но и с проблемой художественного качества79:
Так как выражение «классическая» не всегда употребляется только в смысле равновесия содержания и формы, строгости вкуса, законченности, но и вообще в смысле образцового, сильного, в своем роде лучшего произведения, то и самые могучие писатели среди романтиков и реалистов тоже часто носят название классиков. Получаются как бы внутренние противоречивые выражения – классики романтизма, классики реализма80.
Однако, по Луначарскому, никакого противоречия в таком «разумном присвоении» всего «лучшего» из унаследованной культуры прошлого не может быть, потому как всякий литературный материал может стать для подрастающего поколения пролетарских авторов если не источником актуальных идеологических установок, то хотя бы собранием технических приемов:
Когда пролетариат создает свою собственную литературу – сперва пролетарскую, а потом и общечеловеческую, – на той небывалой по мощности базе, какой является социалистическое производство, то классики прошлых веков и всех родов, равно как и всякие другие писатели и художники, не признанные образцовыми, превратятся просто в музейно-исторический материал, интересный для понимания прошлого. Но пока пролетариат находится только в пути, в смысле развития своей культуры, классики являются для него очень важным подспорьем в деле повышения художественного умения. Естественно поэтому, что пролетариат питает большой интерес к классикам, во-первых, потому, что он хочет знать прошлое своей страны и человечества, а оно нигде не говорит таким ясным и увлекательным языком, как в произведениях великих писателей, и, во-вторых, потому, что эти писатели прошлого часто выражают очень близкие пролетариату настроения или, по крайней мере, отдельные черты его и притом лучше, чем может выразить молодая литература класса, самые крупные дарования которого отвлечены задачами прямой борьбы и сурового труда81.
Именно поэтому «дворянская литература <1820–1860‑х годов> <…> являет собою нечто необыкновенно блестящее и заслуживающее глубокого изучения»82. Как уже было сказано, формулирование новых задач, которые должны стоять перед писателем, неизбежно сопрягалось с рефлексией над путем, уже пройденным классиками прошлого83; точнее многих об этом писал активный участник литературной жизни Саратова 1920‑х Л. А. Словохотов:
Задача поворота к классикам – заставить всякого крайнего индивидуалиста в словотворчестве вспоминать о великой регистратуре словооборота в толковом словаре Даля. Задача поворота к классикам – заставить нового писателя задуматься над формулой художественного суверенитета: «я так вижу, я так хочу», и сообразоваться с массами. Задача поворота к классикам – взять с вершин человечества то, что там есть84.
Осознание этой необходимости ориентировало не только литературных «ударников», которых старались информировать о выходивших материалах85, но и книгоиздателей, перед которыми стояла цель издания востребованной классической литературы (не только русской, но и зарубежной). К середине 1920‑х сложилась весьма парадоксальная ситуация с распространением классики через книжный рынок. В январском 1925 года выступлении на Всероссийской конференции пролетарских писателей В. И. Нарбут – тогда заместитель заведующего Отделом печати при ЦК ВКП(б) – отмечал:
переходя к следующей рубрике, русским классикам, я должен поделиться с вами такими данными: хорошо идут Герцен, Гончаров, Степняк-Кравчинский, Омулевский – они прошли примерно от 7 до 12 тысяч. Грибоедов, Гаршин по 10 000. За короткое время прошел Лев Толстой, только «Война и мир» не ниже 10 000, a прочее в 50% лежит. Средне прошли Достоевский, Короленко, Чехов, Лермонтов – имеют среднее движение. Плохо идут – Добролюбов, Овсяннико-Куликовский (sic!) (его я также причислил, не знаю вправе ли я был это делать). Он стоит из 10 000, и Добролюбова, и Овсянико-Куликовского, 8000 обратилось в прах. <…> Тютчев и Тургенев идут плохо. Пушкин – из 10 000 лежит 800086.
Р. Магуайр в книге Red Virgin Soil: Soviet Literature in the 1920s (1968) внятно описал тот логический парадокс, на котором основывалось построение издательских планов классической литературы:
Большая часть марксистов в то время полагала, что почти всей русской классике можно найти место в советской структуре, так что в этом вопросе высокие партийные чины добились согласия, чего не сумели сделать в споре о пролетарской культуре. <…> Собственно говоря, правительство фактически предрешило этот вопрос, «национализировав» классиков в 1918 году вместе с художественными галереями, музеями и другими хранилищами национального наследия; и с тех пор соблюдалась здоровая пропорция при переиздании классиков в соотношении с новыми книгами. Общие установки должны были действовать автоматически согласно политике, известной под наименованием «выборочный подход», который фактически устанавливал шкалу идеологической ценности – от приемлемых книг до неприемлемых – и выстраивал по ней писателей. Предпочтение отдавалось политическим мученикам, таким как Радищев и Рылеев; некоторым сатирикам, таким как Салтыков-Щедрин, тем «натуралистам», которые рисовали особенно неприглядные портреты представителей царского общества, таким как Горький или Даль, а также нескольким заядлым бунтарям, таким как Лермонтов. На полярном конце стояли поборники религии, такие как Достоевский, тайные полицейские агенты, такие как Булгарин, и сторонники незыблемости существующего порядка, такие как Лесков с его «антинигилистическими» романами. На самом деле «выборочный подход» остался неосуществленным идеалом. Потому что тогда еще не образовалась систематическая критика, способная определить, кто «реакционер», а кто нет – у марксистов не было единого мнения на этот счет, – или каких писателей следует принять целиком, каких целиком отвергнуть, каких частично принять и частично отвергнуть и т. д. На практике издательства продолжали выпускать массовыми тиражами некоторые произведения Толстого, Достоевского, Пушкина и Гоголя, которые по чисто идеологическим стандартам, казалось, вполне можно было квалифицировать как «реакционные». Коренной вопрос, поднятый в майских тезисах ЛЕФ’а-Пролеткульта – зачем все это брать? – оставался без ответа. Раз уж было установлено, что некоторые писатели прошлого неприемлемы – и даже самым горячим их поклонникам пришлось с этим согласиться, – то разве не понятно, что и все, вполне возможно, замараны? А если надобно исключать писателей, которые отстаивали дела и идеи, не одобряемые марксистами, как, например, Толстой с его непротивлением злу насилием или Достоевский с его примитивным христианством, или тех, кого трудно было подвести под готовые политические и социологические формулировки, как большинство лирических поэтов, то какого рода классическое наследие можно было из этого реально построить?87
Именно эта ситуация побудила Луначарского в статье «Еще о классиках» (опубл.: На литературном посту. 1927. № 5–6) вновь обратиться к проблеме классики и в связи с поступившими к нему письмами читателей предложить несколько существенных добавлений к ранее написанному. Читательская потребность в понятном и ограниченном круге обязательных к прочтению классических текстов, по Луначарскому, могла быть решена только организацией специальной книжной серии, в рамках которой
каждая книжка должна быть снабжена хорошим предисловием, сделанным специалистом, с объяснением фигуры писателя, как явления общественного, с указанием, стало быть, его места в его эпохе и его обществе, а также и значения, которое может сохраняться за ним для нашего времени88.
При этом Луначарский настаивал на том, чтобы во всем обрамляющем художественный текст компоненте преобладал именно марксистский взгляд на литературное произведение, и писал:
В тех случаях, когда статья дается человеком, не причисленным к марксистской школе или не относящим себя к ней, мы будем давать еще, кроме того, отдельное предисловие, написанное марксистом, конечно, более краткое и суммарное, не повторяющее того, что дано редактором-специалистом, но ориентирующее читателя как можно более правильно с коммунистической точки, – настолько правильно, насколько можем гарантировать это мы сами, литературные работники-коммунисты. Поэтому и общая редакция была составлена так: я и профессор <Н. К.> Пиксанов89.
Если отбросить все эти риторические нагромождения, тезис Луначарского был весьма внятным: классические произведения должны были подвергаться «редактированию» (то есть проходить цензуру) и сопровождаться идеологически «верными» интерпретациями.
Занявшие доминантное положение на литературном поле пролеткритики, ориентируясь на условно реалистическую линию русской литературы XIX века, видели своей целью приспособление инструментария классиков под нужды изображения «живого человека» (В. В. Ермилов). (Статья Ермилова «Проблема живого человека в современной литературе и „Вор“ Л. Леонова» (опубл.: На литературном посту. 1927. № 5–6) и примыкавшая к ней статья «В поисках гармонического человека» (опубл.: На литературном посту. 1927. № 20) спровоцировали широкое обсуждение поставленного в них вопроса90.) Однако выдвинутый еще в ноябре 1926 года принцип «учебы у классиков» предполагал не только критическую (пере)оценку оставленного ими «наследства»91, но и его предварительную ревизию. На этом, в частности, настаивал В. М. Саянов в статье «Долой классиков»: «Учеба у классиков – беспартийный лозунг, под которым подписывается вся литература. Но каждый писатель вкладывает в эту алгебраическую формулу разное арифметическое содержание»; и далее: «Классиков же нужно уметь читать. Иначе всякие лозунги об „учебе у классиков“ подлежат сдаче в архив истории литературы»92.
Н. В. Корниенко, цитируя статьи налитпостовцев, весьма убедительно описывает внутреннюю механику «учебы у классиков»:
В основание новой художественной платформы новонапостовцами была заложена целая программа фальсификации русской классики, по которой и предстояло ее, классику, осваивать. Из учителей однозначно исключалась «реакционная школа Достоевского». У Салтыкова-Щедрина и Гоголя рекомендовалось учиться описывать отрицательные типы прошлого и современности. Не рекомендовался гоголевский «смех сквозь слезы». Ожегшись на воспевании идеи мировой революции, теоретики новой эстетической платформы отрекались от всех форм «романтической школы», считали романтизм в пролетарской литературе (Пролеткульт и «Молодая гвардия») пройденным периодом, а в настоящем – уводящим от действительности. При этом, по традиции, ссылались на пролетариат, который, хоть и «класс героический», ибо цели его грандиозны, но главное – он класс «чрезвычайно реалистический». У Л. Толстого решено было взять две черты метода: психологический анализ и беспощадный реализм – «срывание всех и всяческих масок». Все остальное, особенно «реакционную философию» Толстого – предлагалось отбросить, как и всякие индивидуальные оттенки психологизма, который в русской литературе порой становился «очагом пассивности и созерцательности». Пролетарский писатель, проходя учебу у Толстого, – напоминал Л. Авербах, – должен помнить, что «и Толстой был классовым человеком». У Н. Гоголя предлагалось учиться только созданию типов, само же мировоззрение писателя объявлялось реакционным, «чуждым новому и будущему», ибо Гоголь не осудил Россию, что нашло отражение в его «ханжеских и черносотенных письмах». У Пушкина пролетарским писателям предлагалось пройти уроки простоты и… атеизма93.
Каждый пишущий, участвуя в бессчетных опросах и заполняя специальные анкеты, должен был как бы заново не только очертить круг эстетически продуктивных авторов94, произведения которых он оценивал как образцовые, но и определить качественные параметры классики.
Новый виток критических поисков и квазитеоретических разысканий в области классики и классического был связан с появлением редакционной статьи «Классики – попутчики – пролетписатели» в журнале «На литературном посту» (1927. № 5–6). За несколько лет, прошедших с момента начала полемики с Воронским, тлеющий конфликт не получил разрешения; налитпостовцы утверждали: «Тактика противников пролетарской литературы меняется. Одно остается относительно постоянным: обвинение в отрицании классиков»95. Уже тогда позиция пролеткритиков начала расходиться с партийным взглядом на проблему классики:
– Он выше Пушкина! – выкрикнули молодые голоса из толпы слушателей.
Выше ли Пушкина Некрасов, как поэт, – дело другое. Но одно несомненно: Некрасов потрясал души своих молодых читателей, особенно разночинцев, и зажигал их таким огнем, какого не могла зажечь величавая поэзия Пушкина» (Сосновский Л. Первый пролетарский поэт Демьян Бедный // На посту. 1923. № 1. Стб. 122). Противопоставляя Пушкина Некрасову, Сосновский писал о наметившемся сломе в понимании «классичности» как эстетического критерия: в 1920‑е рецептивный потенциал появлявшегося тогда «эмансипированного» (до некоторой степени) читателя стал одним из главных факторов складывания статусных иерархий.
Darmowy fragment się skończył.