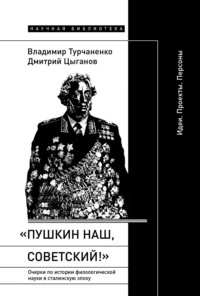Czytaj książkę: ««Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны»
История идей, проектов и людей
Из разысканий в области археологии советской интеллектуальной жизни
Наряду с писателями-классиками возможны и читатели-классики.
Н. Е. Прянишников. Рассуждение о читателе и писателе (1930)
Один ли Пушкин является жертвой подобных «исследовательских» наездов? Увы, кажется, все классики! И это плохо.
А. А. Сурков. Встречный счет критике (1932)
Закон сохранения интеллектуальной энергии проявляется везде, где ее почему-то не душили. Этим объясняется расцвет нашей пушкинистики: Пушкин был поднят на щит, как чемпион в спорте или как победитель международного конкурса, и пушкинистика оказалась поощряемой областью филологии. В известном смысле это случайность, хотя прославление Пушкина было одной из форм «вождизма», без которого советская идеология немыслима <…>. Вот и Пушкин, который совсем не годился в предшественники соцреализма, был избран «вождем». На этой аберрации мы заработали таких блистательных ученых, как Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский, Ю. Г. Оксман, Г. А. Гуковский, В. В. Виноградов, С. М. Бонди, <…> Ю. Н. Тынянов, позднее Н. Я. Эйдельман, Ю. М. Лотман и другие.
Е. Г. Эткинд. «Эту песню не задушишь, не убьешь…»: О законе сохранения интеллектуальной энергии (1997)
1
Настоящее исследование посвящено частному эпизоду из советской интеллектуальной истории 1920–1950‑х годов. По сути, оно строится вокруг хотя и одной, но весьма значительной для сталинской культуры идеи – идеи классики и классического1, интересами власти и силами гуманитариев-теоретиков персонифицированной в почти сакральной фигуре А. С. Пушкина. Этим обстоятельством, с одной стороны, очерчена тематика работы, которую, казалось бы, можно точно описать формулой П. А. Дружинина «идеология и филология»2. Однако мы склонны несколько сместить смысловые акценты, поставив «филологию» перед «идеологией», и рассматривать науку не как поле преломления политических идей, а как область, хотя и реагирующую на изломы идеологического вектора, но все же сохраняющую свое глубинное содержание. С другой стороны, указанным обстоятельством обусловлена избранная методология, предполагающая анализ не только обильного фактического материала, но и ранее сформулированных на его основе интеллектуальных концепций. Посредством рассмотрения литературно-критических и научно-теоретических текстов с учетом персональной прагматики пишущего и заданной властью политико-идеологической рамки мы стремимся обнаружить и описать те механизмы, с помощью которых осуществляются интеллектуальные спекуляции, позволившие сталинскому режиму поставить культуру на службу собственным идеологическим интересам.
В хрестоматийной книге «Археология знания» (L’archéologie du savoir), вышедшей по-французски в 1969 году, М. Фуко писал о ключевых принципах истории идей:
она рассказывает периферийную и маргинальную историю. Не историю наук, а историю тех несовершенных и плохо обоснованных познаний, которые на всем протяжении своего упорного существования никогда не смогли обрести научной формы <…>. Историю не литературы, а того сопутствующего волнения, той повседневной и так быстро забывающейся писанины, которая никогда не получает или тотчас утрачивает статус произведения: анализ псевдолитературы, альманахов, журналов и газет, скоротечных успехов, скандальных авторов. История идей, определенная таким образом, – и сразу становится ясно, как сложно зафиксировать ее точные границы, – обращается ко всей той скрытой мысли, ко всему набору представлений, которые анонимно распространяются среди людей; сквозь разломы великих дискурсивных памятников она выявляет ту зыбкую почву, на которой они покоятся. <…> история идей оказывается дисциплиной о началах и концах, описанием неясных непрерывностей и возвратов, воссозданием развития в линейной форме истории. Но она может также описать все взаимодействие обменов и посредников, существующих в разных областях: она показывает, как распространяется научное знание, как оно порождает философские понятия, а иногда обретает форму литературных произведений. Она показывает, как проблемы, понятия и темы могут переходить из философского поля, где они были сформулированы, в научные или политические дискурсы. Она соотносит произведения с социальными институтами, с общественным поведением или привычками, с технологиями, потребностями и немыми практиками. Она пытается оживить наиболее разработанные формы в том конкретном ландшафте, в той среде роста и развития, где они зародились. В таком случае она становится дисциплиной о взаимопроникновениях, описанием концентрических кругов, которые охватывают произведения, выделяют их, связывают между собой и включают во все то, что произведениями не является3.
Настаивая на необходимом обновлении методологии и утверждая теоретические принципы «археологии знания», Фуко писал об истории идей как о дисциплине, занятой анализом периферийных, окраинных явлений, по-настоящему определяющих направления эволюции гуманитарной мысли4. Однако опыт сталинизма, до сегодняшнего дня не ставший принадлежностью истории, по-прежнему продуцирует всевозможные дискурсивные практики и поэтому не вполне может быть описан при помощи предложенного Фуко инструментария. Сам объект нашего исследования лишен формальной завершенности и представляет собою некую асинхронную совокупность идей, часть которых все еще формирует наше актуальное представление о порядке вещей. Таким образом, «археология знания» с присущим ей набором методологических принципов в нашем случае должна быть подкреплена контекстуальным анализом и намеренной историзацией интеллектуального «наследства».
Ситуация всесторонней политизации и идеологизации, которая постепенно складывалась в Советском Союзе в 1920–1950‑е годы, характеризовалась нестабильностью интеллектуальной жизни. Дело в том, что многие некогда центральные идеи и концепции за короткое время сначала превращались в маргинальные, а затем и вовсе вытеснялись за рамки легального поля. Однако такое вытеснение отнюдь не исключало повторной актуализации некогда отвергнутых мыслительных и дискурсивных практик5. Нерасчлененность интеллектуального дискурса в те годы не позволяла ему стабилизироваться, образовать «центр» и «периферию»: постоянная циркуляция смыслов, не закрепленных за конкретной сферой знания, определила тотальный или, по выражению М. М. Бахтина, «авторитарный» характер этого дискурса. (Неслучайно расцвет структурной лингвистики и функциональной стилистики пришелся именно на послесталинские годы. Задача по разграничению и сегментации некогда монолитного дискурсивного пространства в те годы стала едва ли не центральной во всех сферах гуманитаристики.) Так, политическая идея могла стать «литературным фактом», равно как и идея литературная – фактом политики. Очевидно, например, что развернувшаяся в позднесталинскую эпоху кампания против марризма в языкознании – итог сонаправленного движения разнородных идей. На уровне смежных интеллектуальных сфер сознательно нагнетаемая тенденция к обобществлению была столь сильна, что граница между ними попросту стиралась.
Все это снимало целый ряд управленческих вопросов. В такой ситуации одно властное решение затрагивало сразу все сферы вне зависимости от их идеологической приоритетности, но и само это решение оформлялось из многих импульсов. Именно поэтому одни и те же фрагменты очередной «гениальной» теоретической работы Сталина то и дело возникали, например, в редакционных статьях «Правды» и академических трудах по точным, естественным и гуманитарным наукам, в школьных/вузовских учебниках и официальной/частной переписке, на фасадах зданий и агитационных плакатах… Таким образом идеи, обеспеченные властным ресурсом, становились универсальными, способными реализовываться в любых – даже несмежных – контекстах. Думается, этот процесс во многом определил подвижную во времени специфику существования гуманитарной мысли в 1920–1950‑е годы.
Распространенный в исследовательской литературе утрирующий взгляд на неоднородную культурную ситуацию сталинской эпохи, развившийся вследствие не вполне последовательного и весьма фрагментарного введения новых сведений об этом времени в научный оборот6, имеет в своей основе мысль об индоктринации как о ключевой стратегии однонаправленного взаимодействия власти и интеллектуального сообщества. Принятая многими специалистами в качестве безусловной, модель «коммуникации» в советской (тоталитарно ориентированной) публичной сфере в общем виде выглядит следующим образом: партийная верхушка якобы спускает оформленные в виде директив, распоряжений и – реже – развернутых предписаний идеи, а адресаты этих идей, лишенные возможности независимого суждения, вынужденно занимаются всевозможными формами их тиражирования; интеллектуалы, которые не смогли сообразоваться с этой производственной логикой, либо подвергались идеологическим проработкам, становились объектами травли, либо же оказывались жертвами физического уничтожения. При таком подходе любые идеи и концепции трактуются как эквиваленты политических. Если в контексте институциональной истории эта довольно примитивная схема культурного производства при должном уточнении может восприниматься как адекватная, то в области неинституционализированной интеллектуальной деятельности7 она попросту не может быть релевантной из‑за отсутствия регламентированного порядка взаимоотношений между властью и мыслящим субъектом. Иначе говоря, существование в условиях организационных ограничений задавало конечный набор ролей и функций, в рамках которого почти не оставалось пространства для интеллектуального маневра, тогда как сфера производства знания такого упорядочения не предполагала и предполагать не могла. Дело в том, что партийное руководство было лишено ресурсов и возможности следить за интенсивностью идеологической обработки интеллектуального сообщества. Да и контролировалось только то, что уже было написано и каким-либо образом предъявлено, но не сам процесс производства знания (зачастую принципиально различавшийся на «внешнем» и «внутреннем» уровнях адресации). Об этом свидетельствуют, например, писавшиеся преимущественно в сталинскую эпоху и ныне полностью или частично опубликованные дневники и записные книжки А. Н. Афиногенова, А. А. Ахматовой, О. Ф. Берггольц, С. Б. Бернштейна, Л. Я. Гинзбург, А. К. Гладкова, Э. Ф. Голлербаха, В. М. Жирмунского, Вс. Вяч. Иванова, М. А. Кузмина, Ю. М. Нагибина, Ю. К. Олеши, А. П. Платонова, М. М. Пришвина, М. А. и Т. Г. Цявловских, К. И. и Л. К. Чуковских, Е. Л. Шварца, а также доступные лишь фрагментами записи Б. М. Эйхенбаума, О. М. Фрейденберг8. Именно поэтому в те годы «инакомышление»9 и даже малейшее подозрение в нем стали едва ли не главными предлогами к осуществлению политической расправы.
История любой науки всегда связана с вопросом о классике как об интегральной части знания, о ее понятийном объеме и материальных границах (чаще – контурах). Идея интеллектуального прогресса, лежащая в основании позитивистской исследовательской парадигмы, определяет неизбежную иерархизацию идей, взглядов и концепций; этим объясняется возникновение всевозможных «классических трудов» по целому ряду дисциплин, от экономики и права до физики и биологии. И. М. Савельева и А. В. Полетаев в книге «Классическое наследие» последовательно разделяют два подхода к научной классике – «презентистский» (т. е. отталкивающийся от вклада классиков в современное знание) и «историцистский» (т. е. основывающийся на принципах интеллектуальной истории)10. При этом описанное расхождение основывается на методологических нестыковках, тогда как в отношении ядра научной классики чаще всего существует консенсус. Те интеллектуальные построения, которые рассматриваются в настоящем исследовании, уже приобрели статус классических, а их авторы давно стали классиками русистики11.
Как представляется, такое положение дел существенно затрудняет всякий анализ по нескольким причинам: 1) классические тексты не характеризуются «качественным превосходством» по отношению к текстам неклассическим – в основании их разграничения лежит более сложная система оснований, связанная с категориями «производящего» и «производного»; 2) признание за текстом его принадлежности к сфере классики исключает аспект времени его создания, делая отраженные в нем идеи аксиоматическими или попросту «вечными»12; 3) постоянная актуализация содержащихся в классическом тексте идей замыкает современное научное знание на теоретических постулатах, которые созвучны текущей действительности лишь в очень утрированном виде и, следовательно, не дают адекватного представления о ней; 4) стратегии становления гуманитариев классиками типологически близки тем, которые существуют в областях литературы, искусства и философии. В упомянутой книге И. М. Савельева и А. В. Полетаев пишут, что
научная классика <…> не несет в себе никаких элементов сакральности. Классика в науке не является ни предметом поклонения, ни идеальным образцом для подражания, ни «мерилом» всех последующих научных работ. Классика – это основы современного знания, условно говоря, фундамент, который, однако, при всей его важности, является лишь одной из частей здания13.
Однако в отношении к гуманитарному знанию часто можно наблюдать именно сакрализацию идей и фетишизацию методов, о чем свидетельствует хотя бы наличие в современном интеллектуальном пространстве так называемых научных школ – реликтов некогда обострившихся, а сегодня, в обстановке децентрализации знания и глубочайшего мыслительного кризиса, почти забытых и лишь иногда вспыхивающих теоретических разногласий (например, до сих пор длящееся пресловутое противостояние Московской и Ленинградской (Петербургской) фонологических школ, как представляется, приобрело худшие черты «партийности»). Вместе с тем ясно, что априори конфликтное взаимодействие между адептами этих самых школ строится не на принципах продуктивной полемики, а на давней идее спора ради спора. Однако так было не всегда. В определенные периоды истории такие интеллектуальные конфликты не проистекали из стремления создать видимость интеллектуальной жизни, но были ее прямым следствием. Именно таким периодом была первая половина минувшего столетия.
Целью нашего исследования стало уточнение тех оснований, на которых строилось взаимодействие интеллектуалов и власти в сталинскую эпоху. Производство гуманитарного знания в разные периоды сталинизма характеризовалось разной степенью контроля: в рамках каждого из приоритетных для партийного руководства направлений существовали каналы идеологического влияния, до некоторой степени упорядочивающие и без того институционально оформленную деятельность интеллектуального сообщества, но отнюдь не индивидуальные мыслительные практики14. Зачастую случалось так, что власть, наделяя человека или группу людей правом независимого суждения и фактической неприкосновенностью, присваивала себе полезные для нее идеи, которые создавались в политически разнородном дискуссионном поле. Так происходило неоднократно, и во всех случаях сталинское руководство действовало по одной и той же схеме. Сначала партия вполне определенно поддерживала какой-либо политико-идеологический вектор и его сторонников, а затем, когда отведенная им роль была сыграна, не просто меняла предпочтения, но буквально отрекалась от прежнего курса, уничтожая все следы (а порой и некоторых свидетелей) былого расположения. Достаточно вспомнить печальные примеры рапповцев, «вульгарных социологов», «мелкобуржуазных формалистов», писателей-«пессимистов», филологов-«космополитов», языковедов-марристов и т. д. Однако даже на уровне перечисленных нами конкретных групп, объединенных интеллектуальным, тактическим взаимодействием и прочими – более специфическими – формами сотрудничества, советский интеллектуальный истеблишмент характеризовался разобщенностью, смысл которой можно было уловить лишь на пересечении контекстов, общих для всех героев настоящего исследования.
Особенный интерес для партфункционеров представляли те области гуманитарного знания и смежные с ними практики, чей инструментарий был направлен на выстраивание нарратива о прошлом и, следовательно, обладал существенным спекулятивным потенциалом. В этой связи особое положение занимали историография и литературоведение (к нему примыкала литературная критика). Они и становились своеобразными лабораториями, в которых создавались и модифицировались политико-идеологические смыслы, но отнюдь не только каналами их трансляции.
Детали взаимодействия исторической науки и сталинской власти весьма подробно и обстоятельно описаны в многочисленных специальных исследованиях15. Между тем число подобных работ о литературоведении и литературной критике 1920–1950‑х годов, к сожалению, несоизмеримо меньше.
2
История литературной критики и литературоведения 1920–1950‑х годов как сегмент интеллектуальной истории – область научного знания, в разработке которой до сих пор не установился ни качественный, ни даже количественный баланс. С момента принятия ЦК КПСС постановления «О литературно-художественной критике»16 от 21 января 1972 года литературная критика из практически ориентированного паралитературного дискурса стала полноценным объектом научного изучения. В этом документе содержалось требование
предусмотреть в учебных планах университетов, педагогических институтов и специальных высших учебных заведений необходимые возможности для факультативной специализации студентов и аспирантов по проблемам литературно-художественной критики17.
Однако провозглашенная в том же постановлении необходимость «улучшить и расширить подготовку <…> квалифицированных специалистов в области теории литературы и искусства и литературно-художественной критики»18 плохо согласовывалась с изначально заявленным «факультативным» характером изучения новой историко-практической дисциплины, поэтому уже вскоре она вошла в число обязательных курсов для ряда специальностей. По-иному дела обстояли в области изучения истории и методологии литературной науки. Весьма сдержанный и чрезвычайно запоздалый интерес к этой области гуманитарного знания возник лишь в последние десятилетия. Д. В. Устинов в статье 1998 года справедливо писал:
Литературоведческие тексты советской эпохи, особенно ее первой, наиболее репрессивно-ригористической половины (сталинских времен), приобретают для современного читателя все более и более герменевтический характер <…>. Для сохранения своей научной и культурной ценности они требуют прочтения и истолкования на многих уровнях восприятия, с учетом политических, идеологических, психологических, эстетических и пр<очих> обстоятельств и установок эпохи, с привлечением идейного анализа структуры текста. Это же можно сказать и о научных текстах любых эпох. К литературоведческим произведениям необходим такой же исторический подход, как и к произведениям литературы (вплоть до эстетического анализа)19.
Но на фоне по сей день превалирующей тенденции к деконтекстуализации и инструментализации литературоведческих идей и концепций этот интерес все еще представляется не вполне оформленным. Иначе говоря, научные труды, созданные, например, в первой половине минувшего столетия, зачастую воспринимались и воспринимаются многими специалистами – поборниками интеллектуальной преемственности – как источники актуального внеидеологического инструментария, а не как принадлежность определенного эпизода из истории науки. Дело в том, что в литературной науке довольно долгое время существует проблема исследовательской «вненаходимости»: подавляющее большинство появляющихся работ представляют собой то, что на бюрократическом языке называется апробацией, а по сути является банальной обкаткой какой-либо аналитической схемы. Между тем в рамках той части интеллектуального сообщества, где эти схемы вырабатываются, мы сталкиваемся именно с историзирующим подходом к идеям, утерявшим свою актуальность20. В описанной ситуации едва ли не единственной стратегией работы становилось неконтролируемое воспроизведение, сопровождающееся неконтролируемым же расширением иллюстративного материала, призванного подкрепить «научность» подобных построений21. Словом, на объемах исследовательской литературы по истории советской литературной критики и советского же литературоведения закономерно сказалась асинхронность их становления полноценными областями филологической науки. Если построение историзированного нарратива, описывающее «единство и борьбу» эстетических взглядов, имело давнюю традицию и входило в базовую компетенцию исследователя, то контекстуализация различных гуманитарных концепций, долгое время расценивавшихся в сугубо утилитарном ключе, – задача, которую нельзя было решить теми же средствами. Все это повлияло на нынешнее положение в деле изучения истории литературной критики и литературоведения советского времени.
Внезапно возникшая потребность в обретении истории литературной критики и литературоведения стала главным стимулом начавшегося в конце 1970‑х – 1980‑е годы публикаторского бума. (До этого времени идеологизированное изучение паралитературной публицистики ограничивалось созданием малочисленных и низкопробных исследований и сопровождалось неупорядоченной, но тщательной публикацией источников – текстов и прочих документов, связанных с именами Белинского, Герцена, Горького, Добролюбова, Писарева, Плеханова, Чернышевского и т. д.) Несмотря на укрепившееся в гуманитарной среде и в известной степени поддержанное хрущевским докладом 1956 года обманчивое ощущение свободы слова в исследовании литературного процесса сталинской эпохи, многие литературоведы и историки, вопреки открывшимся перед ними возможностям, обратились к хронологически более раннему периоду советской культуры – к 1920‑м годам. Этот парадокс во многом объяснялся стремлением исследователей сохранить память о старательно уничтожавшейся в сталинском СССР культуре «нэповской оттепели», характеризовавшейся относительной свободой творческих дискуссий и полемик по вопросам эстетики. Именно тогда вышли основополагающие работы по истории литературы и литературной критики досталинского периода. (Отметим, что литературная критика уже тогда стала пониматься предельно расширенно: в нее включались не только собственно критические тексты, посвященные конкретным литературным произведениям или окололитературным поводам, но и тексты теоретические, зачастую содержавшие отвлеченные эстетико-концептуальные построения.) Это направление, расцвет которого пришелся на перестроечную эпоху, ставило своими задачами прежде всего расширение поля фактического материала (с чем связана активная публикаторская работа, благодаря которой в научный оборот был введен внушительный массив материалов о художественной жизни 1920–1930‑х годов) и проблематизацию отдельных тематических участков историко-литературного процесса. На фоне появлявшихся в те годы на страницах «толстых» журналов художественных текстов Ахматовой, Булгакова, Бунина, Замятина, Мандельштама, Набокова, Пастернака, Пильняка, Платонова, Цветаевой, Шаламова и др. корпус вышедших сборников и исследований, посвященных эстетическим теориям и художественным практикам 1920–1930‑х, хотя и казался куда менее существенным, но в перспективе сыграл ключевую роль в рождении окончательно отошедшего от жесткой идеологической регламентации подлинно научного дискурса, предметом которого стала советская интеллектуальная культура.
Примерно тогда же началась не закончившаяся по сей день переориентация исследовательского сообщества. Прежде всего она выразилась в появлении корпуса исследований, учтенных нами при составлении списка литературы к настоящей книге. В минувшие три десятилетия менялись университетские курсы истории литературной критики и литературоведения XX века, составлялись хрестоматии, писались и переписывались учебники; выходили индивидуальные и коллективные монографии, научные статьи, историко-биографические книги и сборники исследований, документов и воспоминаний; публиковались письма, записные книжки и дневники; переиздавались с предисловиями и комментариями труды забытых или некогда поруганных филологов, к настоящему моменту приобретших статус классиков (среди них – М. К. Азадовский, М. П. Алексеев, М. М. Бахтин, Н. Я. Берковский, А. Н. Веселовский, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Л. Я. Гинзбург, В. М. Жирмунский, Е. Д. Поливанов, А. А. Потебня, В. Я. Пропп, Л. В. Пумпянский, Д. П. Святополк-Мирский, А. П. Скафтымов, Б. В. Томашевский, Н. С. Трубецкой, О. М. Фрейденберг, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Р. О. Якобсон, Б. И. Ярхо; наряду с ними активно печатались и те, кого тогда принято было именовать «советскими литературоведами»). В списке литературы нами учтены и те немногочисленные работы, которые посвящены взаимодействию литературной науки и идеологии. Важнейшим направлением в процессе создания истории советской гуманитарной науки первой половины прошлого века является изучение и публикация материалов и воспоминаний, связанных с работой важнейших институций – Государственной академии художественных наук (ГАХН), Государственного института истории искусств (ГИИИ), Института красной профессуры, Института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), Института мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ), Института литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, Института языка и мышления АН СССР им. Н. Я. Марра, Коммунистической академии, Института философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского (ИФЛИ), Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) и тяготевших к нему объединений, а также многих других.

Илл. 1. Торжественное заседание в ГАХН, посвященное 30-летию литературной деятельности А. В. Луначарского. Сидят (слева направо): П. И. Лебедев-Полянский, М. Н. Покровский, Н. А. Розенель, А. В. Луначарский, Л. И. Аксельрод, П. С. Коган, Н. А. Коган, К. С. Станиславский, А. А. Яблочкина, П. Н. Сакулин. Стоят (слева направо): А. И. Безыменский, неуст. лицо, О. Ю. Шмидт, Д. С. Усов, Б. В. Шапошников, Н. К. Пиксанов, А. А. Сидоров, В. Т. Кириллов, М. П. Герасимов, П. И. Новицкий, М. П. Кристи, С. Попов (?), З. Н. Райх, В. Э. Мейерхольд, И. П. Трайнин. Фотография. Март 1926 года. Литературный музей ИРЛИ
Все это – множество частных следствий некогда предпринятой ревизии гуманитарного «наследства»22.
Укорененное представление о генетическом сродстве литературной критики и литературоведения23, возникшее вследствие до сих пор отсутствующей внятной дифференциации, остается серьезным препятствием к построению неутрированного, многоаспектного и вместе с тем цельного нарратива о литературной науке в СССР в 1920‑е – начале 1990‑х. Однако начало этому положено. Но и здесь обнаруживается существенная диспропорция: мыслительные практики, идеи и концепции первой половины минувшего века изучены куда подробнее, чем интеллектуальная культура второй половины (за некоторыми, как это следует из приведенного библиографического перечня, существенными исключениями). Огромное число превосходных исследований, как мы показали выше, посвящено частным вопросам истории литературоведения советского времени. Тогда как число обобщающих работ, в которых историко- и теоретико-литературные разыскания приобретали черты историчности, сопричастности времени своего появления, несоизмеримо меньше24.
Одну из первых серьезных попыток локализовать опыты литературной науки советского времени в культурно-идеологическом и социально-политическом контекстах предприняли авторы вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2011 году коллективной монографии «История русской литературной критики: Советская и постсоветская эпохи» под редакцией Е. А. Добренко и Г. Тиханова. В этом издании анализ литературоведческих концепций встроен в общий исследовательский нарратив25; частные сюжеты из истории науки не являются самоценными, а, напротив, призваны сформировать у читателя ощущение полноты и объема предложенных объяснительных схем. Между тем такая нерасчлененность литературной критики и литературоведения26, продиктованная не только методологией, но и самим объектом изучения, при бесспорном богатстве иллюстративного материала и виртуозности его представления не привносит искомой ясности ни в одну из этих областей. В редакторском предисловии, представляющем собой краткий очерк темы, читаем:
литературная наука в СССР формировалась в противостоянии идеологии, которой была заражена вся текущая публичная культура, фактически объявленная профанной и недостойной интереса идеологизированной не-культурой27.
В то же самое время взаимоотношения между идеологией и интеллектуальной сферой характеризовались тесными (хотя порой и сложноразличимыми, не поддающимися надежной формализации) связями. Дискуссионным видится и следующее утверждение:
то, что составляло самую суть литературной критики и теории, либо трактовалось <в советское время> как история ошибок, либо находилось вне истории. Последнее относится уже к советской официозной теории литературы, которая была тотально синхронной и просто не предполагала диахронической глубины: «последним словом» в ней уже в начале 1980‑х годов одновременно считались статьи Ленина о Герцене и Толстом, «теория отражения», речь Жданова на Первом съезде писателей и его доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», последние по времени работы М. Храпченко и т. д.28
Безусловно, к области советской «официальной теории литературы» принадлежали идеологи-производственники, неустанно создававшие пропагандистские риторические поделки29. Однако в организационных рамках «официального советского литературоведения» работали и те ученые (например, некоторые из числа героев нашего исследования), которых попросту нельзя механически записать в ряды псевдонаучных спекулянтов, партфункционеров от литературоведения.
В том же году вышла небольшая 280-страничная книга Д. М. Сегала «Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке»30, конспективно намечающая основные периоды развития литературной науки минувшего столетия. Книга эта выросла из статьи, которая предназначалась для многотомной «Истории русской литературы» на французском языке, задуманной Жоржем Нива. Важной характеристикой исследования Сегала оказывается его открыто популяризаторская установка и обусловленная ею упрощенность изложения, цель которой – разъяснить смысл литературоведческих построений понятными словами и указать, в чем именно состоит заслуга того или иного теоретика. В шести тематических главах Сегал прибегает к не всегда убедительным, основанным на поверхностных методологических перекличках попыткам сравнить и/или сгруппировать разнородный материал. Например, в первой главе автор в контексте идей сравнительного литературоведения анализирует научные концепции В. Я. Проппа и О. М. Фрейденберг31. Между тем упомянутые исследователи исходили из разных теоретико-методологических посылок: если Пропп в своих главных работах по типологии фольклора избирал антропологический ракурс во взаимодействии со структуралистским инструментарием, то Фрейденберг зачастую прибегала к сравнительно-мифологическому подходу, граничившему с почти оккультным философствованием. Другой примечательной чертой книги является весьма скудная библиография; источники скорее даются в виде пересказа, а не цитируются. Так, в третьей главе о формальной школе обнаруживаем лишь пять постраничных сносок на почти 50 страниц печатного текста32. То же можно наблюдать и в других главах. Неравнозначны главы и по объему: закономерно крохотная 16-страничная пятая глава о непопулярном сюжете до- и послевоенных погромов в среде гуманитарной интеллигенции33 видится нелепой в соседстве с огромной 71-страничной шестой главой о близком для автора сюжете – расцвете структурализма и Тартуской школе34. Словом, в «Путях и вехах» Сегал предлагает индивидуальный и актуализаторский, но почти всегда неоригинальный взгляд на известные источники.