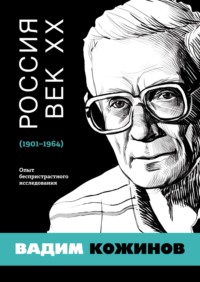Czytaj książkę: «Россия. Век XX. 1901–1964. Опыт беспристрастного исследования»
© ООО «Арт-холдинг “Медиарост”», 2023
© Кожинов В. В., наследники, 2023
Россия
Век XX
1901–1939
От начала столетия до «загадочного» 1937 года
Три кратких пояснения от автора
1. Главы этой книги публиковались первоначально под общим названием «Загадочные страницы истории. XX век». Но для книги в целом такое название было бы не очень уместным, ибо ведь из нее следует, что «загадочна», по сути дела, вся история нашего столетия: ее важнейшие явления и события предстают в «массовом» сознании в превратном или хотя бы сугубо неясном виде.
Это обусловлено, во-первых, крайней «идеологизированностью», свойственной нашему веку, той «тенденциозностью» (самого разного характера) в истолковании явлений и событий, которая внедряется в умы и души людей «средствами массовой информации» (СМИ), чьи масштабы и власть непрерывно расширяются, – от колоссально увеличивших свои тиражи в начале XX века газет1 до вездесущего ныне телевидения. Казалось бы, цель СМИ – сообщать о том, что совершается в мире, но на деле наиболее «массовые» из них, требующие громадных финансовых затрат, не просто «информируют», но выражают интересы и волю мощных политических и экономических сил, которые стремятся сохранить и расширить свое господство, – будь то господство партий, транснациональных корпораций, так называемых олигархов и т. д.
«Неразгаданность» истории XX столетия обусловлена, во-вторых, и тем, конечно же, что дело идет о нашем веке, о десятилетиях, от которых мы еще не отдалились сколько-нибудь значительно, и нам нелегко взглянуть на них «объективно». Достаточно сказать, что среди нас еще живут люди, для которых события 1953, 1941, 1937, 1929 и даже 1917-го годов (пусть эти люди тогда были в очень юном возрасте) – не главы курса истории, а звенья их личной судьбы…
Строго говоря, XX век даже еще не стал в полном смысле слова историей (об этом далее пойдет речь), но отказаться от его изучения нельзя: оно не менее или, пожалуй, более важно, чем изучение предшествующих столетий.
2. Эта книга является продолжением – как бы «вторым томом» – моей изданной в 1997 году (и готовящейся к переизданию в существенно дополненном виде) книги «История Руси и русского Слова. Современный взгляд». Правда, это утверждение может показаться людям, знакомым с моей «Историей Руси…», по меньшей мере странным, ибо изложение отечественной истории доведено в ней только до начала XVI века, когда «Русь» начала превращаться в «Россию», а этот – «второй» – том посвящен XX столетию, и, следовательно, «пропущены» четыре века – XVI, XVII, XVIII и XIX…
Не исключено, что «пробел» еще будет восполнен, и тогда «второй» том окажется «третьим». Но, как мне представляется, обращение к начальной эпохе отечественной истории и, с другой стороны, к ее последнему (будем верить, что последнему только для нас, живущих сегодня, а не вообще…) периоду имеет свое оправдание и особо существенный смысл. Кстати сказать, в «первом» томе я многократно как бы перебрасывал мост именно в XX век, стремясь показать, что явления и события начальной эпохи нашего исторического бытия имеют определенные «отзвуки» в новейшей нашей истории.
Впрочем, дело не только в этом. История России в «пропущенные» мною столетия – с XVI по XIX-й – изучена к настоящему моменту значительно более тщательно и глубоко, чем предшествующая эпоха (то есть до XVI века) и, понятно, последующая, то есть нашего столетия. В высшей степени показательно, например, что в двадцатидевятитомной «Истории России с древнейших времен», созданной С. М. Соловьевым, начальным семи столетиям (IX–XV) посвящены всего два с половиной тома, а следующим трем столетиям (XVI–XVIII; к тому же последнее не «доведено» до конца) – двадцать шесть (!) томов с половиной, – то есть в 10 раз больше!
Словом, моя сосредоточенность на первых и последнем столетиях истории России имеет свои существенные основания, да и вообще «начало» и «конец» особенно важны для понимания развития страны в целом.
3. Целесообразно сказать несколько слов о той «методологии», которой я стремился следовать на многих страницах этой книги. Ее можно кратко определить как «мышление в фактах».
Сочинения об истории – особенно новейшей истории – представляют собой чаще всего совокупность тех или иных общих положений и, с другой стороны, сведений об исторических фактах – конкретных событиях, явлениях, людях – сведений, которые подкрепляют (либо даже просто «иллюстрируют») общие положения.
Я же стремился (разумеется, не мне судить, насколько осуществилось – да и осуществилось ли вообще – мое стремление) мыслить об истории прямо и непосредственно в самих ее конкретных фактах, чтобы эти факты (подчас вроде бы даже «мелкие», внешне «незначительные») являли собой не «примеры», а форму мысли, ее неотъемлемое «тело».
Эту методологию выдвигал еще в 1950-х годах (и, конечно, позднее) близко знакомый мне выдающийся мыслитель Э. В. Ильенков (1924–1979) – один из очень немногих мыслителей того времени, труды которого ныне переиздаются или даже издаются впервые.
Могут возразить, что любое сочинение об истории неизбежно исходит из фактов, и это действительно так. Но в большинстве случаев факты используются как «материал» (а не «форма») для выработки общих положений, которым придается наиболее важное значение, и факты как таковые выступают в готовом сочинении главным образом для «подкрепления» и «иллюстрирования» этих положений. И при этом из каждого исторического факта берется какая-либо одна его сторона, один аспект, нужный для обоснования «вывода».
А ведь, если вдуматься, конкретный исторический факт несет в себе многосторонний и многообразный – в конечном счете неисчерпаемый – смысл, ибо ведь он есть порождение, плод и данного периода истории и, в определенной степени, ее предшествующих периодов, хотя вполне понятно, что открыть в нем его богатейшее историческое содержание – очень нелегкая задача: в «идеале» факт должен быть «представлен» таким образом, чтобы он как бы сам «высказал» воплощенный в нем исторический смысл.
Более того: есть, конечно, и факты «случайного» характера, не воплощающие в себе основное движение истории, и поэтому огромное значение имеет уже сам выбор исторического факта, дающего возможность раскрыть существенный и многогранный смысл. Но, так или иначе, «мышление в самих фактах» (а не использование фактов для выработки общих положений) представляется наиболее плодотворным методом изучения истории. Повторю еще раз, что не мне судить, верно ли были выбраны и «выявили» ли весомое содержание те исторические факты, которые предстают в этой книге. Надеюсь все же, что хотя бы какая-то часть из них открывает нечто важное в истории XX века…
Часть первая
1901–1917
Введение
О возможной точке зрения на Российскую революцию
История России в нашем столетии являет собой прежде всего историю Революции. Я пишу это слово с заглавной буквы (так, между прочим, писал его полтора столетия назад в своих историософских стихотворениях и статьях Ф. И. Тютчев, хотя он имел в виду, понятно, европейскую – прежде всего французскую – Революцию, развертывавшуюся с 1780-х по 1870-е годы), ибо речь идет не о каких-либо, пусть значительнейших, но все же отдельных революционных событиях, свершившихся в 1905, 1917, 1929 и т. п. годах, а о многосторонней, но в конечном счете целостной исторической динамике, определившей путь России с самого начала нашего века и до сего дня.
Два года назад исполнилось 80 лет со времени «пика» Революции – февральского и октябрьского переворотов 1917 года; срок немалый, но едва ли есть основания утверждать, что историки выработали действительно объективное, беспристрастное понимание хода событий. И, конечно, мое сочинение – это именно и только опыт исследования, но, надеюсь, в той или иной степени пролагающий путь к пониманию нашей истории XX века.
Революция предстает как результат действий различных и даже, казалось бы, совершенно несовместимых социально-политических сил, ставивших перед собой свои, особенные цели. Общим для этих сил было отвержение российского социально-политического устройства, что выражалось в едином для них лозунге «Свобода! Освобождение!», имевшем в виду ликвидацию исторически сложившихся «ограничений» в сфере экономики, права, политики, идеологии.
Характерно, что явившиеся на политическую сцену на рубеже XIXXX веков группы предшественников и большевистской, и вроде бы крайне далекой от нее конституционно-демократической (кадетской) партий с самого начала поставили этот лозунг во главу угла, назвав себя Союзом борьбы за освобождение рабочего класса (его возглавил будущий вождь большевиков В. И. Ленин) и Союзом освобождения (его глава И. И. Петрункевич впоследствии стал председателем ЦК кадетской партии).
Сегодня большевики и кадеты кажутся абсолютно чуждыми друг другу, но вспомним, что видный политический деятель того времени П. Б. Струве сначала тесно сотрудничал с В. И. Лениным и даже составлял Манифест Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП; в ее рамках в 1903 году сформировался большевизм), а в 1905 году стал одним из лидеров кадетской партии.
Или другой – менее известный – факт: С. М. Киров (Костриков), вначале связанный с РСДРП, в 1909 году на долгое время оказался в русле кадетской партии, став даже ведущим сотрудником северо-кавказской кадетской газеты «Терек», и лишь накануне октябрьского переворота «вернулся» в РСДРП(б), а впоследствии был одним из главных ее «вождей» (см. об этом, например: Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е годы. – М., 1996, с. 120–121).
Вообще необходимо осознать, что почти все политические течения начала XX века были, если выразиться попросту, «за Революцию», и переход Кирова из РСДРП к кадетам вовсе не означал отказа от революционных устремлений. Мне, вероятно, напомнят, что большевики обличали кадетов как «контрреволюционеров». Но ведь и кадеты, в свою очередь, клеймили «контрреволюционерами» самих большевиков. И эти взаимные обвинения вполне закономерны и понятны: дело здесь прежде всего в том, что каждая из партий претендовала на главенство в Революции и, далее, в долженствующем создаться после ее победы новом социально-политическом устройстве.
Очень показательно в этом смысле «противоречие», содержащееся в новейшем (3-м) издании Большой советской энциклопедии. В статье о кадетах (ее авторы – историки А. Я. Аврех и Н. Ф. Славин) эта партия вместе с ее предшественником, Союзом освобождения, квалифицирована как «партия контрреволюционной либерально-монархической буржуазии» (т. 11, с. 389), однако в статье той же самой БСЭ Союз освобождения, составленной известным специалистом в этой области историографии, К. Ф. Шацилло, читаем: «Большевики во главе с В. И. Лениным выступали против попыток Союза освобождения захватить руководство революционно-освободительным движением и одновременно боролись за высвобождение из-под влияния либералов радикального крыла Союза освобождения…» (т. 24, с. 272).
Если бы кадеты действительно были контрреволюционной партией, едва ли вообще мог встать вопрос об их «руководстве революционно-освободительным движением» и едва ли в этой партии имелось бы «радикальное (то есть особо “левое”) крыло».
Тем не менее в сочинениях советских историков кадеты, как правило, предстают в качестве «контрреволюционной» силы, а «антисоветские» (эмигрантские, зарубежные и в настоящее время многие «бывшие советские» или «постсоветские») историки нередко усматривают «контрреволюционность», напротив, в большевиках, которые, захватив власть, не дали «освободить» Россию, к чему, мол, стремились кадеты (а также эсеры, меньшевики и т. д.).
Как уже сказано, взаимные обвинения из уст кадетских и большевистских деятелей были естественным порождением политического соперничества. Однако совершенно иной характер имеют подобные обвинения, когда они появляются в позднейших сочинениях историков: эти обвинения означают, что историк, по сути дела, отказывается от беспристрастного анализа, который вроде бы призвана осуществлять историография, и рассматривает ход Революции как бы глазами одной из участвовавших в ней партий.
Сегодня всем ясно, что советская историография, изучавшая Революцию всецело с «точки зрения» большевиков, никак не могла быть действительно объективной (достаточно сказать, что роль большевиков в событиях 1903–1916 годов крайне преувеличивалась; на самом деле они обрели первостепенное значение только летом 1917 года). Но нынешние сочинения историков, фактически избирающих «точкой отсчета» для взгляда на Революцию кадетов либо, скажем, эсеров, в сущности, еще более далеки от объективного понимания хода истории – более потому, что кадеты и эсеры потерпели поражение, и смотреть на ход Революции их глазами едва ли плодотворное дело.
Необходимо четко осознать принципиальное различие между задачами, встающими перед нами в отношении современности, настоящего, сегодняшней ситуации в политике, экономике и т. д., и, с другой стороны, теми целями, которые встают при нашем обращении к более или менее отдаленному прошлому, к тому, что уже стало историей.
Когда мы имеем дело с современностью, у нас есть возможность (разумеется, именно и только возможность, далеко не всегда осуществляемая) оказать реальное воздействие на ход событий, конечный результат которых пока неизвестен и может оказаться различным. Поэтому, в частности, вполне понятны и уместны наша поддержка той или иной политической силы, представляющейся нам наиболее «позитивной» и способной победить в развертывающейся сегодня борьбе, а также наше стремление воспринимать действительность с точки зрения этой силы. Однако в прошлом (что вполне понятно) уже ничего нельзя изменить, результат развертывавшейся в нем борьбы известен, и любая попытка ставить вопрос о том, что результат-де мог быть иным, в конечном счете вредит пониманию реального хода истории: мы неизбежно начинаем размышлять не столько о том, что совершилось, сколько о том, что, по нашему мнению, могло совершиться, и «возможность» в той или иной мере заслоняет от нас историческую действительность. Это, к сожалению, типично для нынешних сочинений о Революции.
Вместе с тем нельзя не видеть, что пока еще крайне трудно, пожалуй, даже вообще невозможно изучать ход Революции, полностью отрешившись от нашего отношения к действовавшим с начала XX века политическим силам. В более или менее отдаленном будущем, когда уместно будет сказать словами поэта, что «страсти улеглись», подлинная объективность станет, очевидно, достижимой целью. Но сегодня, в наши дни, когда на политической сцене появляются течения, открыто провозглашающие себя «продолжателями» дела тех или иных возникших в начале века партий (от радикально социалистических до принципиально «капиталистических»), требования смотреть на Революцию с совершенно «нейтральной» точки зрения являются заведомо утопичными.
* * *
Проблему, встающую сегодня перед историками Революции, можно и важно осмыслить именно в плане соотношения прошлого, настоящего и будущего. Ясно, что любое исследование истории – это взгляд из будущего в прошлое, а исследование настоящего, современности (то есть предпринятое непосредственно в период развертывания исследуемых событий) едва ли способно стать полноценным явлением исторической науки; оно представляет собой, скорее, явление политической публицистики, цель которой заключается не столько в том, чтобы беспристрастно познать ход событий, сколько в том, чтобы воздействовать на этот ход, стремиться направить его по наиболее «позитивному» (с точки зрения автора того или иного публицистического сочинения) пути. Это, конечно, не значит, что публицистика вообще не может нести в себе объективного понимания хода нынешних событий, но все же главная цель исследования современных событий (конечный итог, «плод» которых еще, так сказать, не созрел) естественно и неизбежно раскрывается как стремление способствовать тому или иному вероятному итогу.
Тот очевидный факт, что сегодня так или иначе продолжается политическая и идеологическая борьба, начавшаяся на рубеже XIX–XX веков (например, если выразиться наиболее кратко и просто, борьба между «капитализмом» и «социализмом»), побуждает прийти к существенному выводу: история России XX века (в отличие от истории XIX-гo и предшествующих веков) еще не стала для нас в истинном смысле слова прошлым, мы еще, в сущности, не можем смотреть на нее из действительного будущего – то есть из иной, «новой» исторической эпохи, наступающей тогда, когда итоги предыдущей так или иначе подведены и о них в самом деле можно судить беспристрастно.
Вместе с тем было бы, конечно, нелепо «отложить» на какое-то время изучение этой истории, а кроме того, даже наиболее политизированное (скажем, догматически советское или заостренно антисоветское) исследование хода Революции все же способно выяснить нечто существенное – пусть и с определенными ограничениями и искажениями. Наконец, нельзя упускать из виду, что у современных историков, которые не отдалены от событий многими десятилетиями и тем более веками, есть и несомненные преимущества перед теми, кто будет изучать Революцию в условиях совсем иной, грядущей эпохи с ее особенными проблемами и настроениями (хотя, конечно, наши потомки обретут, надо думать, такую объективность взгляда на итоги Революции, которая нам недоступна).
И, рассуждая о непреодолимой «тенденциозности» нынешних сочинений об еще не ставшей «прошлым» Революции, я отнюдь не перечеркиваю усилия историков, основывающихся на той или иной «точке зрения» («большевистской», «кадетской» и т. п.); в конце концов эти усилия в своей совокупности способны дать многостороннюю картину. Я только предлагаю подойти к делу более ответственно и, прежде всего, более осознанно, чем это обычно имеет место. Если вдуматься, главные «недостатки» тех сочинений об истории XX века, которые основываются на «точке зрения» какой-либо из политических сил (большевиков, кадетов и т. д.) проистекают не столько из самой этой – по сути дела, в настоящее время неизбежной – «политизированности», сколько из того факта, что она или не выявлена, или даже вообще не осознана авторами этих сочинений, преподносимых в качестве будто бы вполне «объективных». Открытое признание о сделанном автором такого сочинения выборе «точки зрения» дало бы существенную корректировку его анализа и его выводов. В моем сочинении «точка зрения», или, вернее будет сказать, «точка отсчета», избрана вполне сознательно, и я говорю о ней с полной откровенностью: это крайне «консервативные» политические движения начала века, которые обычно называют «черносотенными».
Этот выбор вроде бы означает, что я оказываюсь в точно таком же положении, как и историки, которые сегодня избирают «точкой отсчета» большевиков, кадетов, эсеров и т. д. Ведь в настоящее время действуют если и не в полном – практическом – смысле слова политические, то, по крайней мере, идеологические силы, прямо и непосредственно считающиеся (и даже сами считающие себя) наследниками «черносотенцев» начала века. И, следовательно, мое сочинение будет являть собой не столько исследование истории, сколько выдвижение «черносотенства» в качестве программы для современной, сегодняшней борьбы в сфере идеологии и в конечном счете политики.
Однако мое сочинение, надеюсь, убедит каждого читателя в том, что программа «черносотенцев» не может «победить» – как не могла она победить уже и в начале нашего века… Впрочем, и здесь, в предисловии, уместно и должно сказать об этом хотя бы вкратце.
«Черносотенцы» начала века исходили из того, что преобладающее большинство населения России нерушимо исповедует христианско-православные, монархически-самодержавные и народно-национальные убеждения, которые составляют самую основу сознания и бытия этого большинства. Однако ход истории со всей несомненностью показал, что такое представление было иллюзорным. Ныне же, в конце века, лишь не желающие оглянуться вокруг, замкнувшиеся в мире чисто умозрительных построений люди могут надеяться на победу «черносотенных» идей (о политиканах, только делающих вид, что они верят в соответствующий дух современного народа, говорить в данном случае незачем). И я избираю «черносотенцев» в качестве точки отсчета для взгляда на историю России XX века отнюдь не потому, что вижу в их идеологии вероятную программу грядущего пути России. События последнего времени (в частности, результаты различных избирательных кампаний) показали, что политические силы, которые в той или иной мере являются «наследниками» большевиков, или кадетов, или эсеров, могли получать более или менее широкую поддержку населения страны. Однако нынешние православно-монархические течения, так или иначе, но действительно «продолжающие» линию «черносотенцев» начала века, явно не имеют такой поддержки и не способны повести за собой значительные слои народа. Едва ли можно назвать хотя бы одного современного политического деятеля, который, открыто выдвинув последовательную православно-монархическую программу, победил на каких-либо выборах.
Говоря об этом, я, понятно, отнюдь не имею в виду патриотические устремления вообще, которые в той или иной ситуации были присущи и «советской» эпохе. Идеология «черносотенства» всецело основывалась на безусловной, так сказать, врожденной православной Вере, еще сохранявшейся к началу XX века в душах миллионов русских людей; подлинный монархизм и немыслим без Веры, ибо монарх должен представать как «помазанник Божий», находящийся на троне по Высшей (а не человеческой) воле.
* * *
Здесь уместно и важно сделать отступление общего характера. Современные русские люди, полагающие, что можно возродить в душе народа – или хотя бы весомой его части – то зиждившееся на православной Вере национальное сознание, которое было реальностью еще в прошлом веке, не принимают во внимание своего рода переворот в самом «строении», «структуре» человеческих душ, совершившийся за последние десятилетия.
Утрату людьми убежденной, как бы врожденной Веры обычно истолковывают только как последствие запретов и борьбы с христианством в советское время. Между тем история мира дает немало доказательств тому, что жестокие гонения на христиан нередко вели к противоположному результату – к укреплению и росту Веры; есть подобные примеры и в советские времена. И характерно, что очень многие люди, родившиеся накануне или в первые годы после Революции и под воздействием жестоких гонений и антирелигиозной пропаганды вроде бы совсем отошедшие от Церкви, в пожилом возрасте стали возвращаться в нее; это даже дало серьезные основания говорить (главным образом, в так называемом самзидате) о «православном возрождении» конца 1960-х – 1970-х годов.
Однако с теми, кто начали жизнь, скажем, в 1950-х годах, и тем более позднее, дело обстоит по-иному. Правда, в наши дни, когда все запреты с религии и Церкви сняты, многие из этих людей посещают храмы. Но нередко это, увы, диктуется – прошу извинить за резкость – модным поветрием, а не духовным прозрением.
Я отнюдь не хочу сказать, что среди сегодняшних посетителей Церкви вообще нет подлинно религиозных людей; речь лишь о том, что они все же составляют меньшинство, и, пожалуй, не очень значительное…
И причина утраты глубокой подлинной Веры заключается не столько в воздействии официального атеизма и всякого рода запретов, имевших место до последнего десятилетия (что затрудняло или вообще исключало посещение храмов), сколько в кардинальном изменении самой «структуры» человеческого сознания в условиях современной цивилизации.
Еще сравнительно недавно для абсолютного большинства людей их сознание и их деятельная жизнь были чем-то нераздельным, и верующий человек участвовал в религиозных обрядах в храме или в собственном доме, не задумываясь о самой своей Вере, не подвергая ее какому-либо «анализу». Он, в сущности, вообще не мог воспринять свое религиозное сознание как «объект», который можно осмыслять и оценивать.
Но в новейшее время совершается широчайшее и стремительное распространение различного рода предметных форм «информации», которые существуют «отдельно» от людей и их непосредственной жизнедеятельности. Если еще сравнительно недавно человеческое сознание было всецело или хотя бы главным образом порождением самой жизни, формировалось как прямое и непосредственное «отражение» реального быта, труда, религиозного обряда, путешествия и т. д., то теперь оно во все возрастающей степени основывается на том, что явлено в каком-либо «тексте», на различного рода «экранах» и т. п. Могут возразить, что книга и даже газета – «изобретение» давних времен; однако только в XX веке они становятся привычной реальностью для большинства, в пределе – для всех людей. Ранее постоянное чтение было уделом немногих даже из среды владеющих грамотой людей (и, кстати сказать, религиозные сомнения в те давние времена были характерны почти исключительно для «книгочеев»).
Человек, обретающий преобладающую или хотя бы очень значительную часть «информации» о мире из «специально» созданных для этой цели «объектов» – текстов, изображений, кино- и телеэкранов и т. п., – тем самым обретает возможность и, более того, привычку – как бы необходимость – воспринимать в качестве объекта свое сознание вообще – в том числе религиозное сознание, которое ранее было неотделимой стороной самого существования человека, – подобной, например, дыханию.
А превращение своего собственного религиозного сознания в объект неизбежно ведет к «критическому» отношению к нему (под «критикой» здесь подразумевается не «негативизм», а, так сказать, аналитизм).
В свое время человек малым ребенком входил вместе со своей семьей и соседями в храм, вбирал в себя религиозность как органическую часть, как одну из сторон общего и своего собственного бытия, и ему даже не могло прийти в голову «отделить» от цельности бытия свое субъективное переживание религии и анализировать это переживание.
Ныне же такое «отделение» в той или иной мере неизбежно, что обусловлено, как уже говорилось, не большей, в сравнении с отцами и дедами, «образованностью» (именно этим нередко пытаются объяснять утрату религиозности), а существенным изменением самого строения душ, для которых собственное сознание становится объектом осмысления и оценки. А осмысление и оценка основ религиозного сознания – это поистине труднейшая и сложнейшая задача, плодотворное решение которой под силу только богато одаренным или исключительно высокоразвитым людям.
И сегодня подлинная Вера присуща, надо думать, либо людям особенного духовного склада и своеобразной судьбы, сумевшим сохранить в себе изначальную, первородную религиозность, не поддавшуюся «критике» со стороны «отделившегося» сознания, – либо людям наивысшей культуры, которые, пройдя неизбежную стадию «критики», обрели вполне осознанную Веру, – ту, каковая явлена в глубоких размышлениях классиков богословия.
Я близко знал такого человека – всемирно известного ныне Михаила Михайловича Бахтина, который, кстати сказать, утверждал, что любой подлинно великий разум – религиозен, ибо нельзя достичь безусловного величия без Веры в Бога, дающей истинную свободу мысли; поскольку люди вообще не могут жить без какой-либо веры (пусть хотя бы веры в правду безверия), отсутствие Веры в Бога, воплощающего в Себе безграничность, с необходимостью означает идолопоклонство, то есть веру в нечто ограниченное (например, гуманизм, обожествляющий человека, социальный идеал, обожествляющий определенную организацию общества, и т. п.).
Это, конечно, отнюдь не значит, что подлинная Вера доступна только людям великого разума; речь идет в данном случае о глубоко осознанной Вере, но Вера, впитанная, как говорится, с молоком матери и нерушимо пронесенная через все испытания, являет собой безусловную ценность и свидетельствует об особенной духовной одаренности ее носителя. Другой вопрос – что люди, наделенные таким даром, едва ли составляют значительную часть населения страны, хотя их, очевидно, намного больше, чем людей, обладающих высшим разумом, дающим возможность всецело осознанно обрести Веру.
Основная же масса нынешних людей, так или иначе обращающихся к православию, оказывается на своего рода безвыходном распутье: они уже привыкли к критическому «анализу» своего сознания, но для решения на высшем уровне вопроса о бытии Бога, и тем более о бессмертии их собственных душ, у них нет ни особенного дара, ни высшей развитости разума…
Исходя из этого, едва ли можно полагать, что православие и все неразрывно с ним связанное – в том числе идея истинной монархии – способно возродиться и стать основной опорой бытия страны… Утверждая это, я имею в виду современное положение вещей; нельзя исключить, что в более или менее отдаленном будущем положение в силу каких-либо исторических сдвигов и событий преобразуется. Но сегодня тот духовный фундамент, на который стремилось опереться «черносотенство», менее – и даже гораздо менее – «надежен», чем в начале нашего века…
* * *
Повторю еще раз: я обращаюсь к «черносотенству» начала века вовсе не потому, что усматриваю в нем некий прообраз нашего будущего пути (по крайней мере – предвидимого сегодня будущего). Как раз напротив! «Черносотенство» в данном случае нужно и важно в качестве воплощения не будущего, а прошлого.
Как уже сказано, мы еще, по сути дела, не можем смотреть на Революцию из будущего; она в той или иной степени остается не преодоленным настоящим, которое властно порождает стремление не столько познавать, сколько действовать – хотя бы действовать словом – и создавать скорее «программы», чем исследования хода истории. Но если пока еще крайне труден или вообще немыслим взгляд на Революцию из беспристрастного будущего, есть основания попытаться взглянуть на нее из предшествовавшего ей прошлого, которое как раз и являли собой на политической сцене начала века «черносотенцы». Могут возразить, что воплощением прошлого была прежде всего сама тогдашняя власть – царь и его правительство. Но это едва ли сколько-нибудь верно; понимание российской власти начала века как всецело «реакционного» явления было первоначально внедрено в умы (и, в сущности, остается в них и сегодня) боровшимися с ней силами – от кадетов до большевиков. Одна уже фигура председателя Совета министров П. А. Столыпина, игравшего первостепенную роль в 1906–1911 годах, опровергает подобное понимание, ибо «прогрессизм» явно преобладал в этом правителе над «консерватизмом». Так, осуществленные тогда кардинальные изменения в судьбе миллионов крестьян превосходят по своей значительности все, что предпринимали до февраля 1917 года другие «прогрессивные» силы.