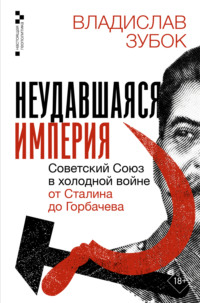Czytaj książkę: «Неудавшаяся империя. Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева»
© В.М. Зубок, текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие к новому изданию
Эта книга появилась на английском языке в США в 2007 году и уже имеет собственную историю. С тех пор была переведена с английского на испанский, польский, китайский и корейский языки. Появилась она и в России: в 2011 году издательство РОССПЭН опубликовало русский перевод (М. Ш. Мусиной) в серии «История сталинизма». К сожалению, издательство выпустило книгу малым тиражом и допечатывать не стало: теперь она библиографическая редкость. Автор благодарен издательству АСТ, прежде всего Татьяне Чурсиной и Алене Колесниковой, за то, что эта книга получает в России как бы второе рождение.
Это второе издание является дополненным и прошло дополнительную авторскую редакцию. Иначе и быть не могло. Между первым и вторым российскими изданиями пролегла целая эпоха: мир разительно изменился, Запад и Россия опять в жестком конфликте, в СМИ говорят о холодной войне 0.2. К сожалению, это делает книгу еще более актуальной, чем рассчитывал автор, когда ее писал. Перечитав ее верстку, я не мог удержаться от вставок в текст, в отдельных случаях добавил ясности и уточнил формулировки. В то же время я принципиально не менял текст книги, не подгонял ее выводы и фактуру под новые обстоятельства. Была когда-то популярна песня со словами: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир…» Книга состоялась и изменению не подлежит. Пусть меняются лишь ее читатели.
Второе издание читается по-другому и другими глазами, чем много лет назад. Само время ставит новые вопросы, на которые не просто найти ответы. В 2011 году мне казалось, что холодная война целиком принадлежит прошлому – не то сегодня. Уже ясно для многих в России и за ее пределами, что новые международные конфликты, прежде всего в Европе и на Ближнем Востоке, выросли из неудовлетворенности, порожденной победой Запада в 1989–1991 году. Троцкому приписывают афоризм: «Вы можете не интересоваться войной, но война обязательно заинтересуется вами». Знание о холодной войне вряд ли само по себе поможет избежать будущих ошибок, опасностей и потрясений – они неизбежны. Но по крайней мере даст читателям в России дальний исторический обзор, возможность сопоставить прошлое и настоящее, продраться через пелену вымысла и пропаганды.
Без ложной скромности замечу, что у этой книги почти нет конкурентов. В предисловии к первому изданию автор писал, что в современной России, к сожалению, проводится мало серьезных исследований о многолетнем противостоянии Советского Союза с Западом. С тех пор ситуация если и изменилась, то к худшему. Люди, которые пережили холодную войну и писали о ней в начале 1990-х годов – прежде всего советские ветераны дипломатии и разведки, военные и политики, – ушли в мир иной. В книжных магазинах – в основном переводная литература или пропагандистские и публицистические сочинения на эту тему. Книга уникальна и по своему размаху, от первых залпов конфронтации до распада СССР. Она также уникальна в силу того, что автору повезло быть свидетелем нескольких эпох: конфронтации и железного занавеса, разрядки, возвращения к конфронтации после ввода советских войск в Афганистан и правления Михаила Горбачева. Все эти эпохи можно оценивать не наспех и под влиянием преходящих эмоций, а на громадной дистанции и с учетом прошедших с тех пор десятилетий. В течение своей профессиональной жизни автор встречался с очень многими участниками событий, в том числе многими, кто работал в высшем эшелоне советского политического руководства, внешней политики, обороны и разведки. После гибели СССР все эти люди делились своими воспоминаниями и мыслями с такой степенью откровенности, которую сегодня немыслимо представить. С 2007 года, когда книга была закончена, в России открылись новые данные о холодной войне, стало гораздо больше рассекреченных архивов. Разумеется, я учитывал это, когда редактировал второе издание. В то же время мне стало особенно ясно другое: та бесценная «живая история» людей, которых я расспрашивал, уже успела погрузиться в реку забвения вместе с ее носителями. Те уникальные детали, которые они успели передать мне, я бережно передаю читателю книги.
Читатель, который видит в истории горы статистики и фактов, в книге этого не обнаружит. История – не точная наука, а прежде всего отчет о прошедшем времени, диалог с другими по поводу этого времени и способ (пусть ограниченный) передать опыт и уроки прошлых поколений будущим. Мне же хотелось бы, чтобы читатели, добравшиеся до последней страницы, согласились со мной в главном: конфликты не начинаются и не заканчиваются сами по себе, их творят и завершают люди, обладающие властью и политической волей. И с таких людей история рано или поздно спросит сполна, по их заслугам, ошибкам и преступлениям.
Владислав Зубок,
Москва, лето 2024 г.
Предисловие
Эта книга посвящена изучению мотивов и интересов Советского Союза в холодной войне – глобальном противостоянии с Соединенными Штатами и их союзниками. В России и других странах бывшего «социалистического содружества» рассекречен большой массив ранее недоступных архивных документов. Возникла возможность изучать те моменты советского прошлого, которые долгое время были окутаны тайной. Количество и разнообразие источников, проливающих свет на политическую, общественную и культурную жизнь в СССР, поражает воображение. Сегодня можно, даже не выходя из дома, по Интернету, изучать записи заседаний Политбюро, читать шифротелеграммы, которыми обменивались руководители компартий; анализировать процесс преобразования импульсов из Кремля в политику на местах, и даже читать личные дневники сотрудников аппарата ЦК. Книжные полки заполнены мемуарами бывших коммунистических лидеров и их помощников, дипломатов, разведчиков и военных. Создан большой задел «устной истории» – записей детальных интервью с участниками событий и конференций, где они отвечают – с большей или меньшей откровенностью – на перекрестные вопросы историков. Эти записи, наряду с дневниками, доносят до сегодняшнего дня эмоции, нравственный контекст, человеческий акцент давно ушедших лет.
Мне повезло: в 1990-е гг. я оказался вовлечен в ряд проектов «устной истории» и работал во многих архивах, что позволило скорректировать и дополнить сухой язык документов разговорами с ветеранами, видными дипломатами, военными, политиками. В результате возникла идея и возможность написать не просто о фактической стороне конфронтации двух великих держав и гонке смертельно опасных вооружений. За любым историческим событием стоят люди – их амбиции, надежды, порывы и преступления, заблуждения и ошибки. За большинство решений и действий советского государства кто-то из этих людей нес непосредственную ответственность, кто-то являлся исполнителем. К тому же СССР вел холодную войну на многих направлениях и во многих измерениях. Линия фронта могла быть зримой и незримой; она проходила и через КПП «Чарли» между Восточным Берлином и американской зоной Западного Берлина, и через московскую кухню, где собирались диссиденты и стукачи и велись разговоры о «социализме с человеческим лицом». Водоразделы проявлялись всюду: от заседаний Политбюро в Кремле до посиделок в студенческих общежитиях. Холодная война была войной нервов и материальных ресурсов, но также это была борьба идей и ценностей, смыслов и образов1.
Глобальность этой борьбы предполагает ее международное, междисциплинарное исследование. Такое изучение вопроса стало возможным лишь после окончания конфронтации. Исследования последних десятилетий дают возможность взглянуть на политику и поведение СССР в годы противостояния более широко – гораздо шире, чем позволяет формат дипломатических переговоров или двухсторонних отношений – в контексте истории социалистической империи. Историки убедились, что вне этого контекста нельзя объяснить многие действия руководителей Кремля: советская политика, поставив целью строительство, а затем и удержание имперского пространства, нередко оказывалась заложницей поведения союзников и сателлитов СССР – заложницей их собственных мотивов, их ошибок, их слабости. Наиболее поразительные находки в новой историографии о холодной войне говорят о сложнейшем взаимодействии Советского Союза и Китайской Народной Республики, Северной Кореи, Восточной Германии, Афганистана и других стран, попавших в советскую орбиту2.
Открывшиеся горизонты, новые источники и методологические находки повлияли на написание этой книги. Хочу упомянуть и о других обстоятельствах. Я родился и получил образование в Советском Союзе, там я начал формироваться как профессиональный историк. Но затем жизнь превратила меня в «космополита»: с начала 1990-х я живу и работаю в США. Последние пятнадцать лет моей жизни я сновал между Москвой и Вашингтоном, Санкт-Петербургом и Филадельфией, интенсивно работал в российских, американских, британских и восточноевропейских архивах, участвовал в многочисленных международных научных конференциях, обменивался информацией с коллегами, приобрел многих друзей, единомышленников и критиков. Работая одним из основных консультантов в 24-серийном телевизионном проекте компании CNN, посвященном истории холодной войны, я задумался о громадной роли СМИ в формировании наших зрительных образов, коллективных представлений и коллективной памяти, о том, как прошедшее транслируется в «историю». Наконец, преподавательская деятельность в ряде университетов, и прежде всего в Университете Темпл (Филадельфия), месте моей постоянной работы, убедила меня в том, что уроки прошлого и знания о нем не переходят к последующим поколениям автоматически, а требуют непрерывных усилий ученых и преподавателей. Каждое поколение усваивает и осмысливает историю как бы заново. Еще я понял, что если постоянно не изучать, не обсуждать и не переосмысливать события еще недавнего прошлого, то оно превращается в параграфы учебника – далеко не всегда качественные – или в сухую статистику. Прошло всего лишь два десятилетия после окончания холодной войны, а она уже основательно подзабыта. Былое поросло травой, а сорняки – искажения, мифы, упрощенные трактовки – растут и множатся с пугающей быстротой. Между тем без понимания того, что происходило в то время, с 1945 по 1991 год, невозможно понять, как и почему возник тот мир, в котором мы живем сегодня, и почему в этом мире нет Советского Союза.
Настоящая книга является продолжением исследования, которое я начинал совместно с Константином Плешаковым еще в начале 1990-х гг.3. Основная концепция, предложенная уже тогда для объяснения мотивов и поведения советского руководства, остается прежней – речь идет о революционно-имперской парадигме. Сталин и его преемники главными целями государственной политики считали укрепление безопасности и усиление могущества СССР. Соперничая с целым миром, советские вожди всеми доступными средствами отстаивали интересы советского государства. Вместе с тем мотивацию внешнеполитической деятельности Сталина и его преемников невозможно отделить от их образа мыслей и от понимания того, что это были за люди. Руководители СССР как, собственно, и вся советская элита, а также миллионы советских граждан являлись наследниками великой и ужасной революции, опрокинувшей царскую Россию и поднявшей на щит мессианскую идеологию о бесклассовом обществе. Для того чтобы объяснить мотивы и действия СССР в холодной войне, необходимо, по меньшей мере, попытаться понять, как советские вожди, партийно-государственная номенклатура и народ воспринимали окружающий мир и самих себя в этом мире. Один из способов приблизиться к истине – обратить взгляд на господствовавшую идеологию. Другой способ понять этих людей – это принять во внимание невероятную трагедию народа, особенно испытания, пережитые им во время войны, которая стала для десятков миллионов советских граждан Великой Отечественной. Есть и третий способ – изучить жизнь и мышление советских руководителей и представителей высшей номенклатуры, социокультурные факторы, способствовавшие их формированию.
Книга состоит из десяти глав, каждая из которых посвящена наиболее важным внешнеполитическим событиям и действиям советского руководства на том или ином этапе холодной войны. Первая глава посвящена огромному наследию, оставленному Второй мировой войной, влиянию войны на советскую партийную номенклатуру и общество в целом. Глава объясняет, как из опыта войны вырастало желание обеспечить гарантии безопасности государству, режиму личной власти И. В. Сталина, но также достичь геополитического господства и создать мировую империю. Вторая глава разъясняет, почему сталинская внешняя политика, с таким успехом распространившая геополитическое влияние СССР в Европе и Азии, помогла подорвать хрупкое послевоенное сотрудничество между великими державами и способствовала началу холодной войны. В третьей главе, на примере политики СССР в послевоенной оккупированной Германии, показано, как расчеты Кремля сталкивались с реальностью и динамикой «советизации» послевоенной Центральной и Восточной Европы. В четвертой главе анализируется поворот в советской внешней политике после смерти Сталина, который был вызван не только сменой идеологических и геополитических акцентов, но и внутрипартийной борьбой за власть и идеологической риторикой. В главе пятой исследуется влияние термоядерной революции и создания межконтинентальных баллистических ракет на представления руководства СССР о безопасности. Особое внимание в этой главе уделено уникальному «вкладу» Хрущева в возникновение самого опасного кризиса за всю историю холодной войны и последующую за этим гонку вооружений.
Глава шестая чрезвычайно важна, так как поднимает тему социально-культурных изменений в советских элитах и обществе, тему десталинизации структур и сознания – актуальную для России по сей день. В ней дается оценка романтического, оптимистического периода «оттепели»; анализируются первые серьезные трещины на фасаде послесталинского «единодушия», появление разномыслия и инакомыслия среди молодых людей, которые зачастую причисляли себя к «шестидесятникам». Все эти явления мощным эхом отзовутся четверть века спустя – при М. С. Горбачеве. Седьмая глава знакомит читателей с политикой разрядки, проводимой СССР, особое внимание в ней уделено личности Леонида Ильича Брежнева как главного инициатора и творца этой политики. В восьмой главе описываются причины, которые привели политику разрядки к закату, а советские войска – в страны Африки, а потом в Афганистан. Девятая глава повествует о том, как происходил переход верховной власти от кремлевской «старой гвардии» к Михаилу Сергеевичу Горбачеву и его единомышленникам из поколения «шестидесятников». В десятой главе главное внимание сосредоточено на различных интерпретациях событий, связанных с окончанием холодной войны и распадом СССР. В ней я предлагаю и собственную их оценку, основанную, прежде всего, на исключительной роли личности Горбачева, его мессианской, оптимистической идеологии «нового мышления», пришедшей на смену революционно-имперской парадигме.
Разумеется, невозможно в рамках одной книги исчерпывающе осветить все события холодной войны, которыми был так насыщен этот исторический период. Хочу заранее извиниться за возможные упущения и адресовать читателя к обширному списку авторитетных книг и научных статей, в которых, благодаря скрупулезному труду историков из различных стран, можно найти ответы на многие сложные вопросы по истории холодной войны. Отсутствие многих деталей и вынужденная краткость в изложении ряда тем в этой книге перекрываются, на мой взгляд, ее панорамным характером и хронологическим охватом. Мне хотелось остановиться на том, что я считаю самым важным и существенным, не превышая при этом разумных рамок книжного формата. Все же я с огорчением вынужден признать, что главной проблемой для меня стала нехватка источников и литературы с глубоким анализом финансово-экономической истории СССР. Из заключительных глав книги становится очевидным, что недуги, преследовавшие советскую экономику в эпоху брежневского застоя и последующий период (1970–1980-е гг.), породили серьезные финансовые перекосы, постоянные дефициты и скрытую инфляцию. Неумение и нежелание партийного руководства справиться с этими недугами, отсутствие в Кремле ясных стратегических приоритетов, грубое нарушение баланса между целями и средствами привело к тому, что СССР начал жить не по средствам, тратил слишком большие ресурсы на то, чтобы доказать всему миру свое величие и, в конце концов, надорвался. В экономике и финансах кроется важнейшая причина крушения советской империи. Кроме того, более глубокое изучение вопросов, связанных с военным строительством и оборонной промышленностью СССР, несомненно, помогло бы мне подкрепить некоторые из моих гипотез и прийти к более обоснованным заключениям в отношении тех или иных внешнеполитических шагов советского государства. Видимо, лучшая книга – это всегда та, которую еще предстоит написать.
Глава 1
Сталин и советский народ – между войной и миром, 1945
Рузвельт думал, [что русские] придут поклониться.
Бедная страна, промышленности нет, хлеба нет, – придут и будут кланяться. Некуда им деться.
А мы совсем иначе смотрели на это. Потому что в этом отношении весь народ был подготовлен и к жертвам, и к борьбе.
В. Молотов, июнь 1976 г.
Нами руководит не чувство, а рассудок, анализ, расчет.
И. Сталин, 9 января 1945 г.
24 июня 1945 г. на Красной площади лил сильный дождь. Но десятки тысяч офицеров и солдат Советской армии не замечали непогоды. Войска стояли по стойке «смирно», готовые пройти торжественным маршем по главной площади страны в ознаменование триумфальной победы над Третьим рейхом. На трибуну Мавзолея Ленина вышли руководители Советского Союза: первым, в отдалении от всех, на Мавзолей поднялся И. В. Сталин. Ровно в десять часов под бой курантов из ворот Спасской башни Кремля верхом на белом коне выехал маршал Георгий Жуков. По его сигналу Парад Победы начался. Кульминация торжества наступила, когда воины с боевыми наградами стали бросать к подножию Мавзолея знамена и штандарты разгромленных немецких дивизий. Пышность и размах парада впечатляли, но и вводили в заблуждение. Советский Союз праздновал победу, однако силы этого великана были подорваны. «Сталинская империя победила за счет запасов народной крови», – делает вывод британский историк Ричард Овери4. До сих пор военные историки и демографы не могут сойтись на том, сколько именно крови было пролито ради победы. На Западе многие считали, что людские ресурсы Советского Союза безграничны, но это было не так. В конце Второй мировой войны советская армия нуждалась в резервах не меньше германской. Неудивительно, что советское руководство и специалисты, которые подсчитывали размер ущерба, нанесенного советской экономике за время фашистской оккупации, побоялись обнародовать данные о человеческих потерях. В феврале 1946 г. Сталин сказал, что СССР потерял убитыми 7 миллионов человек. Никита Хрущев в 1961 г. уже говорил о 20 миллионах. С 1990 г., когда состоялось дополнительное официальное расследование, считается, что потери в войне составили 26,6 млн, включая 8 668 400 личного состава вооруженных сил. Впрочем, судя по заявлениям некоторых российских ученых, и это число еще не является окончательным5. С высоты прошедших десятилетий становится ясно, что победа Советского Союза над фашистской Германией оказалась пирровой.
Огромные потери на полях сражений и среди гражданского населения явились результатом нашествия Германии и злодеяний нацистов, но также результатом вопиющих ошибок, безответственности и неумелости советского политического и военного руководства. Советский подход к ведению войны с начала и до конца отличался ужасающим безразличием к человеческой жизни. Для сравнения: общие потери США в живой силе в армии и на флоте на двух театрах военных действий, в Европе и на Тихом океане, не превысили 293 тысячи человек за почти четыре года войны.
Факты, ставшие доступными после распада Советского Союза, подтверждают данные, полученные американской разведкой в 1945 г.: советская экономика была катастрофически ослаблена6. Согласно официальным советским данным, общий размер экономического ущерба оценивался в 679 млрд рублей. Эта сумма, заключали советские эксперты, «превосходит национальное богатство Англии или Германии и составляет треть всего национального богатства Соединенных Штатов». Более поздние советские расчеты, которые включали в цену войны «продуктивную стоимость» потерянных человеческих жизней, дали астрономический результат – 2,6 триллиона рублей7.
Новейшие исследования показывают, что подавляющее большинство в советских верхах и простой народ не желали конфликта с Западом и хотели вернуться к мирной жизни. Вместе с тем поведение советского государства в мировой политике, особенно в Восточной Европе, было жестким и бескомпромиссным. На Ближнем и Дальнем Востоке Советский Союз действовал силовыми методами, добиваясь сфер влияния, военных баз и доступа к нефти. Все это, наряду с идеологической риторикой, породило столкновение между СССР, с одной стороны, и ее западными союзниками, Соединенными Штатами и Великобританией – с другой. Противоречие между устремлениями советских людей и внешним поведением советского государства очевидно. Не ясно только, каким образом удалось поднять измученную и разрушенную страну на противостояние с могущественным Западом, что двигало Советским Союзом на международной арене, и каковы были долгосрочные цели и замыслы Сталина.
Darmowy fragment się skończył.