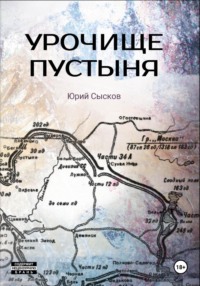Czytaj książkę: «Урочище Пустыня»
Роман-реквием
Всем забытым, безымянным, пропавшим без вести посвящается…
Пустыня ширится сама собою: горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит.
Фридрих Ницше
Ясным майским утром по улице Поперечной в Старую Руссу, город древний, упоминаемый в летописи под 1167 годом, въехал разбитый в хлам джип – привет из девяностых, в котором с трудом можно было узнать Mitsubishi Pajero второго поколения. Когда-то он был радикально черным, теперь же из-за царапин, сколов и вмятин, следов какой-то шрапнели на передней двери со стороны пассажира, крыла цвета индиго и вздыбленного капота серебристого оттенка его окрас не поддавался определению. Кенгурятник, как челюсть боксера, был свернут набок, лобовое стекло испещрено трещинами. Этот джип производил странное, немного устрашающее и в то же время забавное впечатление, вызывая ассоциации с конем Д`Артаньяна, беарнским мерином желтовато-рыжей масти. Каким образом сохранился этот мастодонт, как дотянул до нашей эры было неведомо.
Подстать ему был и владелец «автотранспортного средства» – в этом изрядно потрепанном жизнью мужчине трудно было узнать бывшего командира отдельного разведбата и знаменного взвода 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подполковника Садовского. Тот бесшабашный офицер, лихой вояка и отчаянный забулдыга, прошедший все «горячие точки» бывшего Советского Союза и первую чеченскую остался в далеком прошлом. Сейчас это был грузноватый отставник с кучей старых болячек, расплывшимся неспортивным торсом, синевой под глазами и взглядом уставшего от жизненных передряг человека, в котором явственно сквозило знакомое каждому, кто неумолимо приближается к финишной черте одиночество среди людей. По всему было видно, что он чувствует себя обломком другой, давно минувшей эпохи, от которой остались только курганы и окаменелости каких-то смутных, никому не нужных воспоминаний. И даже телефон у него был кнопочный.
Ему прочили генеральскую карьеру. Но не сложилось. После увольнения из армии он продолжил службу в милиции и некоторое время гонялся за бандитами, потом ему самому пришлось бегать от «стражей порядка» – в нулевые такие метаморфозы не были редкостью. Потом за ним гонялись и менты, и бандиты. Потом он гонялся и за теми, и за другими, пока не наступил мир, нирвана, пенсия.
Личная жизнь тоже как-то не задалась. Нельзя сказать, что он не был счастлив. Был. Как всякий брутальный папаша он души не чаял в своей дочурке и искренне считал, что ему повезло красавицей-женой. Ведь самое лучшее, что есть в этой жизни случается между мужчиной и женщиной. Между гражданином и Родиной, как показывал его боевой и жизненный опыт, происходит нечто другое и далеко не всегда по обоюдному согласию. Но это уже другая, совершенно отдельная тема…
Свою питерскую квартиру после развода он оставил жене и дочери, которая к этому времени успела обзавестись мужем и двумя детьми. Машину, ставшую для него домом на колесах, оставил себе. Задние сиденья пришлось выкорчевать. В результате освободилось достаточно места, чтобы в образовавшемся пространстве могли поместиться все его вещи и он сам.
В Старой Руссе Садовский чувствовал себя сумоистом на свадьбе староверов – так неуместно выглядел на этих тесных, патриархального вида улочках его громоздкий «японец».
На какое-то мгновение он отвлекся на плакат, установленный на обочине – «Вы на правильной дороге, если платите налоги». И тут откуда ни возьмись, влекомая центробежной силой на проезжую часть выскочила бабушка с корзинкой, доверху наполненной дешевыми букетиками с анютиными глазками и всякой декоративной травкой. Он давно понял, что наши старушки – как пули со смещенным центром тяжести, поэтому предугадать их траекторию невозможно. Резко затормозив, он для пущей верности резко крутанул руль вправо и слегка протаранил столб на тротуаре. Кенгурятник со скрежетом стал на место и теперь сидел идеально.
Бабушка даже не успела испугаться. Суетливо крестясь, перемежая брань с божбой, она посеменила дальше. Он укоризненно покачал головой, сдал назад и продолжил движение, стараясь как можно аккуратнее соблюдать скоростной режим.
Но если уж начались неурядицы, то не будет им конца. Возле перекрестка его, шаркнув по бамперу, задела шустрая вишневая «девятка». Из нее вылез сердитый мужичонка с монтировкой и закричал:
– Ты что, ослеп, мудило? Тебе что, правила не писаны? Думаешь, сел в крутую тачку, так теперь тебе по х… веники?
В прежние времена он забил бы этому крикуну монтировку в зад и спокойно поехал бы дальше. Но теперь все было по-другому. Годы делают людей мудрее, терпимее, толерантнее, что ли…
– Прошу прощения. Впредь буду повнимательнее…
Мужичок потерял дар речи. Он рассчитывал на обоюдный обмен мнениями и скоротечный бой, а тут какой-то псих ненормальный попался – извиняется…
Не зная, что сказать еще, водитель «девятки» сплюнул на асфальт, без лишних слов залез в свою таратайку и рванул с места, как ошпаренный.
«Мне нравится этот город», – подумал Садовский.
Перед Живым мостом он припарковался, чтобы осмотреться и определиться с дальнейшим маршрутом. Отсюда открывался потрясающий вид на Воскресенский собор, стоящий на слиянии дремлющих в сонных объятиях утренней тишины рек – Полисти и Порусьи. Это чудо русской архитектуры, отражавшееся вместе с бегущими по небу облаками на зеркальной поверхности лениво струящихся вод, было похоже на большой ярмарочный пряник в обрамлении прозрачно-золотистого, почти иконописного воздуха и нежно-зеленого бархата майской листвы. Он ждал этой встречи и теперь, прислушиваясь к себе, к своим потаенным мыслям и ощущениям, испытывал странное, незнакомое ему прежде волнение.
Садовский никогда здесь не был, точно не был, но у него возникло такое чувство, будто не только он помнит эти места, но и эти места помнят его, непостижимым образом отмечают его присутствие и исподволь следят за ним. Казалось, с ними у него связано что-то важное, судьбоносное, затерявшееся где-то в глубине веков и провалах памяти. Что это было – сожаление, грусть, боль утраты, подспудно подавляемый страх? Или потрясение последнего узнавания, которое человек испытывает на пороге чего-то окончательного, связанного с вечным противостоянием жизни и смерти? Бог весть. Но что-то заставляло его пристально вглядываться в этот четверик с большеоконным фасадом, увенчанным одним большим световым барабаном и четырьмя слепыми поменьше, галерею с пирамидками кокошников по углам и обдающие солнечными брызгами луковицы куполов…
А над всем этим великолепием неумолимо, торжественно и гордо, будто указующий перст или часовой, взявший ружье на караул, возвышался сверкающий шпиль колокольни.
Садовский долго смотрел на этот дивный, исполненный неведомой силы и неземной гармонии пейзаж, как будто за открывшейся ему видимой, поверхностной реальностью, доступной и понятной каждому, открывалась какая-то иная, сокрытая от нас, далекая от нашего суемудрия подлинная жизнь.
В памяти всплыла фотография, сделанная в годы войны с той же точки, где он сейчас находился: черный, по-видимому, понтонный мост, грудой металлолома перекрывающий русло реки, пустынный берег с полуразрушенными постройками, остов обезглавленного храма на стрелке. Древний город, напоминавший вскрытую вандалами могилу святого, был мертв. Казалось – навсегда.
Садовский выудил этот снимок из Интерента еще во Пскове, когда навещал своих старых друзей по разведбату. Кем и когда он был сделан? Судя по времени года – поздняя осень 1942-го. Значит, кто-то из немцев, потому что после штурма и последовавшей за ним оккупации жителей в городе почти не осталось – одни ушли с потоками беженцев, другие попрятались в близлежащих деревнях у родственников, третьи, кто замешкался и не успел покинуть свое гнездовище – укрылись в землянках.
Он понял, что не сможет уехать отсюда сию минуту – этот город не создан для того, чтобы бывать в нем проездом. Здесь необходимо хоть ненадолго, но остановиться, потому что за этими ничем не примечательными кварталами с их сталинской малоэтажной застройкой, как за внешним благолепием Воскресенского собора явственно читался другой, незримый, неизмеримо более древний, расписанный на берестяных грамотах и выцвевших старорусских небесах град, таящий в себе множество неразгаданных тайн, забытых историй и невидимых миру трагедий. Этот диковинный град входит в тебя испугом и каким-то глубинным потрясением, очаровывает, как опоенного зельем, врубается в память и душу, будто топор в плаху и начинает кружить, дурманить голову своей старорежимной запущенностью, отпетой достоевщиной, следами безбожных лет, проступающими сквозь обновленную штукатурку церквей, и страшными отметинами минувшей войны…
К тому же он рассчитывал найти здесь хоть какую-то информацию, которая помогла бы ему отыскать место гибели пропавшего без вести деда по материнской линии – Ивана Михайловича Назарова. От него осталась одна только похоронка, хранимая многие десятилетия как семейная реликвия.
Садовский решил прогуляться пешком, чтобы увидеть храм вблизи и осмотреть его убранство изнутри. Он уже давно не закрывал на ключ и не ставил на сигнализацию свой тарантас. Угнать его непосвященному было практически невозможно – под приборной панелью в труднодоступном месте была секретная кнопка, которая блокировала все попытки завести этого монстра. Но даже с заведенным двигателем он, как упрямый мерин, не трогался места. Для этого требовался волшебный пинок, технологию которого освоил только Садовский. Мелкие воришки тоже не решались на него покушаться: если так страшен этот трижды убитый, видавший виды джип с трафаретом 162-й ОРБ на заднем стекле, то каков же его хозяин!
По Живому мосту он перешел Полисть, оставив слева набережную генерала Штыкова с Памятной доской в честь легендарного комдива, по Воскресенской улице мимо памятника вождю мирового пролетариата добрел до Соборного моста и оказался рядом с колокольней, перед которой стояла небольшая группа туристов с опрокинутыми лицами – они смотрели на нее, как на восьмое чудо света и, затаив дыхание, внимали словам экскурсовода.
Садовский остановился и тоже прислушался, а затем и присмотрелся – не столько к колокольне, сколько к экскурсоводу. Рушанские девушки, как он успел заметить, не отличались особой красотой. Возможно, он поторопился с выводами, поскольку въехал в город субботним утром, когда все уважающие себя красавицы еще нежатся в своих постелях…
Эта была обычной серой мышкой. Но надо отдать ей должное – даже без макияжа утонченные черты ее лица производили отрадное впечатление. А если добавить к этому интеллигентную речь, манеры, изящную фигуру, которую не мог скрыть даже расстегнутый демисезонный плащ и повязанная вокруг шеи газовая косынка, прикрывавшая грудь…
– …чуть позже, после посещения храма, желающие смогут подняться на эту колокольню. Оттуда открывается живописнейшая панорама города. Прошу также обратить внимание на насыпь собора, где, по преданию, покоится бел-горюч камень. Иногда на нем проступают капельки воды, напоминающие слезы. В стародавние времена здесь молились женщины – за тех своих близких, кто отправлялся на войну. Мироточащий камень помогал им унять тревогу и утолить печаль…
Голос, как отметил про себя Садовский, тоже не был лишен приятности, хотя ни тембром, ни полутонами особенно не цеплял. Картину несколько смазывали очки в тонкой металлической оправе, отчего она была похожа на учительницу, офисную секретаршу и домохозяйку одновременно. Какой из этих образов был ей ближе оставалось только догадываться.
– …у этого кафедрального собора, перестроенного по проекту выдающегося русского зодчего Василия Петровича Стасова, очень сложная судьба. Само место, на котором он стоит намолено с незапамятных времен – когда-то здесь стояла деревянная церковь. В конце семнадцатого века был воздвигнут новый храм, освященный в честь Воскресения Христова. Его внешний вид сильно отличался от нынешнего. Большие изменения претерпела и колокольня – она выросла на целый ярус. Ее особенностью были часы, изготовленные тульскими мастерами. В 1937 году в соборе разместился краеведческий музей, в годы оккупации немецко-фашистские захватчики устроили в нем конюшню. После войны в храме открылся кинотеатр, впоследствии он стал складом для стеклотары… В восьмидесятые годы здесь работал музей Северо-Западного фронта…
В конце этого исторического экскурса голос ее заметно потускнел. Один из любознательных туристов оторвался от буклета и бодро поинтересовался:
– А тут написано, что на портале есть этот… килевидный архивольт. Вы можете мне показать его? Мне хочется знать…
– Вот он, перед вами, – неопределенно всплеснула рукой экскурсовод и заторопилась сменить тему:
– А теперь мы пройдем в храм, чтобы познакомиться с главной его достопримечательностью – чудотворным образом Старорусской иконы Божьей Матери. Эта святыня притягивает к себе паломников со всего света…
Садовский крайне редко посещал церковь, не знал, чем кондак отличается от тропаря и в каких случаях поется величание, но прошел вслед за группой туристов, чтобы взглянуть на эту реликвию. У дверей, пропуская своих подопечных, экскурсовод рассеянно посмотрела на него, по-видимому, оценивая, насколько уместен здесь его затасканный армейский камуфляж и холодно поинтересовалась:
– Вы, кажется, не наш…
– Если вы не против.
Ничего не сказав, она вслед за припозднившимся туристом, настойчиво интересовавшимся архитектурными изысками, вошла в собор и остановилась возле огромной иконы, на которой была изображена Богоматерь с младенцем.
– Это самая большая выносная икона в мире – в ней одиннадцать пядей, то есть более двух с половиной метров в высоту и чуть поменьше в ширину, – продолжала экскурсовод. Под сводами храма голос ее множился коротким эхо и казался более значительным, хотя и звучал тише. Теперь в нем явственно слышались благоговейные нотки.
– История святыни полна тайн и загадок. В Виленском мецеслове говорится, что она была перенесена в Старую Руссу из греческого города Ольвиополя, который располагался где-то в районе Херсона. Предание гласит, что во времена Ивана Грозного в новгородских землях вспыхнуло моровое поветрие. Для избавления от эпидемии был совершен крестный ход, после чего Старорусская икона Божьей Матери переместилась в город Тихвин, это примерно в трехстах километрах отсюда. Долгое время между рушанами и тихвинцами не затихала тяжба по поводу принадлежности этой иконы. И только в 1888 году благодаря вмешательству одной их царских особ чтимую икону торжественно перенесли на прежнее место. Перед вами один из списков древнего чудотворного образа. Что касается самой иконы, то участь ее незавидна. В годы советской власти она подверглась поруганию – с нее содрали сребропозлащенную ризу и в таком виде передали в краеведческий музей. В начале войны эта ценнейшая икона бесследно исчезла. И до сих пор о ней ничего не известно…
Повисла минутная пауза. Нарушить ее решился только любознательный турист, которому не терпелось узнать, обладает ли представленная здесь копия чудодейственной силой.
– Да, она почитается верующими и наследует славу древней Старорусской иконы. Еще два списка хранятся в Троицком и Георгиевском соборах. Кстати, в день памяти иконы – 17 мая, когда она впервые была принесена в Старую Руссу вы можете помолиться перед ней о спасении души, благословенной семейной жизни и защите от искушений. Поклониться можно любому из образов. Богородица выступает в роли ходатая перед Всевышним за молящихся…
Она сложила ладони, как бы намереваясь произнести одну из молитв, обращенных к Пресвятой Богородице. Обручальное кольцо на ее безымянном пальце отсутствовало.
– Отличие этого списка от древней иконы в том, что младенец Христос изображен отвернувшимся. Всей своей фигурой он выражает желание отдалиться. По композиции и замыслу образ имеет некоторое сходство со Спасом Недреманное Око…
Огромные, ассиметрично поставленные глаза Божьей Матери были исполнены скорби и всепрощающего смирения, перед которым, казалось, меркло и буйство толпы, и власть кесаря. Младенец, больше похожий на задумчивого иудейского юношу смотрел в сторону с таким выражением, будто оплакивал участь всего рода человеческого и судьбу всякого грешника. Он словно знал о нас нечто такое, чего мы не желаем сами о себе знать и от чего прячемся в свои каждодневные дела, заботы и самообманы.
Всякий раз, посещая церковь, Садовский задавался вопросом, как и почему грубо вырубленные кровожадные идолы язычества были сметены кроткими и печальными ликами христианских святых, просиявшими в золотых и серебряных окладах. Это ли не чудо?
Но от Старорусской иконы исходил какой-то грозный, почти физически ощутимый, пронизывающий все естество неземной свет, как будто это была и не икона вовсе, а щит ревнивого и безжалостного Господа Саваофа, перед которым человек, чувствуя всю глубину своего ничтожества и неизреченную бездну греховности, испытывал желание пасть ниц…
Садовский вышел из храма, не дожидаясь окончания экскурсии. На паперти он увидел диковинного старца с рыжеватой клокастой бородой, как у юродивого на картине Сурикова «Боярыня Морозова» – то ли бомжа, то ли чудаковатого монаха, то ли бомжеватого вида странника, как будто наскоро сплетенного из мха, лесных кореньев и дерюги. На шее у него висели крупные бусы или четки, которые при более внимательном рассмотрении оказались связкой разномастных деревяшек от бухгалтерских счетов, нанизанных на бечевку. На мгновение почудилось, что это шаманские клыки и когти… В руках этот невозможный старикан держал балалайку без струн. По всему было видно, что он собирает милостыню, изображая игру на музыкальном инструменте. Садовскому смутно припомнилась панк-группа из Финляндии, которая в свое время участвовала «Евровидении», но так и не пробилась в финал. Отличительной особенностью этой группы было то, что она состояла из музыкантов, страдающих различными хроническими заболеваниями: кто аутизмом, кто синдромом Дауна, кто церебральным параличом.
Старец казался одним из них. Или обычным городским сумасшедшим. Но что удивительно, глядя на этого безумца и наблюдая за его странными манипуляциями, Садовский не мог избавиться от ощущения, что он действительно слышит музыку – беззвучную, неуловимую обычным слухом, извлекаемую из каких-то неведомых глубин его собственной души и затрагивающую в ней некие потаенные, невесть когда умолкнувшие струны.
Преодолевая невольную робость, которую любой нормальный человек испытывает перед психически больным, он подошел поближе и увидел лежащую на земле рваную картонку. На ней обычной шариковой ручкой довольно разборчиво и складно было написано: «Подайте сему юроду, настоятелю церкви, называемой «Часовня – сень Старорусской чудотворной иконы Божьей Матери», на покупку передвижной мини-звонницы и воинского миссионерского креста-мощевика».
И тут юродивый полоснул его таким острым взглядом, что Садовский невольно отшатнулся.
– Стой, воитель! – скрипуче воскликнул старик, оглядывая его с ног до головы. – Всех агарян разбил? Даром что душегуб и распутник!
– Что ты несешь, старче, – пробормотал Садовский. Он уже давно взял за правило в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг сохранять невозмутимость, словно в жилах его текла не кровь, а выдержанный в дубовых бочках полувековой коньяк, а тут смутился.
– Ишь, куда навострился! – продолжал наседать нищий. – Рано тебе в храм, иди в часовню малу. Молитву знаешь?
– Не знаю ни одной.
– Молись как можешь, своими словами. О спасении души.
– Помилуй, мя, Господи, раба божьего, отмороженного на всю голову…
– А ты не юродствуй.
– Молюсь как могу…
– Далек ты, ох как далек отсель! И идешь издалека, и идти тебе долго…
И вдруг юродивый плаксиво, будто пьяный запричитал:
– А я что же, люди добрые? И в стужу, и в зной, на гноищах яко Лазарь в церкве, мною воздвигнутой, милостыни взимая, иным убогим даяше ю… Не в новой срачице восседаю, но в нищенском рубище. И в храм сей не хожу, осквернивая смрадом своим. Сижу тут, примус починяю, – неожиданно добавил он. Потом улыбнулся озорной детской улыбкой и попросил блеющим голоском:
– Подай, мил человек!
Увидев проходящего мимо священника неопределенного звания в сопровождении какого-то служки, он оживился и весь просиял:
– Хлеб да соль вам, отцы!
И тут же словоохотливо пояснил:
– Се хартуларий – заведующий письмоводством в епархии, важное лицо… Святая братия с ним.
«А старичок-то непрост», – подумал Садовский, выходя из оцепенения, в которое его вогнала малоразборчивая и весьма замысловатая речь юродивого, и засунул под картонку сто рублей.
– Благодарствуйте…
Продолжая сидеть на паперти по-турецки, юродивый стал бить частые поклоны и приговаривать:
– Свят-свят-свят… Хоть и неистов человек сей и погубил свой ум, а не осерчал и сердце свое не оставил. Свят-свят-свят… И яко же молитвами церковь просияет чудесы, и посетит мя светонезаходимое солнце веселия, так и его, даст Господь…
Он всплакнул. Потом неожиданно, как старый чертяка оскалился и с ехидцей произнес:
– А беса всегда узнаешь по нераздвоенным копытам – он нечист!
Садовский машинально посмотрел на свои десантные берцы-крокодилы и понял, что «копыта» у него нераздвоенные…
– А как же я, раб божий, последую примеру преподобного Михаила Христа ради юродиваго, ежели не подадут мне? – зачастил старец и слова его, обгоняя друг друга, понеслись вскачь. – Оный восхождаше на церковные колокольницы и бияше колокола часто, вельми часто… И за многие дни прежде случившейся беды, во как! Якоже обычай бысть во время огненного запаления звонити. А как я, спрашиваю, поступить должон? Ведь что у нас деется?
– Что? – переспросил Садовский.
– На все Кузьминки, Пожалеево да Свинорой вместо колокола авиабомба, что подвешена на древе с войны, вот и все вече. Без звонницы мне никак нельзя, – впервые совершенно отчетливо выговорил он.
– Так ты, дед, из Кузьминок?
– Это только кузькина мать тебе скажет, мил человек, – с лукавинкой усмехнулся юродивый. – А мне откуда знать? Иди, если туда путь держишь…
– Туда и держу.
– Вот и держи, не отклоняйся…
Садовский покачнулся, будто кто-то толкнул его в плечо и ноги сами понесли его прочь. Опомнился он только, перейдя мост через Порусью.
– Блин, что это было? – сам у себя спросил он и закурил, переводя дух, как после десантирования при шквалистом ветре.
Старик никак не выходил у него из головы. Временами он казался рядовым душевнобольным, временами выдающимся сумасшедшим, временами спятившим святым. Его нищенский вид и витиеватая манера изъясняться старославянизмами вселяли смутное беспокойство, суеверное желание отгородиться, очертить меловой круг. Что-то из сказанного им вызывало стойкое неприятие, что-то заставляло искренне недоумевать, что-то клонило к раздумьям. Даже сам факт его физического присутствия в этом мире нуждался в объяснении. И в чем только душа держится. Где, как и на что он живет? И главное – откуда берет силы, чтобы изо дня в день влачить свое жалкое существование?
Размышляя об этом блаженном и соотнося его с собой, со своими нынешними обстоятельствами Садовский невольно задавался странным, неуместным, на первый взгляд, вопросом – а может ли он настолько забыть себя, дойти до такой степени потерянности и отчаяния, чтобы денно и нощно сидя на паперти, просить милостыню? И если может, то насколько он далек от этого? От тюрьмы да сумы… Однако этот нищий не выглядел сломленным. И, судя по всему, легко мирился со своей участью. Более того, создавалось впечатление, что об ином он и не помышлял. И в этом была его неоспоримая свобода, та страшная свобода, которая являет собой наивысший соблазн и пугает абсолютное большинство людей. А ведь он тоже для чего-то родился, кем-то хотел стать, чего-то достичь, быть просто счастливым…
Как и все мы.
Но вместо этого возрадовался какой-то безумной радостью и стал сфинксом на перекрестке дорог, который загадывает загадки и всем своим видом говорит: если тебя преследуют удары судьбы – сделай как я, скажи себе: «Я – сфинкс». И обрати свой взор к небу. Над сфинксами судьба не властна, потому что нити судьбы в их руках… А лучше спроси себя: много ли надо тебе для счастья, или хотя бы для того, чтобы обрести душевный покой и не страдать от сравнения с себе подобными.
В чем-то он прав, этот старик. Предположим, свершится невозможное и сбудется веками чаемое – найдет человек, существо по определению несчастное, эликсир молодости и станет бессмертным, изобретет вечный двигатель и улетит к звездам, научится из свинца добывать золото и сказочно разбогатеет – сделает ли это его счастливее? Отнюдь. А этот, не имея ничего, по-видимому, абсолютно счастлив, несмотря на все свое убожество. С ним – благодать.
К концу второй сигареты Садовский увидел женщину-экскурсовода, плывущую по мосту – так легка и грациозна была ее походка, сопровождаемая мерным колыханием крыльев бежевого плаща и всплесками длинных рыжих волос на ветру. «Ходит плавно – будто лебедушка, смотрит сладко – как голубушка…» И тут же в памяти явились пушкинские строки:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног…
Похоже, она была счастливой обладательницей одной из этих пар. Что же касается выводов, сделанных классиком путем эмпирических наблюдений, то с этим можно было поспорить. Вряд ли мода галантного века позволяла разглядеть в дамах что-то выше прекрасной лодыжки, не говоря уже о ножках в целом.
Она свернула от моста направо. Садовский, чуть помедлив, догнал ее и спросил:
– Могу ли я заказать персональную экскурсию?
– А, приблудный турист, – без особых эмоций проговорила она. – Что вы имеете в виду?
– По ходу вашего рассказа у меня возникло несколько вопросов.
– Только не спрашивайте меня про килевидный архивольт. Я не знаю, что это такое. И чем он отличается от архитрава.
– Вы не обязаны все знать.
– Так что вы хотели спросить?
Несмотря на то, что она не стала уклоняться от разговора с ним Садовский понимал, что ступил на весьма зыбкую почву и в любой момент установившаяся между ними дистанция может быть разорвана. Смотрела эта лебедушка отнюдь не как голубушка. Поэтому говорить надо было коротко и по существу.
– Вы многое рассказали о соборе и колокольне. Но была еще и третья достопримечательность…
Она прямо и открыто посмотрела на него, словно увидела впервые и что-то в увиденном ей явно не понравилось. Он спокойно выдержал эту битву взглядов, понимая, что слова о «третьей достопримечательности» она могла принять на свой счет.
– Я говорю о старике возле храма. Кто он?
Она довольно долго молчала, как бы раздумывая, стоит ли пускаться в объяснения. Что-то мешало ей выйти из образа застегнутого на все пуговицы экскурсовода и стать просто женщиной, с которой пытается познакомиться с виду неустроенный, явно ничейный мужчина.
– Слева от нас Музей романа «Братья Карамазовы».
Кивком головы она показала на желтое здание с белой колоннадой по балкону второго этажа.
– Не знал, что есть целый музей, посвященный роману…
Казалось, она уже забыла, о чем он спросил. Но нет, ответ все-таки последовал.
– Его знают у нас как блаженного Алексия. Сам себя он называет иноком, рясофорным, новоначальным монахом, хотя официальная церковь от него открещивается… Здесь он собирает средства на покупку самой маленькой сборно-разборной колокольни, которую для звонарей изготавливают уральские мастера…
– Долго же ему придется собирать…
– А таких Бог любит. И во всем им помогает. Хотя… Странный он… Одно слово – юродивый.
И она пересказала ему несколько баек об этом чудном старике, оговорившись при этом, что не ручается за их достоверность. Как-то блаженный Алексий пришел на первомайскую демонстрацию – с какой-то черной тряпкой на палке. Издалека она была похожа на развернутый флаг Исламского государства Ирака и Леванта. Был скандал. Полиция вывела демонстранта за пределы площади, куда-то за водонапорную башню, и экспроприировала самодельный штандарт. Что хотел донести юродивый до жителей Старой Руссы? Никто так и не понял. Он ничего не требовал, никого не обличал, не призывал к ответу. Но его появление на маевке, среди нарядно одетых, улыбающихся людей было похоже на вызов. Он выглядел так, словно явился на званый ужин без приглашения, в грязных обносках, всем своим видом оскорбляя присутствующих… В другой раз удумал вбежать в женскую баню. «Яко Симеон богомыслию предамся! – кричал он. – И место подходяще!» Был жуткий переполох. И смех, и грех – вздыхали бабы после того, как выпроводили его шайками и вениками из помывочного зала…
– Справа памятник Достоевскому, – как всегда неожиданно перескочила с одного на другое она. – А чуть дальше – Дом-музей писателя.
Федор Михайлович сидел на постаменте в скорбной раздумчивой позе, очевидно размышляя о бесах, которые до краев заполонили Россию, угрожая самому ее существованию…
– Удачный памятник, – сказал Садовский, чувствуя, что она ждет от него какой-то реакции.
– Мне тоже он нравится, – задумчиво произнесла она. – Тут недалеко еще есть Дом Грушеньки… Помните, кто это?
– Да. Кстати, Михаил.
– Светлана…
Они молча продолжили путь. Между ними возникла какая-то неловкость – разговор не клеился, словно все темы были раз и навсегда исчерпаны. Оба почувствовали: еще минута-другая и им предстоит решить, стоит ли продолжать начатое знакомство и если стоит, то к чему все это приведет. «Почему я к ней подошел?» – спрашивал себя Садовский. В другое время и в другом месте он не посмел бы сделать этого – слишком отчетливо на лице у нее было написано: «Не здесь, не сейчас и не с вами…»
Взгляд его упал на указатель, на котором было написано: улица Сварога.
– Ничего себе, – искренне удивился он. – Здесь до сих пор почитают славянских богов?
– Это не тот Сварог, о котором вы подумали. К богу огня он не имеет никакого отношения. Это художник, который родился в Старой Руссе. На этой улице я и живу…
– Кстати, вы не посоветуете, где тут можно остановиться?
– Надолго? – спросила она без особого интереса.
– На день-другой. А там посмотрим…
– Пойдете по улице Минеральной до Парка Победы, свернете налево, там увидите гостиницу.
– А ресторан там есть?
– Есть и ресторан. Но не советую. Есть немало других мест, где можно недорого и вкусно пообедать.
– Хочу пригласить вас на ужин. Часов в семь устроит?
– Ничего не могу обещать, – сказала она, впервые улыбнувшись.