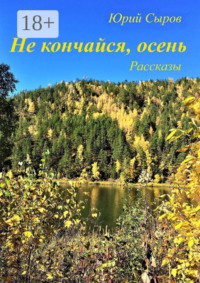Czytaj książkę: «Не кончайся, осень. Рассказы»
© Юрий Сыров, 2024
ISBN 978-5-4493-7628-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сыров Юрий Александрович.

Вдохновением для написания рассказов служат вроде бы обычные, но так редко встречающиеся каждому из нас удивительные люди. Их удивительность – в прорывающейся сквозь привычные человеческие слабости и недостатки душевной красоте и доброте.
Член РСП. Дипломант литературных конкурсов.
Мысли о смысле…
Подруга

«Христиане должны считать себя сораспятыми
Христу – на кресте вместе с Ним»
(стих 16)
Ну, здравствуй, подруга. Давно не виделись.
– Соскучился?
– Надоела.
– Не любишь ты меня.
– Тебя можно любить?
– А как же. Ещё как любят. Ненавидят, проклинают, боятся. Бывают редкие экземпляры, как был отец твой – смеются надо мной, издеваются! Всю войну за мной бегал, а не я за ним. А многие любят. Зовут, умоляют быстрее прийти… от мук избавить. К тебе сколько раз приходила… уж и не помню сколько. Привыкнуть надо бы друг к другу. А ты: «Надоела»!
– Я тебя никогда не звал, а ты приходишь и приходишь. Да сколько можно-то! Об одном прошу: быстрее забирай, да и пошли к дьяволу!
– Да вот, дорогой мой, и проблема-то в том, что Он никак всё не решит: к дьяволу тебя или – к Нему.
– Слушай, Смерть, грехов-то у меня столько! Сама знаешь. Что гадать-то?
– Знаю. Только моё дело маленькое: куда скажет, туда я и поведу. А Он к тебе пошлёт, а сам всё думает, думает. А я всё жду, жду возле тебя. Потом как крикнет на меня: «А ну-ка, брысь!» Самой надоело без конца к тебе бегать.
Будто налитые свинцом веки слегка приоткрылись. Ослепительно белый больничный потолок. Белый цвет – любимый цвет, но до чего же противна сейчас эта белизна!
– Надо. Ладно, ладно, надо. Умирать когда-то надо. Или поздно, или рано. Всё равно ведь надо, ладно…
– Что-то шепчешь?! Вот ты постоянно, как я приду, это шепчешь. Не пыжься. Всё равно ведь не услышит никто. Губы-то не шевелятся, да и нет никого. А я и так всё слышу.
Губы действительно не слушались, были онемевшими, будто в каждую из них вкололи по литру новокаина. Ноги становились все легче и легче, ощущалось нежное, прохладное покалывание, как иголками льда. И вот они вообще перестали ощущаться, словно отделились от остального тела. Вспомнилось, как перед операцией анестезиолог прошептала в самое ухо: «Сейчас слегка закружится голова, не пугайтесь, закройте глаза и засыпа…», от последнего слова в памяти только обрывок, дальше темнота и покой. А потом – пробуждение. Невыносимая боль в животе. Першение в горле от интубации. А как хорошо было под наркозом…
– Ты не могла бы за мной прийти, когда я усну.
– Да ты что! Он меня так только за праведниками отправляет. А ты, дорогой мой… Грехов-то не счесть. Всё возмущаешься, что правды нет на земле. А то ещё хлеще – повторяешь: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше!» Ты это знаешь? Куда лезешь?!
– Он справедлив. Знаю. Раз делает так, как делает, значит нужно так. Только… трудно согласиться с тем, что дети невинные страдают, гибнут. А подлецы, сволочи живут припеваючи.
– Да почему же вы все меня за наказание принимаете?! Наказание или награда вас после ждёт. И детей страждущих и подлецов жирующих, про которых ты говоришь. А жизнь здесь вам не в награду даётся, а для испытаний! Для того, чтобы знать: куда вас потом – к дьяволу или к Богу! И слова эти дурацкие: «… правды нет – и выше» не повторяй за другими.
– Это же великий Пушкин!
– Пушкин… И Пушкин это за другими повторял. Я-то знаю, а ты чего бухтишь? Тебе до Пушкина… А всё равно Он долго решал: куда его. Два дня стояла, ждала. Грехов у Пушкина было… А ты все грехи-то свои помнишь? Прощает Он тех, кто грехи свои помнит и кается. А ты? Когда вспоминал? Когда каялся? А-а, то-то.
– Обо всём помню. И память эта всю жизнь душу гложет, это вечная боль моя за поступки, о которых другие и не вспомнили бы. А прощений у Него не прошу потому, что сам себя не прощаю.
– Ну, может, что и не знаю. Не моё дело про всех вас всё знать. А-а, вот: не венчаные живёте, во грехе!
– Дура ты. Любовь грехом быть не может. Любовь от Него, она – святая.
– А, забыл, как приходила за тобой: то ли в четвёртый, то ли в пятый раз? Ты о чём подумал тогда? Вспомнил? О том, что сын твой пятилетний может быстро тебя забыть! И надо тебе что-то срочно сделать, чтобы помнил он тебя подольше. А ведь это – гордыня! Гордыня, дорогой мой.
– Да, точно, помню. Это гордыня?
– А ещё раньше? Помнишь? Семнадцать тебе было. Лодку льдиной перевернуло, и ты, как самый старший и сильный, плыл в весенней воде и друзей тащил. О чём думал? Я помню, рядом была: «Утону, но ребят спасу! Зато потом героем будут считать!» Герой… Гордыня!
– Помню. Но ведь не только об этом думал. Не всё ты помнишь. Или не хочешь помнить. Злая ты.
– Да, не любишь ты меня. Да и я тебя. Надоело без толку ходить. А Он любит тебя. А.., Он всех любит. А ты о Нём только тогда вспоминаешь, когда за близких своих боишься. Молишься, прощения за их грехи просишь. Просишь наказать и послать на тебя то, чем Он хочет их наказать. За грехи других страдать хочешь? Считаешь, что ты как Он, что ли?!
Вот уж – гордыня.
– Любовь это, а не гордыня.
– Не оправдывайся. Хотя… душа у тебя чистая, светлая. Жалеешь всех, всем помочь хочешь. А всех ведь не разжалеешься! Вы, люди, разные все. Большинство – «у креста». А некоторые, ненормальные – «на кресте». И ты – «на кресте». Только не как Он, не думай. Рядом с ним. Хоть и не очень-то его почитаешь, но живёшь – как Он велел. И не потому, что Он велел, а потому, что по-другому не можешь. Счастье для тебя – делать счастливыми других. Он знает, что ты никогда не отказал в помощи, кому она нужна была. Знает, что за это частенько отвечали плевком в сердце тебе. Знает, что не озлобился, считаешь, что это его право: карать, прощать! Знает, что сердце твоё преисполнено болью, состраданием и милосердием. Вот и не может никак решить: куда тебя…
– Слушай-ка, подруга, а мне что-то легче стало.
– Ох и надоело же мне это всё! Пусть Сам за тобой потом идёт! Ну да ладно, куда я денусь. Ну, пока – не прощаюсь. Как там в твоей считалке: «…или поздно, или рано, всё равно ведь: надо, ладно…», так? Помни: на кресте или у креста. Только… будешь на кресте – раньше приду!
Куда мне…
Не больно… Ничего не чувствую. Не болит совсем! Слава тебе, Господи…
А… что это? Где я?! Не-ет! Нет… Господи, за что?! Умер… Всё, значит…
Да ну и ладно. Ну и хорошо… А ведь и правда хорошо. И спокойно совсем стало… Легко.
А много-то как нас… Все идут куда-то, идут. Друг за другом. Прямо, прямо, потом поворачивают. Стоит кто-то впереди. Налево всем показывает. А что там? Пятно огромное. Чёрное. Как пещера… Ад? А справа? Такое же, только ослепительно-светлое. Да… И все налево…
И мне идти? Ну и ладно. Ну и хорошо… Куда мне… знаю – куда.
Не туда пошёл?! А куда мне? Направо! Нет? Нельзя? Рай не для меня… А куда же… Назад?! Как… Опять туда, где горе, муки, боль… Зачем… за что Господи… За что?!
Жить
Как больно! Если б только кто знал! Муки душевные не сравнить ни с чем. Нет сильнее, мучительнее и невыносимее этой боли. Куда от неё деться?! Нет спасения. Нет. Ни в темноте. Ни в свете. Нигде!
Как бы время повернуть назад!? На несколько секунд слетать в прошлое! Прожить по-другому то мгновение, от которого теперь никуда не деться. За которое до смерти стыдно… До смерти? Только и осталось! Чтоб не видеть и не слышать ЭТО! Жизнь – мука, горе, боль! Страх смерти. Прихода её к родным, близким, к себе… Особенно когда болезнь и… старость. Страх оттого, что приход её неминуем! А раз неминуем, то зачем ждать? Это решение всех проблем. Всё меркнет перед смертью: неустроенность, бедность, несправедливость, болезни, страх, злоба и пакость гадких врагов, стыд, позор. И «камень на душе» – не разобравшись несправедливо обидел, причинил боль. Осуждение самого себя – самое страшное, от чего никто и ничто не спасёт. Только смерть. Она всё решит, всё спишет.
И сразу легко и просто всё вокруг, сразу найдены ответы на все вопросы… вернее, уже нет больше вопросов! Мертвым всё можно, мертвым всё прощается, ВСЁ. И сразу это ВСЁ становиться мелким, ничтожным, никчёмным и далёким. Как страшный сон, приснившийся когда-то в детстве, и, за давностью лет, еле различимый в туманной пелене памяти.
И будет всё равно, что скажут и подумают. Всё равно, что сделают с тобой: сожгут, закопают, выбросят на распотрошение воронам – всё равно. Какой ты: синий от повешенья или утопления, красный от яда, с дырой в голове от пули, серо-белый от вскрытых вен – будет всё равно!
Будет… Но сейчас! Сейчас, пока ещё здесь, в этом мире – совсем не всё равно. Совсем. И хочется уйти красиво, и выглядеть красиво, и лежать красиво и в красивом… и чтоб говорили и думали красиво, и плакали, чтоб искренне и красиво, и помнили чтоб… красиво.
Но оттуда ведь ничего не слышно и не видно! Пустота! Темнота! Как во время наркоза, только не на время, а навсегда! И говорить будут не то, что хотелось бы услышать. А уж думать и плакать… И помнить – не все и недолго…
А родные и близкие? Ведь это для них невыносимо… Им-то за что это?
?
А, может, не такое уж это ВСЁ и ВСЁ?
?
Да плевать на эти проблемы – не такие уж они и не решаемые!
А стыд, позор? Струсил. Соврал. Обидел невиновного…
Но ведь не хотел, вышло так! Не смог. Не вынес. Не стерпел. Не выдержал… И что теперь? Смерть?
Да ну её к чёрту! Она сама придёт, не опоздает, когда надо будет! А это ВСЁ, от чего хотелось пулю в лоб – судьба, «крест»! И надо, невзирая ни на что, нести его – жить! Жить!
Боженька

– Боженька, помоги! Боженька! Помоги! – громко шептал сухими потрескавшимися губами худенький, горбатый старичок. Он сидел на берёзовом чурбаке рядом с умирающей коровой, положив её огромную голову себе на колени. Бока лежащей коровы, будто кузнечные меха, то разъезжались в стороны, то сжимались, выталкивая из ноздрей горячие, розоватые брызги. Старичок уткнулся лицом в широкий коровий лоб между её больших, немигающих глаз и быстро-быстро зашептал одному ему и, видимо, ей слышные и понятные слова. Затем запрокинул лицо и, словно в самое небо, громко, что есть мочи, закричал:
– Боженька! Миленький! Помоги-и!
И снова уткнулся в мокрый от его же слёз коровий лоб.
Через некоторое время бледный старичок медленно вышел из хлева. Аккуратно прикрыл за собой дверь и лёг около неё на бок, подсунув под голову свою сухонькую, сморщенную ладошку.
Хозяева больной коровы всем семейством столпились около лежащего деда. Трёхлетний Гришатка присел на корточки и, нежно гладя его седую голову, запричитал:
– БоЗенька, миЕнький! БоЗенька, юбименький! УмаиЙся, мой БоЗенька!
Дед приоткрыл глаза, протянул Гришатке дрожащую руку и, пытаясь улыбнуться, прошептал:
– Ничего, тёзка, устал маленечко, ничего. Ты водички мне… водички.
Стоявшая рядом мать Гришатки кинулась в дом. Прибежав с водой, упала перед старичком на колени и поднесла кружку к его пересохшим губам:
– Дядя Гриша, может, в избу?
– Нет, Тосенька, нет… отдохну здесь… маленько, подожду: как она горемычная? – тихо сказал он, жадно глотая воду. Потом поблагодарил Антонину, быстренько перекрестив её, и, сказав устало: – Спаси тя Боженька, – снова уронил голову.
Будто услышав своего спасителя, корова отозвалась громким мычанием. Хозяин бросился в хлев и тут же, выбежав обратно, растерянно прошептал:
– Стоит… серку жуёт… Вроде и не хворала вовсе.
Антонина, стоя на коленях и кланяясь деду, сквозь всхлипы тараторила:
– Дяденька Гришенька, дяденька Гришенька, Боженька! Господи! Уберёг нашу кормилицу! Дяденька Боженька, ми-лень-кий! Господь тебя спаси-и! Крылья у тебя ту-ут… – и, уткнув лицо в горбатую спину деда, громко разрыдалась.
Даже в лучшие годы коровка для крестьян была значимым, дорогим членом семьи. А в голодный год – спасением от смерти.
Дед Боженька прозван был так за его божественный дар спасать скотину от любых болезней, да ещё за то, что всем говорил при встрече: «Спаси тя Боженька!» – да и за то, что не брал за работу свою ничего.
– Мне Боженька дар дал, чтобы я у вас нелишний кусок хлеба отнимал? – отвечал он пытавшимся отблагодарить его.
В тот страшный голодный год дед Гриша, Боженька, умер. Умер… от голода. Дай, Боженька, ему там всего, чего он заслужил!
Хомут

«…Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят…»
(Есенин)
– Гришка Тишкин – Паровозя,
Гришка Тишкин, ты кривой,
Не работаешь в колхозе,
Разошёлся ты с женой! – пел писклявый голосок, прорываясь сквозь рваные клочья туманной дрёмы в воспалённой голове Гришки. Он приоткрыл глаза – голосок приумолк. Гришка знал из прошлого опыта – такое уже не раз с ним бывало – это начало белой горячки. Начинается с голосов, при закрытых глазах, а при открытых они исчезают…, сначала, потом и при открытых… А дальше насекомые всякие по телу бегать начинают, чёртики зелёненькие донимать: заставляют подчинятся, делать то, что они прикажут. А, главное, пищат, гады, да так противно пищат… частушки всякие припевают… сволочи.
Частенько с Гришкой такое случалось, потихоньку привык он и научился жить с этим. Главное – не боятся и делать всё наперекор чёртикам. Чтоб убедиться, он снова зажмурил глаза. Голосок тут-же запищал:
– Всё, что в жизни было – сплыло,
Сплыло, пеленой закрыло…
Гришка повернулся на живот, зарылся с головой в солому, на которой лежал, простонал сквозь всхлипы:
– А-а… Мамынька…, ма-ма, милая-а…! Тя-тя, тятенька, родненький…
С силой придавил себе руками уши, пытаясь приглушить противные голоса. Вспомнил отца, детство. Отец… Как они играли с ним, как донимал его:
– Тять. Тятя, в паровозю давай играть! В паровозю!
Отец сажал сына на плечи и, подпрыгивая, бегал по избе:
– Чух-чух- чух! Чух-чух-чух! Мы с Гришаткой па-ро-возя, чух-чух-чух!
А мать… как она любила его! Возьмёт, бывало, на руки, прижмёт к груди крепко-крепко и шепчет в ушко: – Кровиночка ты моя милая, Паровозя ты мой сладенький.
Так и пристало к нему – Паровозя.
Всплыли в памяти её слова, сказанные незадолго до смерти:
– Гришенька, сыночка мой родимый…, что ж ты делашь-то…! Знала бы я, что ты превратишься в такого. Господи… да в люльке бы задавила тебя! – и тут-же – Гришенька, родненький, прости меня, дуру старую, Христа ради! Прости! Ведь так и издохнешь под забором.
Гришка приоткрыл глаза – писклявый снова притих – поднялся, покачиваясь, присел на валявшийся рядом берёзовый чурбак и стал мучительно вспоминать: сколько ж дней пил? Неделю? Нет. Не смог вспомнить. Во дворе пил. А что, в избе – жарко… в избе, душно…, пусто. Да и двор-то пустой. Скотины давным-давно нет. И жена ушла. И детей увела. Разошлись они, не вынесла она жизни такой, но не смогла его совсем бросить: приходила, еду готовила, стирала, в избе прибирала. И детишки не раз за день прибегали, вечно пьяного тятьку проведать…
– Все, что в жизни было – сплыло,
Сплыло, пеленой закрыло – заблеял голосок.
– Ну вот, началось… – обречённо пробормотал Гришка. Встал, стряхнул с себя прилипшую солому, попытался стряхнуть чёртиков, прыгавших по ногам, поднял голову и прилип взглядом единственного зрячего глаза к крюку, на котором висели хомут и вожжи.
– Интересно. Никак… хомут? Точно, вижу! Точно хомут. Слава Богу.
Раньше, когда с Гришкой «начиналось», хомут превращался в огромную голову. То в голову отца, то матери, то в чёрта какого-то страшного. А сейчас с ним «началось», а хомут был – просто хомут, не чёрт, не отец, не мать. Матери давно нет, и отца нет, и лошадей нет ещё давнее, а хомут… хомут висит, почти тридцать лет висит. Хомут жалко. Жалко выбросить, жалко отдать, жалко. Он напоминает о счастливом детстве…
Отец хомут и всю новую сбрую купил после рождения Гришки, перед тем, как его в церковь крестить везти. Две лошади у них было. Сивка – конь-богатырь: и пахали на нём, и возили сено, дрова, навоз на поле. И Рыжик. Конь-красавец: высокий, осанка гордая, грива рыжая чуть не до земли, шерсть лоснится, глаза горят. Его отец запрягал только в тарантас. Ездили на базар, в церковь…
Церковь-то была какая! Теперь обветшала, почернела, кресты поломали, иконы порубили, сожгли… – склад зерновой там сейчас. Лошадей при раскулачивании забрали. Отца осудили за убийство комсомольца и расстреляли. Хотя все в деревне знали, что убили комсомольца его же сотоварищи. Не поделили отобранное добро. Но Гришкин отец угрожал ему. Когда раскулачивать пришли, отец за голову красавца коня обнял, заплакал, умолял оставить Рыжика, ведь старый он уже – Рыжик то, зачем он им… Комсомолец тот его наганом по голове, уздечку вырвал и повёл Рыжика. Отец проклятья ему и в драку.
Били они долго отца… и Гришку били – тятьку бросился защищать. Наутро опять пришли. Ночью убили комсомольца того. Подозрение на отца да Гришку, хоть и лежали они оба, полуживые, пластом всю ночь. Отца увезли, а Гришку по малолетству – четырнадцать ему всего было – пожалели, попинали только ещё на прощание сапогами коваными. Не верилось, что живой останется. И кашлял кровью, и мочился кровью, но выкарабкался. Глаз только вытек, да зубы почти все выплюнулись…
Трудно им с матерью пришлось, настрадались. И соседи, и родственники отвернулись – боялись. Как жить?! Воровать Гришка стал… и пить. Попался. Посадили. Долго сидел. Потом война, попросился в штрафбат. Пришёл с войны израненный, грудь в медалях… Мать пятнадцать лет только надеждой и жила, что сыночку своего дождётся, что прижмёт крепко-крепко к груди и зашепчет в ушко ему:
– Кровиночка ты моя милая, дождалась я тебя, родненький… Паровозя ты мой сладенький…
Стала налаживаться жизнь их потихоньку. Дом поправил, работать стал: десятником его взяли на торфоразработки. В колхоз не пошёл, не смог – обида старая. Женился, детишки пошли. Всё бы ничего да… болезнь. Мать старая стала, умерла, но больше от горя. Потом и жена ушла, не выдержала…
Чертики резво попрыгали с его ног на хомут. Маленькие, наглые. Смеются, пританцовывают. А тот, писклявый, самый маленький – всего с Гришкин палец – смеётся громче других и припевает, гад:
– Все, что в жизни было – сплыло,
Сплыло, пеленой закрыло
Остальные хором подхватили:
– Гришка Тишкин ¬ Паровозя,
Гришка Тишкин, ты кривой,
Не работаешь в колхозе,
Разошёлся ты с женой…
Гришка вытер слезы, тряхнул головой и закричал:
– Идите на х…, б… ди! Вы мне тут, хош распляшитеся, не впервой! Вас, перво дело… вас не слушаться, и… всё.
Он привстал, снял хомут и вожжи с крюка, присев, положил его на колени, вожжи на шею себе повесил. Любовно погладил хомут, стараясь сдерживать размашистую дрожь в руках и не обращая внимания на пляшущих на нём чёртиков, попытался поковырять ногтем еле приметные, тоненькие, как волоски трещинки на прохладной, мягкой коже.
– Стареем мы, брат, стареем. Ты дольше меня проживёшь, я знаю. Только… как без меня у тебя всё сложится. Может, в колхоз отдадут, только… нет же у них таких лошадей, которым бы ты по размеру подошёл! Рыжик то великан был. Не нужен никому ты без меня. А я тебя… я тебя с собой возьму, вот. С собой.
– Гриша, на-ам! Нам он нужен, нам, нам, нам – затараторили чёртики наперебой.
Сердце колотилось, будто кролик в клетке. Казалось, что вот-вот выпрыгнет и помчит, помчит…
Чёртики тут-же запричитали повторяя Гришкины мысли:
– Сердце, седынько моё,
Что ты бьёшься, как крольё!
Гришка снова посмотрел на крюк. Тятька крюк то вбивал. В памяти снова всплыл отец. Большой, сильный, борода окладистая…
– Чё, сынок, думаш не выдержит тебя, крюк-то? Вы-ы-держит! Дак, чай, висеть-то недолго будешь. Не хомут чай. Сымут, у кладбища закопают… у забора.
Гришка оглянулся. Сзади стоял отец, улыбаясь, гладил седую бороду.
– Тять, я ведь знаю, что это не ты… это… – Гришка запрокинул голову и завыл:
– Душа моя рваная, когда ж успокоишься ты… Господи! Да дай же ты мне хоть чуточку покоя! Чуточку. Сколько мне нести этот «крест»…, этот «хомут» мой… Дай хоть в конце мне чуть-чуть! Чуть-чуть покоя в конце…
– Сынок, а глянь-ка на крюк-то мой, глянь-ка.
Гришка вытер лицо, посмотрел на крюк. Там, с выпученными глазами, вывалившимся языком висел на вожжах он, Гришка. На голове прыгал тот самый нахальный чёртик и пищал:
– Гришка Тишкин – Паровозя,
Гришка Тишкин…
Гришка оглянулся на отца. Тот беззвучно смеялся. Отвернувшись и помахав ему своим чёрным, козлиным хвостом, цокая копытами, ушёл сквозь стену.
Заскрипели, открываясь, дворовые ворота и, боязливо пригнувшись, медленно, держась за руки, вошли Гришкины дети: семилетний Степашка и дочурка любимая, пятилетняя Сонюшка.
Гришка привстал с чурбака, улыбнулся и, протянув к детям руки, пошёл навстречу:
– Детыньки, милые, не забывают тятьку, не забывают. Сонюшка, солнышко моё…
Но дети, оцепенев на секунду от вида висящего на крюке, с визгом бросились на улицу, к бегущей навстречу матери:
– Мама-а-аня! Татя! Тятя! Пове-есился-я!
Он видел всё: как его сняли, занесли в дом, как плакали дети, как, заламывая руки, кричала жена. Как бегала она по монашкам (попа то в деревне не было давно) умоляла отпеть Гришеньку родного – не грешен ведь он, болезнь это, болезнь… – ни одна не согласилась. Божьего гнева испугались, грех непрощёный и отпевать самоубийцу.
Утром люди стали собираться. Заходили ненадолго в дом, угрюмо постояв у его ног, выходили и толпились на крыльце. Мужики курили самокрутки, качали головами, и в который уже раз обсуждали чудо – копая могилу вдруг наткнулись на закопанный там хомут…
На следующий день Гришку хоронили. Хоронили… с хомутом. За кладбищем, у забора. Как мать и пророчила…, под забором.