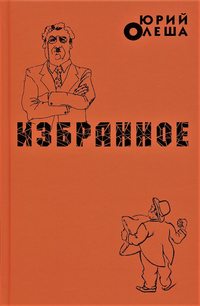Czytaj książkę: «Избранное»
Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

© Шкловская – Корди В. В., 2019
© Оформление Котлярова Г., 2019
© Издательство «Художественная литература», 2019
Писатель, которого не спутаешь ни с кем
Юрий Карлович Олеша родился в 1899 году в Елисаветграде (ныне Кропивницкий). Род Олеша старинный, его корни прослеживаются с XV века, от боярина Олеши Петровича, которому удельный князь Федор Боровский передал во владение село Бережное, тогда входившее в состав Великого княжества Литовского и Королевства Польского (сегодня Беларусь).
Отец будущего писателя – Карл Олеша – был акцизным чиновником и помещиком: владел лесным имением, носившим название «Юнище». Карл с братом были заядлые картежники, продали поместье за долги.
В обрывках детских воспоминаний Юрия Олеши остались катание на рысаках, жизнь в роскошной квартире и скандалы из-за отцовских попоек и поздних возвращений из клубов. Мама Юрия была талантливой художницей.
Юрий прожил в Елисаветграде первые 3 года, затем семейство переехало в Одессу. Воспитанием мальчика занималась говорящая по-польски бабушка. Революционные события мелкобуржуазная семья приняла настороженно.
В 11 лет Юрий стал учеником Ришельевской гимназии. Юного ироничного шляхтича в классе побаивались: попасть в поле внимания язвительного Олеши значило надолго стать посмешищем всей гимназии. Уже тогда мальчик обладал невероятной фантазией и язвительностью.
Первые рифмованные строчки Юрий Олеша написал в старших классах. В одесском «Южном вестнике» состоялся литературный дебют юноши: редакция взяла стихотворение «Кларимонда» в печать. В 1917-м Юрий Олеша получил аттестат зрелости и поступил в Одесский университет, выбрав юридический факультет.
Вместе с Валентином Катаевым и Ильей Ильфом он влился в «Коммуну поэтов». В городе на берегу Черного моря одно за другим возникали литературные объединения. В 8-й аудитории университета по четвергам проходили творческие вечера талантливых одесситов. Кумирами молодежи были Николай Гумилев, Александр Блок, Игорь Северянин.
В Одессе состоялся драматургический дебют Олеши – родилась пьеса «Маленькое сердце». Ее поставили члены литературных кружков. Текст затерялся, но в творческой биографии писателя пьеса сыграла роль: Юрий услышал первые восторженные отклики.
В 1920-м жемчужину у моря, неоднократно переходившую из рук в руки, заняла Красная армия. Теперь одесские литераторы сочиняли агитационные текстовки к плакатам и листовкам, устраивали спектакли в рабочих столовых, которые открылись в ранее фешенебельных ресторанах и кафе. Новую одноактную пьесу Олеши «Игра в плаху» увидели на сцене Театра революционной сатиры.
Весной 1921-го Олеша и Катаев перебрались в Харьков, где литератору доверили руководить украинским радиотелеграфным агентством. Юрий Олеша устроился в театре «Балаганчик», но спустя год компания переехала в столицу. В Москве одессит поселился в писательском доме и устроился на работу в газету «Гудок», на страницах которой публиковались Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров. Писатель назвал «гудковский» период лучшим в жизни. Впоследствии он писал:
«Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни – это моя работа в “Гудке”. Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей Советской родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики».
Юрий служил в отделе информации, где заклеивал конверты с редакторскими письмами: в Москве, после провинциальной Одессы, Олеша начинал карьеру с нуля. Спустя год начальник отдела, почитав сочинения подчиненного, доверил написать фельетон в стихах. На вопрос, кем подписать, посоветовал псевдоним «Зубило».
Дебют увенчался успехом. В «Гудке» один за другим появлялись новые фельетоны, подписанные – «Зубило». Материалы Олеше поставляли рабкоры, писавшие о воровстве, кумовстве, бюрократии и прочих язвах общества в регионах. Читателям хлесткие стихотворные опусы Юрия Олеши нравились, на них приходили сотни откликов.
Тогда в «Гудке» работали такие люди, как Булгаков, Петров, Катаев, Ильф, Славин, Бондарин, Гехт.
Газетная работа открыла большие художественные возможности для будущего прозаика. Олеша сразу овладел искусством писать просто и доходчиво. Так была написана детская сказка «Три толстяка». Теперь ее читает каждое новое поколение детей.
В печать сказка попала лишь после оглушительного успеха второго романа Олеши, вышедшего в 1927 году под названием «Зависть». Роман о судьбе интеллигенции после революции считается лучшим в наследии Юрия Олеши. Мечтателя из «Зависти» Николая Кавалерова, в котором угадываются черты автора, современники назвали героем нашего времени. В середине 1930-х Абрам Роом снял по роману драму «Строгий юноша». В начале 1930-х Олеша написал по роману «Зависть» пьесу «Заговор чувств», но цензура разглядела в ней критику строя и запретила. Писатель переделал произведение, назвав его «Список благодеяний». В 1931-м пьесу взял в театральный репертуар Всеволод Мейерхольд. Постановка шла три сезона в переполненных зрительских залах, но вскоре попала под запрет.
Писатель надолго замолчал. Многих коллег, близких друзей Олеши репрессировали, а на его творчество наложили вето. Начавшуюся Великую Отечественную войну Юрий Олеша пережил в эвакуации в Туркмении.
Запрет на книги сняли в середине 1950-х, но Олеша мало писал. В основном это были инсценировки на романы классиков – Достоевского, Чехова.
Сам же писатель, по-видимому, главным своим делом в последний период жизни считал работу, которую вел изо дня в день, из месяца в месяц, записывая – пока только для себя – повседневные впечатления, воспоминания детства, мысли об искусстве и литературе. Это были одновременно дневники, автобиографические записи, портретные зарисовки людей, с которыми Олеша встречался. Поначалу разрозненные отрывки, для которых было придумано условное название «Ни дня без строчки», Олеша предполагал со временем объединить в целую книгу со своей темой, сюжетом. В книгу, «закругленную», как роман. Да она, вероятно, и стала бы романом духовной жизни писателя, если бы смерть Олеши – 10 мая 1960 года – не оборвала эту работу.
На страницах своих книг он создал особый, своеобразный мир – мир Юрия Олеши, который не спутаешь ни с каким другим.
Зависть

Часть первая
I
Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:
«Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-та-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!»
Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, и локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора. В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.
Это образцовая мужская особь.
Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посередине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.
Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.
Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.
(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь – монета или запонка падает – со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)
Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посредине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)
Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие – под самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка.
Он взял флакон; щебетнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы – от лба к затылку и обратно.
Утром он пьет два стакана холодного молока: достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь.
Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпяченные. Он, оказалось, щеголь.
Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осовелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же: «Кракатоу… Крра… ка… тоууу…»
Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке! Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотою. Она напоминает фламинго. Квартира на третьем этаже. Балкон висит в легком пространстве. Широкая загородная улица похожа на шоссе. Напротив внизу – сад: тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревастый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи.
Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусить. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпротов, скумбрию в консервах, большой батон, голландского сыру доброе полулуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад «Персидский горошек». Была заказана яичница и чай (кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь).
– Лопайте, Кавалеров, – пригласил он меня и сам навалился. Яичницу он ел со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши. Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, – нож блещет, как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают – класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш.
Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, только рассек желтую скулу яблока и бросил.
Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой:
– Андрей Бабичев – один из замечательных людей государства.
Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар.
А я, Николай Кавалеров, при нем шут.
II
Он заведует всем, что касается жранья.
Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил «Четвертак».
Растет его детище. «Четвертак» – будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак.
Объявлена война кухням.
Тысячу кухонь можно считать покоренными.
Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны… Если хотите, это будет индустриализация кухонь.
Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы.
Я узнал о нем такое.
Он, директор треста, однажды утром, имея под мышкой портфель, – гражданин очень солидного, явно государственного облика, взошел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун-аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном, заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети. На него сразу набросились. Он мешал всем – громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем, в пенсне, элегантный и чистый. И решили фурии: это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него (кричали ему вслед) потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так:
«Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши – от галдежа, мы заставим картошку волшебно, в одно мгновенье, сбрасывать с себя шкуру; мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, – половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, глетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах».
Он, как факир, пребывает в десяти местах одновременно.
В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям, – боится, что не поймут и напутают.
Вот образцы его записок:
«Товарищу Прокудину!
Обертки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю (шоколад, начинка), но по-новому. Но не “Роза Люксембург” (узнал, что такое имеется, – пастила!!), – лучше всего что-нибудь от науки (поэтическое – география? астрономия?), с названием серьезным и по звуку заманчивым: “Эскимо”? “Телескоп”? Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя, мне в правление. Обязательно».
«Товарищу Фоминскому!
Прикажите, чтоб в каждую тарелку первого (и 50-и и 75-копеечного обеда) клали кусок мяса (аккуратно отрезанный, как у частника). Настойчиво следите за этим. Правда ли, что: 1) пивную закуску подают без подносов? 2) горох мелкий и плохо вымоченный?»
Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница.
В десять часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь человек. Он принял: 1) заведующего коптильней, 2) уполномоченного дальневосточного консервного треста (схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать; вернувшись, поставил ее рядом, возле локтя, и долго не мог успокоиться, все время поглядывал на голубую жестянку, смеялся, почесывал нос), 3) инженера с постройки склада, 4) немца – относительно грузовых автомобилей (говорили по-немецки; он окончил разговор, должно быть, пословицей, потому что вышло в рифму и оба рассмеялись), 5) художника, принесшего проект рекламного плаката (не понравилось; сказал, что должен быть глухой синий цвет – химический, а не романтический), 6) какого-то контрагента-ресторатора, с запонками в виде молочно-белых бубенчиков, 7) жиденького человека с витой бородой, который говорил о головах скота, и, наконец, 8) некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет – этакий пленительно-неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, этакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами. Шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение.
В четыре двадцать он уехал на заседание в Высший, Совет Народного Хозяйства.
III
Вечером, дома, он сидит, осененный пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и – животом на столе, подперши толстое лицо руками, – читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов что же особенного? Человек работает, человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного. Но все его поведение говорит: ты – обыватель, Кавалеров. Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним.
– Четвертак! Четвертак-с! – кричит он. – Четвертэк-с!
Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительное прочел в бумагах или увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, давясь от хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не мог различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что разражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты.
«Ты – обыватель, Кавалеров. Ты ничего не понимаешь».
Он этого не говорит, но это понятно без слов.
Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение:
– Это Кавалеров? Слушайте, Кавалеров! Мне будут звонить из Хлебопродукта. Пусть позвонят два-семьдесят три-ноль пять, добавочный шестьдесят два, запишите. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.
Действительно, ему звонят из Хлебопродукта.
Я переспрашиваю:
– Хлебопродукт? Товарищ Бабичев в Главконцесскоме… Что? В Главконцесском, два-семьдесят три-ноль пять. Добавочный шестьдесят два. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.
Хлебопродукт вызывает директора треста Бабичева. Бабичев в Главконцесскоме. Какое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе Хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна. Холуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это.
Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз случилось увидеть его во время утреннего туалета, я уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость.
Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и, ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку, – ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей.
«Вы – барин, Андрей Петрович! Вы притворяетесь!» – едва не сорвалось с моих уст.
Но он повернулся грудью.
На груди у него, под правой ключицей, был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли.
– Кто такая Иокаста? – спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают (особенно по вечерам) необычайные по неожиданности вопросы. Весь день он занят. Но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров. В него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным. Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак.
– Вы любите маслины? – спрашивает он.
«Да, я знаю, кто такая Иокаста! Да, я люблю маслины, но я не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее вас». Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня.
IV
Я живу под его кровом две недели. Две недели тому назад он подобрал меня, пьяного, ночью у порога пивной…
Из пивной меня выкинули.
Ссора в пивной завязалась исподволь; сперва ничто и не предвещало скандала – напротив, могла завязаться между двумя столиками дружба; пьяные общительны; та большая компания, где сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа, в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила шуточку по моему адресу – и я оскорбился и с полдороги вернулся к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь.
Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле мог показаться смешным; этакий вихрастый фрукт. Мужчина вдогонку гоготал басом. Швырнули горошиной. Я обошел свой столик и стал лицом к ним, – пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки, хмельной, я разразился признаниями: самоуничижение и заносчивость слились в одном горьком потоке:
– Вы… труппа чудовищ… бродячая труппа уродов, похитившая девушку… (Окружающие прислушались: вихрастый фрукт выражался странно, речь его вышла из общего гомона.) Вы, сидящий справа под пальмочкой, – урод номер первый. Встаньте и покажитесь всем… Обратите внимание, товарищи, почтеннейшая публика… Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты морщинами, – и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш – вол, нос – возница, больной проказой, а остальное – поклажа на возу… Садитесь. Дальше: чудовище номер второй… Человек со щеками, похожими на колени. Очень красиво! Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом… А вы? Как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украденной, спросите ее, что думает она о ваших угрях? Товарищи… (я повернулся во все стороны) они… вот эти… они смеялись надо мною! Вон тот смеялся… Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, какие издает пустой клистир… Девушка… «в садах, украшенных весной, царица, равной розы нет, чтобы идти на вас войною, на ваши восемнадцать лет!..» Девушка! Кричите! Зовите на помощь! Мы спасем вас. Что случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь? Вам приятно? (Я сделал паузу и затем торжественно сказал.) Я зову вас. Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнакомая девушка, и прошу: не теряйте меня. Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего же вы ждете от него, от них всех?.. Чего?.. Нежности? ума? ласк? преданности? Идите ко мне. Мне смешно даже равняться с ними. Вы получите от меня неизмеримо больше…
Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь: это сон – и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было: пробуждения не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости.
Меня выбросили.
Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:
– Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)
Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу преследования – я убегал, спасался, – все силы мои напряглись, и сон прервался.
Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видении к другому, и в новом видении главную роль играл избавитель – тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне, – кого обнял я за шею, горько рыдая.
– Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! – лепетал я.
– Положите его головой повыше, – сказал спаситель.
Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо; оно неслось от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руку к ногам. Еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете Скорой помощи, что, пьяному, мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона.
Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.
– Жалкий был вид у вас, – сказал он, – очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол, человек в чужую жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И есть для вас работа: вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?
Какие причины заставили знаменитую личность снизойти настолько к неизвестному, подозрительного вида, молодому человеку?
V
В один вечер открылись две тайны.
– Андрей Петрович, – спросил я, – кто это, в рамке?
На столе у него стоит фотография чернявого юноши.
– Что-с? – он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу. – Что-с? – И он отсутствует еще.
– Кто этот молодой человек?
– А… Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. (Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу, или куплет, или просто мычание. Вот – вместо того чтобы ответить обыкновенной модуляцией: «замечательный молодой человек, он скандирует, почти речитативом произносит: че-лоо-ве-эк!»)
– Чем же он замечателен? – спрашиваю я, мстя озлобленностью тона.
Но он никакой озлобленности не замечает.
– Да нет. Просто молодой человек. Студент. Вы спите на его диване, – сказал он. – Дело в том, что это как бы сын мой. Десять лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал. К отцу. В Муром.
– Ах, вот как…
– Вот-с.
Он встал из-за стола, прошелся.
– Ему восемнадцать лет. Он известный футболист.
(«А, футболист», – подумал я.)
– Что ж, – сказал я, – это и вправду замечательно! Быть известным футболистом – это и вправду большое качество. («Что я говорю?»)
Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове.
– Это совершенно ни на кого не похожий юноша, – вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. (Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным.) – Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно, часто он вспоминает подвиг.) Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. (И он вернулся к столу.)
– Зачем вы подобрали меня и привезли?
– Что-с? А? – Он мычит, через секунду только он услышит мой вопрос. – Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль.
– А диван?
– Что диван?
– А когда вернется ваш юноша…
Он, нисколько не задумываясь, просто и весело отвечал:
– Тогда вам придется диван освободить…
Мне надо встать и побить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он, прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно. Пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам. А потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом.
– Андрей Петрович, – говорю я. – Вы понимаете, что вы сказали? Вы хам!
– Что-с? А? – Мысли его отрываются от бумаги. Сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом.
Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома.
На улице, под балконом, кто-то кричит:
– Андрей!
Он поворачивает голову.
– Андрей!
Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью.
– Андрюша! Дорогой!
Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широкоплечий человек.
– Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвертак»?
(Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.)
Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише:
– Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия».