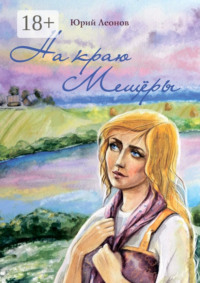Czytaj książkę: «На краю Мещёры»
© Юрий Леонов, 2025
ISBN 978-5-4490-6886-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОТ АВТОРА
Сорок лет назад купили мы избу под Рязанью, и с той поры жизнь моя словнобы раскололась надвое. Зимой – горожанин. Летом – сельский житель. За столько лет исподволь сроднился я с этой землей, где родилась покладистая моя теща, где на бугре, давшем нам пристанище, сделал свои первые шаги сын Олег.
Не сразу возникла потребность запечатлеть то, что тронуло душу, и тех, с кем делил здесь радости и горести. Но с той поры, как сделал первую запись, стараюсь не оставлять без внимания ничего из характерных мгновений быстро ускользающего сельского бытия.
Лелею надежду, читатель, что и вам сумею передать в коротких всплесках минувшего частицу трепетного нежданного чувства привязанности к «стране березового ситца», как некогда сказал об этой земле живший неподалеку русоволосый паренек.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Есть на белом свете места, привораживающие слух самим названием своим. Необъяснимой музыкой созвучий, зазывной, как сладкоголосое пение сирен: Чара, Костеньга, Арги-Паги… А приедешь в какую-нибудь Великую Кему – все та же россыпь окуренных дымами изб вдоль вырубки, как в соседней Максимовке. Чем дольше живешь, тем меньше иллюзий. А музыка остается другим. Хранит душа лишь отголоски трубных кличей.
Таким зазывным словом с детства была для меня Мещера. Чудилось в названии лесного края, лежащего в излуке Оки, нечто дремучее и замшелое – очень подходящее место для притаившихся среди выворотней леших и татей, а то и самого Соловья-разбойника. Подозреваю, что повинна в такой присухе была не только висевшая над головой географическая карта, но и один из поводырей моего отрочества Константин Паустовский. Помните из «Мещерской стороны»?
В июне шестьдесят второго, когда заканчивал учебу в Москве, вдруг выдалось три свободных дня. Куда сбежать от обрыдлой столичной колготы?.. Да вот же она, Мещера, совсем близко…
С первой электричкой добрался до Коломны, успел на речной трамвай, отправлявшийся вниз по Оке, и за полдень один-одинешенек сошел на берег у какой-то деревеньки, за которой рыжевато светился обласканный солнцем бор.
Веяло илистой свежестью с реки. Припудренная пылью дорога звала за косогор. Веселые огоньки мышиного горошка да фиолетовые всплески тимьяна и мяты обещали праздник душе. Все начиналось по писаному, как виделось издалека. Оставалось только разуться. И по теплой, бархатистой, проселочной, через пиршество трав и цветов заливного луга…
Пиршества не было. Минут десять, доверясь причудам дороги, петлял я среди пересохших впадин и бочагов. Потом, отмежевавшись от проселка, пошагал к деревеньке напрямик, и скоро оценил свою опрометчивость. Широкий ров тянулся поперек луга, зияя глинистыми отвалами и хлябью растерзанных гусеницами мочажин. Вода зеленела вдоль кромки, тиха и недвижима.
Пришлось отшагать немало, прежде чем удалось перебраться на другой берег по зыбкому помосту. Огромный заливной луг умирал, это ясно было и не специалисту. Кто-то что-то не рассчитал, кто-то слишком поспешно взял под козырек, кто-то откровенно схалтурил в погоне за выработкой…
Когда я спросил у благообразной старушки, попавшейся на окраине, зачем пытались осушить пойму, она лишь обреченно махнула ладонью:
– У кого ума нет, своего не добавишь… Такие травы стояли – не прокосить!
Привал я рассчитывал сделать, добравшись до леса. И хлеб, и колбасу тащил в рюкзаке. Оставалось купить фляжку молока, если повезет, то парного, хранящего теплоту и запах луговины. Увы, как поведала бабуся, в этой деревне последнюю корову сдали на ферму по весне. Если только поспрашивать в соседней, где еще держат двух буренок…
Запястья у бабуси перевязаны были лохматыми шерстяными нитями, как принято у многих доживших до старости, страдающих от ревматизма доярок. Она кривенько улыбнулась и развела руками, извиняясь за то, что ничем не смогла мне помочь, а у меня дрогнуло и сжалось сердце от жалости.
О новейших запретах и ограничениях косить траву и держать скот в личных хозяйствах приходилось слышать и ранее. Но надо было добраться до этой потонувшей в луговом раздолье деревеньки, увидеть эту извинительную улыбку, чтобы почувствовать, до каких нелепостей докатилась обнищавшая русская деревня… Я поклонился бабусе и торопливо зашагал к светящемуся вдали бору.
Перекусить удалось в кампании рыжих запасливых муравьев, на берегу едва народившегося в топкой елани ручья. Настоянная на отмерших травах вода отдавала горьковатой свежестью и прохладой. Яркие лучи сочились сквозь хвою, зажигая вдоль лощин медовые блестки калужниц. Высоченные сосны сторожили обещанное безветрие, пропитанное запахами грибной прели, пронизанное пересвистом птиц… А праздника души не было и в помине. Не верилось в эту осененную красотами леса благодать, едва отойдя от бескоровной, доживающей свой век деревеньки.
…На кордоне, в бревенчатой обители лесника, приютившего меня на ночь, клопы до самого рассвета дожирали остатки моих иллюзий по поводу здешнего бытия. Наутро, отблагодарил хозяина за постой, мне оставалось только спросить, как добраться до ближайшей пристани на Оке.
– Приходил-то зачем? – прищурясь, спросил сутуловатый кряжистый лесник, так и не уяснивший из вечерней беседы, какая нелегкая занесла меня в глухомань.
– За ягодой, – брякнул я.
– А-а… Эк тебя завернуло, – недоверчиво покосился он на потощавший рюкзак. – Земляника-то, верно, пошла, пошла… Может кузовок возьмешь? Дырявый, верно, да ежели соломки подстелить… Ну гляди, гляди, коли сам грамотный… – и стал напутствовать меня спокойно и рассудительно.
Набухшее влагой небо припугнуло крупными каплями дождя и пощадило залетного. Острее запахло прошлогодней листвой. Глухими, забородевшими ельниками, светоносными березняками, чистыми, словно ухоженными сосновыми борами повели меня по Мещере вековые натоптанные тропы. То вели, то уводили…
К полудню, изрядно поплутав и не повстречав ни души, вышел я на обширную пустошь, за которой угадывались изгибы реки. Слабо наезженная дорога струилась в ту сторону. Под стрекот кузнечиков шагалось по ней легко и бодро.
Не сразу обратил я внимание на странную особенность этой пустоши. Наготой своей походила она на выбитое копытами пастбище, но без признака навозных куч. Вдоль опушки трава была скошена, а стогов сена не виднелось окрест. Дорога вдруг истаяла, а вместо нее запестрели вокруг ямы, очень похожие на… воронки.
Зазубренный, с хищным блеском кусок металла, слишком знакомый по военному детству, чтоб его не узнать, заставил тревожно оглядеться. Полигон… Хорошо, если артиллерийский, тогда, прежде чем начать стрельбы, наверняка привезут мишени. А если предназначен для бомбардировщиков, которые сбрасывают свой груз «по площадям»?..
Лишь далеко за пустошью попалась табличка, обратная сторона которой предупреждала: «Стой! Опасная зона. Проход строго воспрещен».
Долгий гудок судна прозвучал как приветствие из другого, привычного мира. Блеснула сквозь редколесье слюдяная серость реки…
С Мещерой я прощался на дебаркадере Белоомута, куда перед полуночью должен был пристать пароход на Москву. Берег обволакивали сумерки, придавая таинственность и дальним огонькам, и ускользающему изгибу плеса, за который уже не суждено было заглянуть. Мнилось, будто столь скоротечная встреча с землей древнего племени мещер так и останется единственной, и никогда уж не доберусь до затерявшихся в чаще озер, где в темной воде дремлют черные, заплывшие жиром окуни.
Можно ли было предположить, что минут года, и совсем неподалеку отсюда, на другом изгибе реки, вниз по течению, стану я смотреть на мещерские дали с крыльца своего дома, что вместе с женой и сыном босиком по росным луговым травам станем паломничать в древнюю монастырскую Солотчу, где была написана «Мещерская сторона» и вот эти строки, справедливость которых дано было оценить лишь с годами:
«Леса в Мещере разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.
Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.» Чарующие, бередящие воображение строки…
«Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно…»
1984 г.
1. КОСТИНО И ОКРЕСТ
СВОЙ, РУБЛЕНЫЙ, У РЕКИ…
Помнится, мы вовсе не собирались покупать этот дом. Всю долгую зиму договаривались, какую снимем дачу, снимем непременно, потому что в двухкомнатной квартире на бывшей Третьей Мещанской, нас жило шестеро, и хоть дубовые подпорки надежно страховали потолок кухни от нового падения, все же неуютно было ходить мимо этих колонн. Дом обещали капитально отремонтировать еще в 1914 году, да все оказывалось недосуг…
Впрочем, вполне возможно, что разговоры о даче стали навязчивыми оттого, что новорожденный сын слишком громогласно заявлял о своих правах на чистый воздух и парное молоко. Так или иначе, намерение снять дачу было единодушным, разнились только пожелания. Хорошо, конечно, если бы повезло снять хотя бы полдома, недалеко от Москвы, вблизи от водоема, за умеренную плату, и чтобы еще… Обычно такие разговоры наводили тоску своей несбыточностью, и тогда немногословная теща со вздохом говорила о земле своего детства:
– А у нас в Костино как все зацветет вокруг – глаз не отвести.
И басовитый тесть за чаркой охотно поддакивал, что таких привольных мест – поискать да поискать.
И вечная хлопотунья Кок Паня, воспитавшая без родителей не только сестру, то есть мою тещу, но и четверых ее детей, тоже с дрожью в голосе говорила:
– Да, у нас в Костино и вода-то – со здешней разве сравнишь.
Все они уехали сюда с Рязанщины еще в многообещающие годы нэпа, и прошлое маячило позади в закатной розовой дымке.
– Так, может, в Костино и снимем дачу? – встревал я в эти вздохи.
– Далеко, – сокрушенно подытоживал тесть. – Под самой Рязанью.
И прения стихали до новых разговоров на ту же тему. Но однажды этот четко отлаженный механизм сбоил. Мы собрались с тещей, Ольгой Максимовной, спозаранку, и перед полуднем сошли с автобуса в Костине.
Март уже согнал снег с окрестных полей, но пропитанная вешними водами земля еще дышала прохладой. Мы тащились по грязной, расхлюстанной колесами улице к избе, в которой когда-то жила теща, и, глядя на серые крыши за серым частоколом изгородей, на голые ветки деревьев, воздетых к серому, набухшему влагой небу, я думал:
«Ну вот, еще одной легендой стало меньше на свете. Все мы подобны моей жене, которая лускала в детстве такие вкусные, маслянистые, в меру прожаренные семечки, а ныне, сколько не пробует – все не те…»
У родственницы нашей Марии Захаровой погостевали мы за столом в той самой избе отца Ольги Максимовны. Старожилы до сих пор вспоминают о нем как об искуснейшем садоводе. После долгих женских пересудов: кто жив, а кто далече, совсем было настроились мы возвращаться. Да вспомнила хозяйка:
– Разве что тетка Параня… Муж то у нее, богомаз, недавно помер. Так она в доме почти и не бывает. Все у Нины, у дочки. Может, с ней и договоритесь – тоже родня. Дом ее у реки…
– Хорошо бы, – боясь сглазить удачу, только и сказала Ольга Максимовна.
Все той же улицей, но уже более чистой, с уцелевшим покровом гусиной травки, мы не прошагали и ста метров, как вдруг попятились избы и я словно бы вознесся над грешной землей. Такая неоглядная, опоясанная рекою, окантованная сиреневатой бахромой мещерских лесов ширь, распростерлась из края в край. Душа тихо ахнула и замерла. Когда-то Николай Михайлович Карамзин сказал по этому поводу: «Если бы меня спросили: «Чем никогда нельзя насытиться?» Я отвечал бы: «Хорошими видами.»
Как узнал я позднее, в древности такие высокие берега над Окой, откуда распахнуто открываются дали, называли «Прости». От слова «простья», обозначающее прощение, освобождение от болезни, исцеление.
– Вот как у нас! – заметив мое состояние, с гордостью сказала Ольга Максимовна.
Я согласен был снимать здесь дачу, как бы плоха она не оказалась. Но все вышло удачней, чем ожидалось. И старый деревянный дом над рекой оказался еще справным, и живописна усадьба при нем с раскидистыми кронами яблонь, и покладиста хозяйка, предложившая без всяких околичностей:
– А чего вам снимать – покупайте дом, да и живите, дорого не возьму…
Пока не сделали мы этой покупки, пожалуй, не задумывался я, что значит для человека свой дом. Воспитанный в традициях коммуналок, уделом большинства моих сверстников, с детства считал я дом всего лишь необходимым, судьбой ниспосланным пристанищем. Быть может, тому способствовали частые переезды, связанные с работой отца, а потом и моей работой. На новом месте находилась новая квартира. Хорошо, если она была теплой и не слишком тесной. Если холодной и неуютной – тоже дело привычное: что есть, то есть.
Сам дом олицетворял некую общность живущих в нем. Он сплачивал нас в трудные годы, когда нужда и лишения равняли всех. Он отдалял друг от друга, когда достаток стал вносить рознь. Кочевая жизнь приучила меня быстро сживаться с новой обителью, быстро знакомиться с соседями. И когда покидал это место, жалел, что расстаюсь со всем привычным, отлаженным, как будто оставлял там частицу самого себя.
И все же то был очередной наш дом, о котором заботилась некая коммунальная контора – уделом ее было прокручивать через себя все новые поколения постояльцев. Сам я был отчужден не только от забот о здоровье и долголетии нашего дома, но и от традиционных мужских хлопот о топливе, воде и бане. Так, вроде, и было задумано: облегчить быт горожанина. Облегчили. И это благо, бесспорно. Правда, никакой радиатор не заменит пляшущее пламя в печи, гулкое потрескивание поленьев, запах стелящегося от очага дыма, точно так же, как никакая водопроводная… Но не о том речь…
Только пожив годы в деревенском доме, стал ощущать его как живое существо со своим укладом и своим искони присущим ему духом, с обретенными хворями и лишь ему памятным прошлым, от которого остался в красном углу иконостас, вскоре сворованный, в матице – кольцо для люльки, на чердаке – старая деревянная утварь.
Свой дом – своя обитель, которую можешь ладить и прихорашивать на свой манер, по своему вкусу и разумению. Во все времена это было одним из самых наглядных способов самовыражения человека. А в условиях засилья ширпотреба и унификации всего, что окружает наш быт – особенно.
Свой дом – свои заботы и в огороде, и в саду. За коллективную землю отвечают все штаты специалистов от колхозно-совхозных до министерских. За свою – один ты в ответе, переложить эти обязанности не на кого. Не оттого ли личный приусадебный участок используется в несколько раз эффективней, чем земля в общем хозяйстве? К этой истине возвращаемся трудно, признаем ее постепенно, со скрипом, но в конечном счете вынуждены будем пойти на самые радикальные перемены – брюхо прикажет, выражаясь языком наших предков.
Свой дом – свое особое место на земле, которое все крепче привязывает тебя к округе: к соседям, к лугам и перелескам, к самой непролазной заразе, как еще недавно звали в срединной России чертоломные заросли оврагов, к робко гулькающему роднику, от которого берет исток не только ручей или речка, но и святое слово Родина. Когда мы произносим его, то все же вспоминаем при этом не городскую безликую многоэтажку и светофор на загазованном асфальтовом перекрестке, а, то, что исстари питало в человеке чувство прекрасного на земле – первозданность природы.
Только с годами, благодаря старому дому на окраине рязанского села, пришло ко мне понимание того, что самые удивительные открытия лежат не за семью морями, а совсем рядом – стоит лишь приглядеться внимательней.

1989 г.
ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ
Копаю картошку, и время от времени даю отдых глазам вглядываться в разворошенную лопатой землю. Разгибаюсь, гляжу окрест, и не могу наглядеться уже который год.
Дивная ширь распахнуто лежит на три стороны, и через всю эту необъятность, то исчезая за излучинами, то взблескивая дугами дальних плесов, течет Ока. Повернешься налево – за развалом холмов, по которым рассыпалось стадо, за позолоченными осенью перелесками вознесся к небу, как перст, ажурный остов Пощуповской колокольни. Посмотришь прямо – за конопушками копен на заливных, зеленеющих отавой лугах, за пестрыми крышами Солотчи сизой щетиной встают боры бескрайней Мещеры. Глянешь направо – за курчавыми строчками тальников и гладью нив опоясали горизонт строения древней Рязани… Все краски русского приволья сошлись здесь, оттеняя и дополняя друг друга. Так бы и любоваться до сумерек наедине с этой ширью. Но – делу время…
Картошка нынче уродилась мелкая. Кладешь поклон за поклоном, а ведро все полно лишь наполовину. Как вдруг пробились в меня щемящие сердце кличи. Похожи были они на журавлиные, но в то же время не курлыканье, а возбужденный птичий грай – тоска и смятенье.
Поднял голову – поодаль от соседнего села Пощупово вертелась в небе странная карусель. Две стаи кружили, словно догоняя друг друга. Чуть погодя в парящем коловороте угадалась слаженность движений одной крупной стаи. И еще стало очевидно, что карусель все же смещается, но не к югу как должно бы в эту пору, а на восток, пересекая пойму Оки. Все глуше, глуше кличи над осиянной долгожданным солнцем долиной. Такой нарядной, в бликах зелени и багрянца, она явила себя считанные минуты назад. И столь надрывно звучали над поймой голоса журавлей, что не понять их было невозможно.
Птицы прощались с Родиной. Прощались так, будто никогда больше не видать им этих милых сердцу просторов. Вещие птицы, им ли не знать, сколь тернист дальний путь в поднебесье. Еще немного… Да, вот уж только один клич, требовательный, зовущий остался в небе, клич вожака. Повинуясь ему, стая вытянулась длинной, углом станицей и мерно заколыхалась к югу.

1985 г.
ПРОВОЖАТЫЙ
От нашего дома в Константиново ведут несколько дорог, но мы предпочитали самую нехоженую из них. Припорошенными пылью проселками, луговыми, едва приметными стежками, обычно спозаранку, отправлялись мы, отпускники, втроем, всей семьей на поклон к земле, вскормившей Сергея Есенина. А в этот раз, когда гостил у нас школьный приятель сына, договорились избрать иной, кратчайший маршрут.
Утром вдоль обочин искристо сверкали росы, обещая ясную устойчивую погоду. Лесная, обметанная белой кипенью лабазника тропа вывела нас к тихой деревеньке Кривоносово.
Мы миновали последний из домов, когда под ноги выкатились из травы два рыжих кома – большой и маленький. Собаки встретили нас как давних знакомых, обнюхали, приветливо помахали хвостами и потрусили впереди, как будто только и ждали попутчиков в дальнюю дорогу.
Сухощавая, с обветренным лицом хозяйка дома, узрев беглецов, громко окрикнула с порога:
– Барон! Кузя! Вы куда это, гулены? А ну, марш домой! Трусивший вторым щенок беспокойно завертел кудлатой головой и остановился, прижав уши.
– Кому я сказала?! Сейчас же домой!
Уж так не хотелось меньшому возвращаться, но голос был властен и строг – попробуй ослушаться… И, оглянувшись на нас, с повинной опущенной головой побежал щен обратно, к дому.
Совсем иная реакция на угрозу была у рыжего ушастого, с грубо стачанной шлеей ошейника дворняги. Он не отреагировал на окрики даже тогда, когда голос хозяйки обрел грозовые оттенки. Мы тоже подключились к тем уговорам, даже ногами топали на собаку, прогоняя ее, впрочем, без энтузиазма, ибо решимость Барона составить нам добрую компанию несомненно подкупала своей безоглядностью. Пес трюхал и трюхал впереди, игнорируя все посулы, верный какому-то своему, не ведомому людям предназначенью.
Так стало нас пятеро. Сначала мы думали, что Барон проводит нас до ближайшей лесополосы, потом – до шоссе. Но пересекли и асфальт, минули еще одну деревеньку, а пес не обнаруживал ни малейшего желания возвращаться.
Барон был молодым, но весьма воспитанным псом. Он не лез под ноги, не заглядывал в лица с искательным выражением, а, соблюдая дистанцию шага в три, невозмутимо возглавлял шествие. Казалось, Барон знал маршрут лучше нас – так безошибочно выходил он на нужную тропу. И уж наверняка пес был более сведущ в лесных таинствах. Во всяком случае, именно там, где он остановился впервые, из травы нежданно-негаданно проглянула маслянисто-бордовая шляпка подосиновика. Кто бы мог подумать, что в середине июня лесопосадка порадует нас грибами?..
За Раменками проселок вывернул на луга, даль распахнулась до нежной кисеи березовых рощ, и вместе с запахом цветущего клевера и ромашки, трелями зависшего в зените жаворонка пролилась в душу такая незамутненная синева неба, что замолчали даже ребята, пылящие босиком впереди.
– отозвались в памяти полузабытые строки.
И угловатые отроки наши зримо напомнили вдруг русоволосого парнишку, не однажды ходившего этой дорогой и годы спустя возвращавшегося сюда не раз, чаще в памяти, чем воочию:
Когда за разливом ржи видны стали отдельные домики в Константинове, мы устроили привал под дубом, на рубеже, как зовут здесь границу между соседними хозяйствами. Съели по бутерброду. Барону досталось вчетверо больше – за деликатность.
– Ну, все, – постарался я объяснить псу в последний раз. – Проводил нас почти до места, потрапезничали за компанию, и довольно, беги домой, а то хозяйка совсем тебя потеряла. – Я даже прошелся назад, надеясь увлечь за собой дворнягу. Все же виноватыми чувствовали мы себя перед Бароном: возвращаться-то рассчитывали на автобусе, без него.
Недоверчиво поглядывая на меня, пес протрусил рядом ровно столько, сколько отошел я в обратную сторону. «Неужто не видишь, как хорошо мне на воле?» – прочел я в собачьих глазах, и стоило лишь остановиться да оглянуться, как Барон обрадовано бросился к ребятам.
Пока мы были в музее Сергея Есенина, пес терпеливо ожидал нас. И вот уже подкативший «Икарус» гостеприимно распахнул свои двери. Уговор был такой: пса в автобус не звать, но если запрыгнет туда сам, то попытаться отвезти его обратно. Я был уверен – такая смышленая собака найдет дорогу домой. Но пес столь преданно смотрел с асфальта на нас, усевшихся в мягкие кресла, что подумалось и другое: наверняка побежит за автобусом, пока хватит силенок.
Вот уже вошла в салон и начала продавать билеты кондукторша, водитель включил мотор… Пес неотрывно следил за нами, молотя хвостом и ерзая всем телом от нетерпенья. И кто-то из отроков наших, не выдержав, шепнул:
– Барон…
Через миг из под сиденья ребят торчало только рыжее ухо. Пассажиров было немного. И пожилая, обходительная кондукторша сделала вид, что не заметила хвостатого безбилетника.
Так мы и домчались впятером не до Костинского поворота, как собирались, а дальше, и прежней дорогой возвратились к тому самому дому на окраине Кривоносова.
Хозяйка словно и не уходила с порога. Подперев руками бока, она встретила нас как злоумышленников:
– Милиция вас не догнала?
И хоть ясно было, что «тетя шутит», голос ее не обещал ничего доброго ни нам, ни Барону. Напрасно мы пытались смягчить участь пса, расхваливая его воспитанность и тем самым как бы признавая некие заслуги хозяйки дома. Она дернула Барона за ошейник и поволокла за собой, приговаривая, что такому блудне одно только место – на цепи, а нам – еще где-то, очень и очень далеко.
И в этот день, и на следующий жена ждала, что вот-вот появится у нашей калитки знакомая морда с вислыми ушами и застенчивым взглядом желтых глаз: «Подумаешь, на цепи – порвет, он такой!» А на третий день пошел дождь, теплый, обильный. Он наглухо смыл все следы на дороге, ведущей в лесную деревеньку Кривоносово.
«Не видать конца и края,
Только синь сосет глаза…»
Несказанное, синее, нежное,
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз…
1985 г.