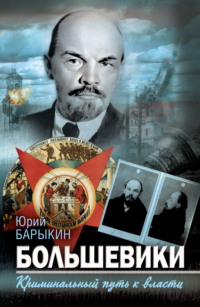Czytaj książkę: «Большевики. Криминальный путь к власти»
Автор выражает огромную благодарность глубокоуважаемым Акунову Вольфгангу Викторовичу и Любенко Сергею Ивановичу за неоценимую помощь в создании и публикации этой книги
В авторской редакции
Художник О.В. Зайцева

© Барыкин Ю.М., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Деньги «товарища» Ленина
(Полные выходные данные книг, указанных в примечаниях, см. в списке использованной литературы)1
Откуда брались деньги у партии большевиков? Сколько их было, если хватало не только на революционную деятельность, не только на финансирование многочисленных партийных съездов и конференций в самых дорогих странах Европы, но и на комфортную жизнь высшего и среднего эшелона большевистского руководства в «загнивающих», согласно К. Марксу, странах Запада?
Для ответа на этот вопрос советским историкам пришлось придумывать байки о «партийных взносах русских пролетариев», что являлось чистейшей выдумкой: не существует заслуживающих доверия свидетельств того, что какие-то значительные суммы, собранные рабочими хоть какого-нибудь завода или фабрики, перевозились за границу, зато в наличии большое количество фактов выплат со стороны заграничных «революционеров» рабочим, например за участие последних в забастовке или очередной манифестации. Да еще глухо сообщать о «добровольных взносах» фабриканта Саввы Морозова и пожертвованиях «пролетарского писателя» Максима Горького, он же – Алексей Максимович Пешков (1868–1936).
Однако при ближайшем рассмотрении вырисовывается совсем другая картина. Да, существовали некоторые пожертвования богатых людей, хотя их «добровольность», как мы увидим на примере того же Саввы Морозова, была весьма относительна. Да, существовали отчисления в партийную кассу от гонораров Горького, самые крупные из которых сопровождались настоящими скандалами. Но все перечисленное было лишь каплей в море большевистских финансов.
Самые главные поступления в копилку «товарища» Ленина, как мы сможем убедиться, обеспечивало то, о чем не только советские, но и некоторые западные, страдающие левизной, историки отчаянно стеснялись говорить.
На практике: большевистская касса пополнялась с помощью террора, грабежей, афер, убийств, а также финансирования со стороны иностранных разведок.
Сразу оговоримся, что кроме большевиков терроризмом и грабежами занимались и другие партии и фракции, боровшиеся с существовавшим в Российской империи государственным устройством. Однако никто, даже знаменитые социалисты-революционеры (эсеры), не мог сравниться с большевиками-ленинцами в криминальной эффективности.
И еще одно: масштабы поступления средств в большевистскую кассу чередовались относительными провалами и резкими всплесками. «Провальным» можно назвать период вплоть до конца 1904 года. Зато в период с 1905-го по 1911-й дела у «товарища» Ленина и его партии шли весьма и весьма неплохо.
Но обо всем по порядку…
Годы 1904–1911
Японцы и первая «революция»
Начнем с личных свидетельств Владимира Ильича Ульянова, более известного как Ленин (1870–1924), касающихся финансового благополучия его партии в 1904 году.
Так, 31 января Ленин пишет из Женевы Г. Кржижановскому: «У нас нет денег. ЦО заваливает нас расходами, явно толкая нас к банкротству, явно рассчитывая на финансовый крах, чтобы принять экстренные меры, сводящие ЦК к нулю. Две-три тысячи рублей необходимы немедленно и во что бы то ни стало. Непременно и немедленно, иначе крах через месяц полный!» (Ленин В. И. ПСС. Т. 46. С. 351.)
2 ноября он же пишет из Женевы А. Богданову:
«Вообще денежный вопрос самый отчаянный… Надо приложить все усилия, чтобы достать большой куш. Теперь только за этим дело, все остальное есть. Но без куша неизбежно такое невыносимое, томительное прозябание, какое мы ведем здесь теперь. Надо разорваться, но достать куш». (Ленин В. И. ПСС. Т. 46. С. 396.)
А теперь о том, как большевики достали тот самый «куш».
Начнем с сотрудничества с иностранной разведкой, которая проявила интерес к «революционному» движению в России после начала Русско-японской войны (январь 1904 – август 1905 г.). И чей интерес нашел отклик в самых разных (хотя и не во всех) антиправительственных партиях.
От лица японской разведки в Европе действовал полковник Акаси.
Для справки: Мотодзиро Акаси (1864–1919). В 1889 году окончил Высшую военную академию Императорской армии в Токио. Учился в Германии. В январе 1901 года назначен военным атташе во Франции. В августе 1902-го становится военным атташе в России, прибыл в Санкт-Петербург 1 ноября 1902 года. С началом Русско-японской войны назначен военным атташе в Стокгольме, активно работает на японскую разведку.
Через Акаси финансировались финские, польские и кавказские сепаратисты в России. В июле 1904 года Акаси встречается в Женеве с теоретиком марксизма и видным деятелем российского и международного социалистического движения Г. В. Плехановым (1856–1918), а также с молодым лидером большевистской фракции РСДРП В. И. Лениным (1870–1924).
Акаси через ряд посредников финансирует проведение Парижской и Женевской конференций революционных и оппозиционных партий, а также проведение в жизнь их решений.
11 сентября 1905 года, после заключения Портмутского мирного договора между Японией и Российской империей, Акаси отозван в Японию. После отчета о проделанной работе он вновь назначается военным атташе в Германии. Однако в 1906 году в России было опубликовано исследование «Изнанка революции. Вооруженные восстания в России на японские средства», в которой освещалась деятельность Акаси. После публикации этой информации в европейских газетах Акаси отозван в Японию.
За свои заслуги перед Японией Мотодзиро Акаси был удостоен титула барона, в 1913 году произведен в генерал-лейтенанты, в апреле 1914-го назначается заместителем начальника Генерального штаба Японии, а в 1918 году назначен генерал-губернатором Тайваня.
Здесь необходимо упомянуть, что деятельную помощь в борьбе с русским самодержавием полковнику Акаси оказывал финский авантюрист, писатель и по совместительству революционер – Конни (Конрад Виктор) Циллиакус (1855–1924).
Интересно, кстати, что названный Циллиакус в течение десяти лет путешествовал по миру и три года (1894–1896) прожил в Японии. По возвращении в 1898 году в Финляндию организовал издание газеты «Свободное слово», а затем стал одним из организаторов Финляндской Партии активного сопротивления. С 1902 года через свою газету пропагандирует идею объединения усилий крупнейших оппозиционных партий.
В феврале 1904 года с Циллиакусом знакомится полковник Акаси. Японский разведчик предлагает финскому революционеру свою помощь и через некоторое время получает от того положительный ответ…
В сентябре-октябре 1904 года прошла Парижская конференция, которая была, по сути, совещанием «революционных» и оппозиционных партий России для выработки плана борьбы с русским самодержавием.
Организаторами конференции были полковник Акаси и Конни Циллиакус. Среди участников, помимо прочих, находим представителей партии социалистов-революционеров (эсеров) во главе с В. М. Черновым (1873–1952) и Е. Ф. Азефом, «Союза освобождения» – с П. Н. Милюковым (1859–1943), Польской социалистической партии (ППС) – с Юзефом Пилсудским (1867–1935), Грузинской партии социалистов-федералистов – с Георгием Деканозовым (Деканозошвили) (1869–1910) – отцом будущего видного деятеля советских спецслужб и дипломата Владимира Георгиевича Деканозова (1898–1953).
Заметим, что представители РСДРП, давшие предварительное согласие на участие в конференции, в последний момент отказались от участия. Г. В. Плеханов (1856–1918), бывший на тот момент безусловным авторитетом в социал-демократической партии и представлявший фракцию меньшевиков, заявил Циллиакусу, что хочет сохранить независимость по отношению к военным противникам царского правительства, то есть Японии. Что же касается более сговорчивого руководителя большевиков Ленина, то у него, вопреки смысловой нагрузке названия его фракции, еще не было того «партийного веса», чтобы изменить решение Плеханова.
Печально знаменитым результатом сотрудничества японской разведки и российских «революционеров» стало так называемое «Кровавое воскресенье». Трагедия 9 января 1905 года была не чем иным, как кровавым эксцессом, целенаправленно спровоцированным эсерами и, по мере возможности, сравнительно ничтожными на тот момент силами большевиков.
Сейчас не является секретом, что «мятежного попа» Г. Гапона (1870–1906) – организатора рабочей манифестации – направляли революционеры, получавшие щедрую финансовую подпитку от Акаси.
Целью провокаторов было попытаться устроить вооруженное восстание в столице империи, что в условиях идущей в то время Русско-японской войны объективно играло на руку врагам России.
Однако трагедия в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года, вопреки планам «революционеров», не вылилась в вооруженное восстание. Тем не менее наличие десятков жертв вызвало взрыв возмущения по всей России. С точки зрения японской разведки и российских радикалов, эту ситуацию можно и нужно было использовать в полной мере.
Уже в начале февраля 1905 года в Париже состоялась очередная встреча Акаси и Циллиакуса с эсерами Ф. Волховским (1846–1914) и Н. Чайковским (1851–1926), на которой речь шла о ближайших планах революционеров в условиях разгоравшейся революции. Центральной задачей по-прежнему являлось вооруженное восстание в России, во главе которого, по мысли японца и финна, должна была встать партия эсеров (ПСР) как самая многочисленная, организованная и «боевая» из всех российских революционных партий. Датой проведения вооруженного восстания был намечен июнь 1905 года, однако прежде, по мнению участников февральского собеседования, представителям революционных партий следовало вновь встретиться, чтобы скоординировать будущие действия.
«В результате этой дискуссии, – сообщал Акаси, – при подготовке конференции оппозиционных партий, на которой предстояло выработать план усиления движения к лету, мы решили в полной мере использовать имя Гапона». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 104.)
12 февраля Акаси телеграфирует из Парижа в Токио:
«Обстановка в России неожиданно ухудшается. Посему нет сомнения, что своей цели – свержения русского правительства – мы непременно добьемся… Поэтому нам следует продолжать поддерживать нынешнее оппозиционное движение, чтобы ослаблять правительство; в июне мы попробуем раздуть всеобщее движение [восстание] под руководством социалистов-революционеров. Это движение определит судьбу и оппозиционных партий. Мы просим японское правительство увеличить субсидирование, дабы вполне обеспечить успех.
По моим подсчетам, необходимо 440–450 тысяч иен, которые следует выплатить в начале мая; выплаты можно произвести и в два этапа». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 105.)
Итог «рассуждений» генштаба Японии был вполне благоприятным для Акаси и российских революционеров. Было очевидно, что чем хуже будет внутреннее состояние Российской империи, тем лучше будет для Японии.
Тем временем в Европе российские «революционеры»-эмигранты, не брезгуя даже мелочевкой, старались заработать на трагедии в Санкт-Петербурге.
Вот свидетельство профессионального «революционера» П. Н. Лепешинского (1868–1944), также обитавшего в те тревожные дни в сытой Швейцарии.
Получив известия о трагических событиях 9 января 1905 года в Петербурге, П. Н. Лепешинский рассказал обо всем своей жене, тоже большевичке, Ольге Борисовне Лепешинской (урожденной Протопоповой) (1873–1961) – будущему биологу, академику Академии медицинских наук СССР (1950) и лауреату Сталинской премии первой степени (1950), признанной многими специалистами «лжеученой»:
«– На …вот… читай… – прерывающимся голосом произношу я, бросая ей газету, и сам опускаюсь на стул.
Она прочла и тоже разволновалась: и всплакнула, и затанцевала на босу ногу, и прокричала ура… У нее тотчас родилась в голове идея: во что бы то ни стало опередить меньшевиков и эсеров, пока те еще будут раздумывать, что им предпринять, и обойти как можно скорее и как можно больше кварталов с подписным листом: “на русскую революцию”. Для этого нужен только бланк с партийной печатью. Наша экспедиция его, конечно, выдаст. Нельзя только терять времени: ни четверти часа, ни минуты, ни секунды.
Она быстрее, чем при пожаре, одевается, бежит в экспедицию, получает подписные листы, прихватывает двух-трех сподручных большевиков (или большевичек), и вот уж они мчатся по улице, заходя из дома в дом…
Обегав в течение 2–3 часов главнейшие фешенебельные улицы Женевы, жена успела собрать по подписке около двух или трех тысяч франков. Когда спохватившиеся меньшевики вздумали было пуститься по ее следам с намерением тоже постричь немножко женевскую буржуазию, было уже поздно. Недоумевающий буржуа очень подозрительно встречал новых пришельцев и заявлял, что у него уже были русские революционеры, и он уже отдал свою дань сочувствия русской революции». (Лепешинский П. Н. На повороте. С. 207.)
Не здесь ли лежат корни эпизода с «сыновьями лейтенанта Шмидта», столь гениально отраженного Ильфом и Петровым в своем «Золотом теленке»?
Кстати, продолжение истории «женевских денег» для большевиков имело примерно то же завершение, что и официальная советская версия похождений «великого комбинатора» Остапа Бендера.
В отместку за большевистские происки на улицах Женевы меньшевики объявили общий митинг русских эмигрантов, собравший «колоссальную толпу слушателей».
На этом митинге сумели выступить ораторы от всех фракций, включая Воинова (Луначарского), получившего инструкции лично от Ленина. Однако меньшевики никому не уступили пальму первенства, что привело к вполне прогнозируемому финалу.
П. Н. Лепешинский: «На наше требование отдать нам из общей кассы причитающуюся нам по договору долю сборов с митинга меньшевики реагировали насмешливым отказом:
– Зачем же, – получили мы в ответ ироническую фразу, – и ваша доля, и наша доля – все это пойдет на общее дело революции… Можете быть совершенно спокойны на этот счет…» (Лепешинский П. Н. На повороте. С. 211.)
Пришлось Ленину с подельниками удовлетвориться теми крохами, что собрала жена Лепешинского. Можно с известной долей осторожности предположить, что не все «две или три тысячи франков» пошли на пиво и колбаски для вождей, а что-то было все-таки истрачено на борьбу с «кровавым режимом» Романовых.
Выполняя договоренности, достигнутые на встрече в Париже в феврале 1905 года, «эсеры обратились к Гапону с просьбой помочь организовать новую межпартийную конференцию с непременным участием в ней социал-демократов. Гапон откликнулся… “открытым письмом” ко всем революционным партиям. Большевики устами Ленина, который специально встречался с мятежным попом в середине февраля, с готовностью поддержали новое межпартийное начинание. В принципе, против практического сотрудничества с эсерами не стали возражать и меньшевики». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 114.)
В итоге в апреле 1905 года прошла так называемая Женевская совместная конференция революционных партий России.
В конференции участвовали 11 революционных партий. После того как меньшевики во главе с Плехановым отказались от участия, делегация большевиков во главе с Лениным стала единственным представителем РСДРП, получив свою долю финансирования, полагавшуюся каждому участнику. Вообще, именно в этот период времени Владимир Ильич становился совершенно самостоятельным игроком на российском политическом поле.
Отметим здесь, что «инициатива видного немецкого марксиста Карла Каутского о слиянии двух фракций РСДРП на этой почве не нашла поддержки у большевиков. Ленин и его сторонники последовательно добивались самостоятельного и отдельного от меньшевиков представительства на будущем форуме». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 115.)
Настолько самостоятельным, что на конференции большевистский вождь позволил себе поскандалить. Возмутившись явным перевесом на форуме эсеров, Ленин потребовал удалить представителей Латвийского социал-демократического союза, существовавшего якобы только на бумаге. Когда ленинский протест отклонили, он придрался к отсутствию ряда социал-демократических партий, сделав вид, что не знает, что на предложение об участии в конференции эти партии ответили отказом. Затем мишенью стала Финляндская партия активного сопротивления, которая, по мнению Ленина, не являлась социалистической. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 118.)
В итоге 3 апреля, на второй день работы конференции, представители большевиков, Латвийской СДПР, Бунда и Армянской СДР (социал-демократической рабочей организации) покинули зал заседания.
Для чего этот конфликт понадобился Ленину? Ведь с уходом сразу четырех партий единый фронт против российского правительства рухнул. Это с одной стороны. Но с другой, устроив скандал, Ленин подчеркнул свои претензии на собственную руководящую роль теперь уже во всем антиправительственном действе.
Историк Д. Павлов: «Женевская межпартийная конференция сыграла важную роль в установлении временного альянса российских партий. Главную цель его явные и тайные вдохновители видели в том, чтобы организовать серию вооруженных акций в России и тем самым дестабилизировать внутриполитическое положение в стране. Центральное значение в этом плане придавалось вооруженному восстанию в Петербурге, которое должно было начаться летом 1905 г. Для его подготовки Акаси и Циллиакус привлекли Азефа, который не только был посвящен во все подробности, но и должен был возглавить “Объединенный комитет” (или “Объединенную боевую организацию”, ОБО) для подготовки приемки оружия в России и руководства восстанием». (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 230–231.)
Для справки: Евно Фишелевич (Евгений Филиппович) Азеф (1869–1918) – революционер-провокатор, работал одновременно и на Боевую организацию эсеров, и на Департамент полиции, что позволяло ему не только обогащаться, но и, посредством реализации различных хитроумных комбинаций, щекотать себе нервы. Как глава Боевой организации участвовал в убийстве великого князя Сергея Александровича, как агент Охранного отделения сдал полиции множество революционеров. В 1908 году был разоблачен как провокатор и едва унес ноги от разъяренных бывших однопартийцев, укрывшись под чужим именем в Германии.
Но вернемся в 1905 год, когда Евно Фишелевич еще успешно продолжал свою опасную игру.
Впервые о затеянной Циллиакусом доставке оружия различным революционным организациям Азеф сообщил Л. А. Ратаеву (1857–1937) – начальнику Особого отдела Департамента полиции, заведующему заграничной агентурой, – в письме от 9 февраля 1905 года и, вероятно, настолько заинтересовал этим своего полицейского шефа, что в дальнейшем весьма подробно информировал его обо всех шагах финского «активиста». К тому же сообщение Азефа совпадало с информацией, приходившей в охранное отделение по другим каналам.
Однако когда план стал приобретать более или менее реальные очертания, Азеф, следуя своей обычной манере, начал постепенно сокращать количество «отпускаемой» информации, используя столь же свойственный ему прием полуправды.
Историк Инаба Чихару: «Постоянно находясь под угрозой разоблачения, Азеф, однако, никогда не был до конца откровенен ни со своим полицейским начальством, ни с соратниками по партии, ни с японцем и его ближайшим окружением. В той или иной степени он умудрялся всех их водить за нос. Так, отлично зная Акаси и даже получая от него значительные суммы, в феврале-марте 1905 г. в своих донесениях Ратаеву Азеф упорно “наводил” полицию на Циллиакуса, указывая на его японские связи, но не говорил ни слова о своих собственных контактах с японским полковником. Но с конца апреля 1905 г., когда планы закупки оружия и его переправки в Россию стали приобретать более или менее конкретные очертания, Азеф постепенно перестал информировать своего полицейского шефа о Циллиакусе, вероятно, опасаясь быть скомпрометированным в революционных кругах и одновременно не желая лишаться возможных японских “доходов”». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 158–159.)
По оценке японского полковника, итоги Женевской конференции позволяли смотреть на развитие революционной ситуации в России с большим оптимизмом.
«Женевская конференция, – доносил Акаси в Генштаб 12 апреля 1905 г., – вынесла решение возложить на русского царя ответственность за прошлые и будущие кровопролития… Большой бунт должен начаться в июне, так что оппозиция прилагает все новые и новые усилия, чтобы приобрести оружие и взрывчатку. День восстания еще не назначен, но будет безопаснее переправить оружие морем». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 120–121.)
Окончание работы конференции по времени совпало с решением Токио выделить крупные средства на финансирование русской революции.