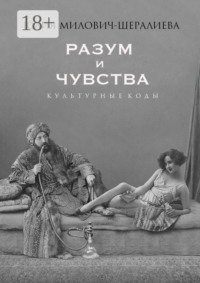Czytaj książkę: «Разум и чувства. Культурные коды»
Книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и техническом содействии
Союза российских писателей
Автор обложки Макс Василенко
© Юлия Милович-Шералиева, 2020
© Макс Василенко, автор оболожки, 2020
ISBN 978-5-0051-8018-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Книга эссе о культуре, выражающей через себя наше единство. 33 очерка, основанных на моих лекциях по культуре повседневности и литературе. О Феллини и Бунине, о Набокове и Серове, о Верещагине и Вертинском. О сходстве древних мантр и исконности среднерусской природы, о родстве красоты и юмора как необходимых условий жизни; о силе музыки и о возрасте. Часть лекций-эссе – упорядоченные размышления о явлениях повседневности или искусства. Часть – опыт чувственного восприятия этих явлений, но все равно сквозь призму культурологии. Инструменты создания – разум и чувства. Ну и культурология.
Порядок следования самый простой – алфавитный. Потому что, казалось бы, ничего объединяющего между ними, кроме того, что они все о том, что нас окружает, нет. Но они все равно вместе. Совсем как и мы.
Ахматова. О боли и любви
Прошлое никуда не девается. Оно длится в ежесекундном проживании жизни. Кажущаяся зримая удаленность Серебряного века еще более призрачна, чем тени ушедших поэтов этой эпохи. Ахматова – та, кому удалось связать Серебряный век и с веком двадцатым, и с двадцать первым. Протащить на себе едва ли посильную ношу из смеси таланта и горя. Страны и отдельно взятой личности. Поэтического и женского.
Серебряный век – настоящий порог времен, эпох и течений в искусстве. Синтез, пересечения всего и вся. Да и наука, и достижения технологические находят, безусловно, свое отражение в творчестве той поры, порой составляют его основу. Это период с 90-х гг. XIX в. по 20-е гг. XX в. Во-первых, так легче запомнить. Во-вторых, процессы в культуре, как и в природе, – чаще эволюционны, требуют времени, подобно тому, как большой корабль нуждается в длительной паузе для разворота. В этом контексте принятые некоторыми литературоведами рамки окончания (с началом никто не спорит) Серебряного века как дата смерти Маяковского или революция кажутся мне не слишком логичными и справедливыми. Ну не кончается эпоха по щелчку спущенного курка! Лишь спустя пару лет, когда волна революции стала накрывать страну и мир, стало ясно, что от Серебряного века не осталось камня на камне. Был расстрелян Гумилев, Блок сошел с ума и умер, Хлебников заразился и тоже ушел в мир иной. Да, звезда Маяковского сияла до 1930-го года, но все же смерть одного, пусть и столь выдающегося человека, вряд ли «тянет» на опустившийся занавес.
Серебряный век – это в первую очередь символизм, который явился порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Потому что вот оно – все эти достижения уже есть, газеты, заводы, пароходы, – а люди все равно не очень-то счастливы. Воюют, голодают, бедствуют, болеют. Ответов на вопросы, какие-то глубокие, вечные, как не было, так и нет! Отсюда – любовь людей того времени к эзотерике, мистике, потому что, может быть, там найдутся ответы на эти вопросы. Обращение к мифам, фольклору, философии древности или Востока. Человек того времени судорожно ищет лекарства от душевной боли.
Старый век еще тянется здесь – еще не везде есть водопровод, не все грамотны, но связь, сообщения, возможности уже качественно ближе к нашему времени. Отсюда – некоторый излом в сознании людей, дисгармония. И тянет его вплоть до второй трети прошлого столетия на себе одна русская поэтесса. Чья жизнь и смерть оказались во власти времени и места, в которых она жила.
Акмеизм – литературное течение, противостоящее символизму. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, высшую степень точности слова, выразительности ее. Основатели акмеизма – Николай Гумилев и его жена Анна Ахматова.
Предназначение искусства – в облагораживании человеческой природы. Стремление к художественному преобразованию несовершенных жизненных явлений. Если символизм уводит нас к вершинам и тайнам, то акмеизм показывает красоту и совершенство в бытовом. Примерно в том же ключе развивался и душка Пушкин – все эти «Няня, где же кружка?» и так далее – это как раз об этом. О поиске прекрасного не в фужере, а в кружке, не с нектаром, а с пивком. В компании со старушкой-нянечкой, а не восторженной принцессы из сказки. Это изображение предметного мира, земной красоты по максимуму. Но трагические судьбы у всех этих певцов прекрасного и идеализированного сбросили их с вершин их устремлений, несуществующих и едва зримых. Судьба сбросила их на дно реальности. И Ахматова, и Гумилев, и их сын Лев, и все их окружение – сплошь ужасные судьбы. Как и у стоящего у истоков противоположного акмеизму – футуризма – Маяковского.
Интересно это сопоставление акмеистки Ахматовой и футуриста Маяковского, как символа времени. Мужского и женского, крика и шепота, режиссуры и хаоса. Ахматова – женщина-женщина, с ее славянски бабьей тоской то по мужу, то по сыну – сначала в стихах, затем в реальности. Даром, что ли, пророки – поэты? Но при этом Ахматовой доступен совершенно мужской художественный язык, она способна выстроить в восьми строках всю драматургию, весь сюжет, по-мужски упорядоченный (завязка – кульминация – развязка), но по-женски лиричный. Настоящая режиссура в поэзии – мужская. Всю историю страны на примере одной женской судьбы она способна изложить в нескольких строках. Масштаб – мужской. Сюжеты – девичьи. Любовь-морковь.
И по другую сторону – Маяковский – по-женски трепетный в вопросах любви, израненный так по-русски, надрывно. Но с мужским запалом, с криком и титановой мощью посыла. Маяковский и Ахматова – две равновеликие противоположные грани эпохи.
Ахматова из всех указанных здесь прожила дольше всех. Дольше, но и горше. Другими долгожителями эпохи стали лишь те немногие, кому удалось убежать из послереволюционной России, да тем, кто писал детские стихи и сказки (их-то расстреливать и сажать было бы уж чересчур даже для того кровожадного времени). Из всех, кто родился на этой волне рубежа веков и остался в России, только Ахматовой «повезло» дотянуть эту лямку до логического конца. И тот оказался абсурден.
Поскольку случился в годовщину смерти Сталина. И должен был быть завершен похоронами в Международный женский день, святое для советских тружениц 8-е Марта. Уже год на тот момент бывший официально нерабочим днем. Поэтому похороны перенесли на 10-е марта – не портить же праздник.
Над ее могилой, в которую ушла она сама, Серебряный век, красота, боль и ужас ее времени, склонились и те (Бродский, Рейн, например), кто явит собой предзнаменование времени другого. Нового, тоже по-своему красивого и ужасного. Не потому ли кое-кто концом Серебряного века как раз поэтому считает дату смерти Бродского, чьи стихи мы цитируем и сейчас. Так что вот он, век декадентов – на расстоянии вытянутой ладони благодаря ей, Ахматовой.
Белла: Душа века, вечная душа
10 апреля в 1937 году родилась Белла Ахмадулина. Противоречивая с самого начала, как и ее жизнь. Зря, что ли, мир знает так мало женщин-поэтов?
Поэты – это засидевшиеся в детстве создания. Иногда ангелоподобные, но чаще все-таки бесенята. Потому что ангелом удобно быть в настоящем детстве – когда многие из соблазнов попросту не пересекаются с их вселенной. Дьяволенок всегда очарователен, непредсказуем, подвижен мысленно и физически, а главное – наделен неким даром. И поэтому – вполне себе оправданный задира-гордец. Забияка и хулиган, которому «все можно». Да почему это? Потому что много дано.
Ахмадулина тонка и лирична, но динамика ее стихов не линейно мужская и не мелодично женская. Ее стихи – поэзия образов и впечатлений, яркости темперамента и экзистенциальной грусти. Женского обморочного чувственного бормотания о любви, мужской битвы за идеалы, стремления доказать правоту, уличить в несправедливости.
Она стала писать еще в детстве, продолжила в Литературном институте, вклинившись в богемную братию, вскоре став ее коронованной особой. Татарские крови и столичная изысканность, вечно девичье лицо и мальчишеская удаль. Она не только мечта поэта, она и сама поэт. А еще киноактриса, «политически активный» автор.
…Поэт – это тот, кто связывает. Горнее с дольним. Детство и зрелость, пребывание в реальности и безумие, свободу и нравственность, желания и устои. Если мужчина-поэт балансирует на грани дозволенного и не очень, и общество это, закатывая глаза, умеренно терпит (чем бы дитя не тешилось), то, когда дело касается женщин, тушите свет.
Известно, что делать с женщиной-хулиганкой, когда она просто – хулиганка и женщина. В силу развития и исходных данных ей могут врезать, могут посадить, запереть за домашним хозяйством. В случае, когда женщина талантлива, да талантлива беспредметно – поэт! – непонятно, что делать. Потому что даже богатая на гениев словесности Россия не очень-то много знала и знает поэтесс. К ним инструкции не прилагается. И в ХХ веке, скажем честно, их на пальцах одной руки перечесть.
Воинствующая пламенная царица поэзии – Цветаева – узнаваема по внушительному числу восклицательных знаков в стихах, по душе подростка-максималиста, по отрывистому ярому слогу, вечной борьбе – с собой, миром, устоями, впоследствии – с жизнью.
Лиричная и художественная, славянски печальная Ахматова – мастерица режиссерски филигранных стихов. Каждый из которых – готовое законченное художественное произведение. И всегда о женском.
И частично заставшая их эхо последовательница – Белла. Кажется, вобравшая в себя мальчишеские безобразия Цветаевой и размах Ахматовой. И не меньше оных хулиганила, любила, колотилась в страстях, совершала поистине безумные поступки, для свою жизнь, как больной в горячке – мед. Как тянут ласку, печаль, понравившееся кино.
В 1955 г. она была первой женой Евтушенко. С 1959 г. восемь лет прожила с Юрием Нагибиным. Тот вел совершенно противоположную ей, лишенную всякого ее понимания о быте жизнь. Расставаться было неумно. Она встречалась с женщинами (зачастую не ограничиваясь одной), приводила домой Бог знает кого, могла объявить, что вот этот прохожий – теперь ее муж.
Разводясь, Ахмадулина удочерила детдомовскую девочку Аню – в надежде вызвать отзвук тепла и семейственности в Нагибине. Тщетно. Нагибин за свои шесть браков собственного-то ребенка не нажил, чего было ждать в отношении приемной малышки. Девочка выросла, узнала правду и не терпит истории своей судьбы. Где поэт ткет полотно своего искусства, там кто-то проживает реальную жизнь.
Лишившись сытого барского быта Нагибина, Ахмадулина вышла в третий раз замуж за молодого балкарца, годившегося в сыновья. Молодым можно управлять. Но не тогда, когда он – балкарец… Так что и здесь без «косы на камень» не обходилось. И долго продержаться не могло. Зато осталась дочь Елизавета.
О детстве мы неизменно помним хорошее – память выискивает лучики света, даже если в нем был сплошной мрак. А мрака в детстве Елизаветы не было – были мама и папа, почти сразу жившие врозь, но бывавшие с нею, а еще бабушка и домработница. Бесчисленное количество собак, дачный быт, столь же щемяще нежный, сколь и безалаберный. Но детям это неважно. Дети помнят образы и впечатления, а не столовый сервиз и распорядок дня.
Образы и впечатления – это как раз про Беллу. Она и сама была ярким пятном на картине жизни кисти Великого импрессиониста, Творца. Мутноватым пятном порой, но незабываемым. Свободной во всем, но подчиненной образу, из которого не выйти.
Книги и фильмы, мемуары и переписка показывают: Ахмадулина «зажигала» за мужчин-поэтов, за Цветаеву, за Ахматову и за того парня – вместе взятых. И, в отличие от простых смертных, в отношении ее самой окружению было совершенно непонятно, что же делать.
На этом фоне вполне органично отсутствие восприятия быта. В дни, когда дети все-таки пребывали с Беллой (выйдя замуж в четвертый раз – за Бориса Мессерера, она от них съехала на дачу в Переделкино и так и прожила там с мужем больше 30 лет), девочки Аня и Лиза помнят отсутствие постелей, наличие гостей и хаотичный сон среди собак.
Только Мессерер оценил бытовую отрешенность Беллы с любовью и нежностью. Восприняв ее, прежде всего, как любимую женщину с некоторыми причудами. В его обволакивающе любящем сердце Беллу-домохозяйку совершенно справедливо вытеснила Белла-поэт. Этот бытовой идиотизм – до невозможности проследовать куда нужно самым простым путем и до неумения завязывать шнурки – был, скорее, чем-то вроде услады его щедрой душе. Памятником истинному искусству, пребывающему формально в теле поэта и душою – в райских кущах. Мессерер был художник. Он был рад, что ему в теле живой и прекрасной женщины достался образчик чистого искусства.
Поэзия максимально точно и емко решает главную задачу искусства – связывания дольнего с горним. Достижения высоты. Путешествия по вертикали. В этом же – стремление политики. Цель у политика и поэта одна. Задачи разные. Политика стремится к управлению – орудуя любыми способами сверху вниз. Поэт подтягивает нижнее к высшему, без потерь и прочих физических огрехов. Более того – поэту нужно не столько связать одно с другим, сколько объединить вообще все. Отменить законы физики как таковые. Отменить смерть, преодолеть пространство и время.
Пример – шестидесятники и диссиденты. Обладая столь явной властью (то-то политики неистовствовали) над миллионами, поэты стали связующими звеньями между правительством и народом. Поэтому Ахмадулина, при всем своем несуразном поведении, «аморалке» и излишествах, так отчаянно, детски веря в правоту, стремилась к внедрению в политике идей свободы и ненасилия.
Потому что любви, искусству и отдельно взятой поэзии физические законы не указ. Опять же – дуракам закон не писан. Власть поэтов примерно так же и понимала – как дураков. Недаром же были шуты при правителях, любимые юродивые в народе, они же пророки. Художники. Святые. Дети. Но, как известно, важнее в жизни не результат, а стремление к оному. Вот Белла Ахатовна и стремилась.
…Вспомните планету из своих сновидений в детстве. Видели вы на ней границы? Прекрасный калейдоскоп, великая игра в перетекание многообразно ярких единиц. Ничего не существует само по себе, вне существования другого. Вот и Белла границ и запретов не видела. Вероятно, ни в чем. Почему бы и нет?
Беспредметная красота
Музыку слушают без счета, тогда как кино или книги хватает на раз-другой, в редких случаях – больше. Вероятно, дело в сюжетности, которой насыщен роман или фильм, в относительно ровной линии, сопутствовать которой раз за разом все же не столь увлекательно. Это как снова и снова проходить один и тот же маршрут. В музыке же мы ищем – и находим! – настроение, искомое состояние, достигнув которого, покидать его уже больше не хочется. Хочется длить и длить, как ласку, как сон, как мечту о рае.
Чувство, которое обретаем, оказываясь внутри композиции музыки, сродни ощущению счастья, найденному по возвращении в родные места, узнаванию облика близкого существа, сразу ставшего дорогим от любви, влюбленности, дружбы. Будучи нелинейной, бессюжетной, музыка погружает в иные, но узнаваемые миры, полные покоя, теплых тяжелых безбрежных вод, смыкающих над нами сладкие свои волны.
Речь о музыке, лишенной скоротечности и замкнутости повода. Скорее, о чем-то вневременном вроде опер, классики вообще, суфийских каввали, в целом – духовной музыке.
Но и романы, и фильмы тоже бывают оказывающими такое воздействие. Так случается, если автор отменил монополию тяжести сюжета, сняв с него эту прикладную, в общем, задачу. И вот, мы имеем дело с кино или книгой, в которых сюжетная линия – никакая не линия, но растворившаяся в сферической сути чувств вспомогательная история. Где сюжет только служит погружению в то искомое чувство, что мы находим, к примеру, в классической музыке (ибо ее сила сопоставима с незыблемой мощью рая, который ищем – в любви, путешествиях или искусстве). И сопоставима с силой природы, отчего не мешает, к примеру, во время прогулки в парке. Наоборот, без нее парк словно опустевает, теряя сестру-близнеца, свою сотворяемую человеком рифму. Гармонично и просто сочетание величия природы и музыки.
…Но и книжки, и фильмы бывают такими же, да. И тогда ты, увлеченный погруженностью в их миры, но отнюдь не сюжетностью, совершаешь противоречивые, в общем, штуки. Одновременно тянешь свое пребывание в фильме или романе, отодвигая ненужное здесь логическое завершение (сюжет-то ведь ни при чем!) – и все же стараешься поскорее явиться к финалу, чтобы достичь кульминации. Выход есть – дочитав, досмотрев что-нибудь столь же страшное, сколь и прекрасное, нездоровое или божественное, принимаешься за него снова. Просто перелистываешь страницу – и заново. И тогда фильм оборачивается несмолкаемой музыкой, книга – прогулкой по парку без устали. Где на все – все равно, лишь бы этот одновременно небесный и рукотворный рай никогда никуда не девался.
Брейгель
Снежная зима в городе – это сразу Брейгель. Вспомните «Зимний пейзаж» и «Ловушка для птиц». Мягкие яркие пятнышки, словно горошки цветного перца, – высыпавшие на горки, дорожки, лед взрослые и дети. Скорей, скорей ухватить эту щедрую зиму, роскошную и настоящую, слиться с ней, самим причаститься этой исконной подлинности. Мир так счастлив, когда что-то являет свою ожидаемую суть. Мгновенно все кругом оживает в этом торжестве единства должного и свершаемого. Будто сцена в театре надолго застыла и вот ожила наконец. Действие продолжается!
И здесь же в памяти – фламандские пословицы, которые словно повторяют сценки на наших снежных ландшафтах. Мизансцены вечные, хоть и меняются постоянно.
Где-то среди них – и мой маленький сынок, моя любовь, затерявшийся среди других чьих-то любовей, мелкий горошек цветного перца. В каждой женщине спит мама, в каждом мужчине она видит и любит того мальчика, которым он когда-то был.
Когда-то и эти полотна окажутся кем-то запечатлены или зафиксированы – согласно актуальным реалиям, возможностям, изобретеньям. Украсят собой рабочие столы чего-то там (если они еще будут), в репродукциях или голограммах. И уже с ними другие дети и взрослые станут сравнивать разноцветных ребят, рассыпанных по замерзшим прудам и горкам. И их поговорки придут им на ум, отождествляя с нашими, как с чем-то архетипичным, старинным, древним. И так по кругу, пока мы любим друг в друге тех детей, которыми мы когда-то были.
Бродский. Космический странник
24 мая 1940 года в Ленинграде родился Иосиф Александрович Бродский. Многие считают, что знаменитый Серебряный век поэзии кончился не в 1920-х гг., а именно с его смертью. Чутко воспринятая им школа русской поэзии от Золотого пушкинского века до века Серебряного (в том числе в лице тепло дружившей с ним Ахматовой) сполна отозвалась в тонком и глубоком гении Бродского.
Большая радость, что такое явление отметило именно русскую поэзию. При этом немудрено, что вобравший в себя весь многообразный и синтетический ХХ век Бродский был билингвой.
Хотя, на первый взгляд, билингвизм, полноправное владение двумя литературными языками, больше подходит предшественнику, «старшему товарищу» Бродского – Набокову. Набоков – тоже дитя эха времени «до» СССР и как бы во время него, но и со взглядом на эпоху со стороны, извне. Набоков тоже был отмечен печатью этой эпохи, оставаясь от нее удивительно свободным. Но билингвизм Набокова – отметина связующего звена между позапрошлым веком и прошлым. Тогда как билингвизм Бродского отлично вписывается во вневременное и внепространственное шествие в целом, в масштабе космоса и условной вечности.
Ибо зачем ему сковывать себя даже двумя эпохами и, главное, свой гений, одним-единственным языком? Когда можно обратиться к двум – каждый из которых, по сути, является универсальным для метрополии и бывших колоний, в случае с английским языком и для России и стран бывшего Союза – с русским.
Эта универсальность видится в масштабе поистине шекспировском. Когда кажется невозможным принять факт того, что такое количественное и качественное разнообразие образов и парадигм рождается в сознании единственного человека. Когда уровень погружения в каждую из представленных эпох (а Бродский повествует о Средневековье, Античности, Возрождении, временах Христа и так далее) достоин специалиста по любой из них. Жил бы Бродский во времена Возрождения, с его тайнами, мистицизмом и, главное, возможностью мистификаций, его бы тоже наверняка принимали бы за отряд непрерывно пишущих эрудитов в бесчисленном множестве областей знаний.
Бродский весь был свободой от места и времени, он даже ритм и рифму стиха от этого освободил, выстроив непривычный порядок слов и строф. Он, как Франциск Ассизский, что подобно пантеистам Востока наделил частичкой божественного не только существ, но и состояния (брат Солнце, сестра Тишина), раздвинул рамки и границы зримого.
Несмотря на непосредственное произрастание из среды «шестидесятников», он был их полной противоположностью. Не певцом времени, а певцом освобождения от него. Как и от пространства. Отсюда и кажущийся нелогичным для еврея католицизм (и каждый год к католическому Рождеству – очередной шедевр о Нем. Каждый раз по-новому, неизменно гениально, постоянно – об одном. Об Одном). Ни разу не посетивший (хотя приглашали) Святую Землю еврей-католик из СССР с гражданством США, нобелевский лауреат. Да просто поэт. Космический путешественник. Ни один ярлык никогда до конца не пристанет, потому что ярлыки – это вообще не про поэтов.
Приятно читать студентам в качестве примера гениального – эссе «Неотправленное письмо». Его легко отыскать, как и общеизвестную (и потому ее нет и не будет здесь) биографию Иосифа Александровича. Просто в нем Бродский изумительно легко, экономно, но роскошно высказывается о так и не состоявшейся реформе русского языка. Филигранно сравнивая по принципу тонкого ковроткачества (нить за нитью буквально каждое предложение тезиса сменяется следующим предложением аргументации) структуру эфемерного, физически неуловимого языка с монументальной и незыблемой мощью архитектуры. Бродский написал его в 1962—1963 гг. Т. е. ему было 22—23 года.
И такое эссе. Это только одно из сонма. Не говоря о стихах и пьесах. Какие уж тут ярлыки?..
Поэтому жаль, конечно, когда так безвременно (на момент смерти Бродскому было 55 лет, а сейчас не было бы и 80) уходят гении. Но на то они и гении, что никуда никогда по-настоящему не уходят. Даже кажется, что особо и не приходили вовсе… Так, прошли мимо, озаряя своей звездой. И идут себе где-то дальше, освещая Вселенную.
Darmowy fragment się skończył.