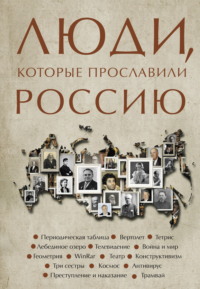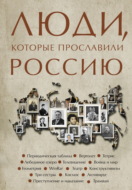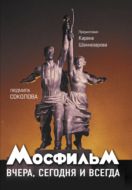Czytaj książkę: «Люди, которые прославили Россию»
Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы.
Петр Первый
Серия «В ритме эпохи»
В оформлении обложки использованы фотографии
© Сергей Компанийченко / РИА Новости, © Юрий Абрамочкин / РИА Новости,
© Анатолий Гаранин / РИА Новости, © Лев Иванов / РИА Новости, © Алексей Филиппов / РИА Новости, © Екатерина Чеснокова / РИА Новости,
© Илья Тимин / РИА Новости предоставленные ФГУП МИА «Россия сегодня»
В оформлении книги использованы материалы, предоставленные ФГУП «МИА «Россия сегодня»

© ФГУП «МИА Россия сегодня», 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
Русские – упрямый народ, и, если им однажды пришла в голову хорошая идея, они рано или поздно осуществят ее с поистине русским размахом!
К.М. Симонов
Величие страны характеризуется наличием выдающихся людей, и Россия богата на такие имена. Для того чтобы рассказать обо всех, потребуется не одна книга. За все то время, что существует наша страна, в каждом поколении появлялись и появляются яркие исторические персонажи. Люди, которые развивают науку, двигают прогресс, удивляют нас своими открытиями и шедеврами. В этой книге мы затронем лишь малую толику тех, кто своими достижениями вывел не только Россию, но и весь мир на новый уровень интеллектуально-духовного, технологического и общественного развития. Среди них и современники, и люди, давно ушедшие. Их знает вся планета. Они совершили то, что не удавалось никому до этого.
Жизнь гения чаще всего не отличается благополучием и спокойствием – он сталкивается с непониманием, потому что опережает свое время; его успеху препятствуют недоброжелатели, а общественность не принимает его достижения. Некоторым пришлось испытать на себе тяготы ссылок и тюрем, иные умерли в нищете и на чужбине, но они шли вперед вопреки всему. Им придавала сил потребность делиться знанием и талантами с другими… И любовь к Родине. Как писал Н.Г. Чернышевский, «историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое достоинство – силою его патриотизма». Одаренные люди открыли для мира «русскую науку», «русскую музыку», «русскую литературу» и еще много чего. Нам есть чем гордиться, и не стоит об этом забывать.
В подтверждение вышеизложенного хотелось бы привести несколько цитат.
Адам Смит, шотландский экономист и философ XVII века: «Ради праведной идеи русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, – они обретают свободу». Многие великие люди шли к своим открытиям через тернии и лишения. О таких историях вы узнаете далее.
В.А. Зубков, российский политик, отмечает: «Характерная особенность русского народа в том, что его историческое становление выработало в нем способность успешно решать проблемы в таких условиях, которые другим народам кажутся не просто невероятными, а немыслимыми».
Еще очень захватывает высказывание английского писателя и журналиста Мориса Бэринга, проживавшего в России до 1912 года. Он отметил такие качества русского мышления, как дерзость и нестандартность: «В области идей русский предприимчив и смел. <…> Он не признает общепринятых пределов и границ; развивает свою мысль до логического конца, а когда вывод, казалось бы, грозит reductio ad absurdum1, он попросту перескакивает через „absurdum“ со словами „Почему бы и нет?“»
Н.С. Лесков говорил это шутя, но в каждой шутке есть немалая доля правды: «Англичане из стали блоху сделали, а наши тульские кузнецы ее подковали, да им назад отослали».
I. Изобретатели
Глеб Евгеньевич Котельников. Спасенные жизни, или Патент № 438612
Парашюты в авиации —
вообще вещь вредная…
Великий князь Александр Михайлович
Глеб Евгеньевич Котельников – акцизный чиновник, актер, изобретатель ранцевого парашюта. Небольшая характеристика, но именно в ней отражены главные моменты жизни и достижения этого человека.

Глеб Евгеньевич Котельников с парашютом собственного изобретения. Ок. 1924
Много лет тому назад, когда в небо поднялись первые самолеты, малейшая поломка или сбой в работе незначительной детали приводили к страшным авариям и гибели людей. Количество жертв среди летчиков постоянно возрастало, возникла острая потребность в изобретении спасательных средств. Задача была непростой, над ее решением бились многие умы. Решения конструкторов западных государств были недостаточно совершенными и не обеспечивали надежной защиты пилотам. С этой проблемой блестяще справился русский изобретатель Глеб Котельников. Он не являлся в полной мере профессионалом, имел отличную от технической области профессию, но не смог остаться в стороне, оказавшись очевидцем очередной трагедии.

Народный дом
Итак, начнем. Родился Глеб Евгеньевич Котельников 30 января 1872 года в Санкт-Петербурге. Его отец являлся профессором механики и высшей математики, автором известных учебников, дед преподавал математику и физику, а прадед был одним из первых русских академиков и правой рукой Михаила Ломоносова. Мать Глеба – дочь бывшего крепостного Ивана Зайцева, который впоследствии стал известным художником и преподавателем рисования. Соответственно, неудивительно, что в детстве Глеб проявлял самые разнообразные способности – его увлекало искусство, он играл на музыкальных инструментах, участвовал в любительских спектаклях, но занимался и техникой, имел золотые руки, легко мог из подручных средств смастерить замысловатое устройство. Окончив Первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, он вместо театрального или технологического института поступил в Киевское пехотное юнкреское училище, потому что из-за смерти отца семья крайне нуждалась в деньгах. В 1894 году Глеб Котельников выпустился и три года служил в армии. Потом он устроился в акцизное ведомство2 и стабильно работал там следующие 10 лет. Однако служба для такого творческого человека казалась пустой и тяжелой. Местный театр и конструирование помогали Котельникову легче переносить данный период – он создал для рабочих местного винокуренного завода модель разливочной машины, а свой велосипед оснастил парусом для дальних поездок. Спустя годы выйдя в долгожданную отставку, Котельников переезжает вместе с женой в Петербург.
В Санкт-Петербурге Котельников становится театральным актером, следуя своей детской мечте, выступает в Народом доме. Одновременно с этим он увлекся авиационными соревнованиями. На одном из них 24 сентября 1910 года произошла катастрофа, в результате которой погиб известный российский авиатор Лев Мациевич. Журналист газеты «Россия» написал о нем следующее: «Капитан Мациевич поражает своим хладнокровием во время полетов. Мне пришлось видеть его при отправке в воздушное плавание и сразу после спуска. Храбрый капитан садится в свой „Фарман“ так же, как мы садимся к извозчику. А когда слезает после получасового полета, то лицо его не меняется. Незаметно на нем ни волнения, как он слезает с телеги после спокойной прогулки». К сожалению, в этот раз полет оказался для летчика последним. Писатель Л.В. Успенский описал страшный момент: «На летном поле к этому времени было уже не так много зрителей; и все-таки полувздох, полувопль, вырвавшийся у них, был страшен… Я стоял у самого барьера и так, что для меня все произошло почти прямо на фоне солнца. Черный силуэт вдруг распался на несколько частей. Стремительно чиркнул в них тяжелый мотор, почти так же молниеносно, ужасно размахивая руками, пронеслась к земле чернильная человеческая фигурка…» Страшное событие не оставило Глеба Котельникова равнодушным, и он задумался над созданием приспособления для предотвращения подобных трагедий. «Котельников был очевидцем этой катастрофы, – по словам историка авиации Г.Т. Черненко, – и она произвела на него такое впечатление, что он решил придумать какое-то средство спасения авиаторов». Сам изобретатель вспоминал: «Это была первая жертва русской авиации. Она произвела на меня такое тяжелое впечатление, что, выступая, как обычно, вечером в театре, я все время видел страшную картину гибели летчика. Неужели нельзя уберечь летчика, думал я, спасти жизнь человеку, если происходит авария аэроплана… я решил во что бы то ни стало построить прибор, предохраняющий жизнь пилота от смертельной опасности».
В 1910 году над изобретением ранцевого парашюта трудились лучшие умы Европы, и безрезультатно. Кто тогда мог подумать, что какой-то актер справится с задачей, над которой несколько лет бились ученые из разных стран? Но он организовал мастерскую прямо в своей квартире, начал изучать книги по летному делу, совершенствовать чужие чертежи, проводить испытания с использованием манекенов.
Долгое время пробные полеты проходили неудачно. Это наталкивало на мысль, что требуется решить вопрос с материалом для изготовления будущего парашюта. В театре, где он служил, одна дама достала из маленькой сумочки небольшой шелковый комочек, который превратился в большую шаль, и вопрос с материалом решился: шелк занимает мало места, быстро и легко разворачивается. «Для применения на самолете необходим легкий и прочный парашют. Он должен быть совсем небольшим в сложенном состоянии… Главное, чтобы парашют всегда находился при человеке. В таком случае летчик сможет спрыгнуть с любого борта или крыла самолета».
По первоначальному замыслу Котельников хотел парашют прикрепить к шлему летчика, но таким образом от сильного рывка могла быть повреждена шея пилота. Также для того, чтобы опустить на землю человека весом в 80 кг, требовалось не менее 50 квадратных метров шелка, уложить в шлем такое количество материала не представлялось возможным. Поэтому изобретатель разделил парашютные стропы на две части и прикрепил их к лямкам на спине – такое решение в практике конструирования парашютов применялось впервые. В то время никто даже не задумывался о том, что парашютом можно управлять. Директор музея ВДВ С.И. Таненя объясняет: «Крепление парашютиста происходило в одной точке, и он, как щенок, в таком положении повисал». Именно Котельников первым уложил парашют в небольшой заплечный ранец, который закреплялся на теле парашютиста. С изобретением ранцевой системы Котельникова парашютом стало можно маневрировать, он стал компактным и удобным, а для того чтобы воспользоваться спасательным средством, летчику нужно было всего лишь дернуть за шнур, торчащий из рюкзака. Кроме того, конструктор предусмотрел аварийный механизм, если вдруг парашют не раскрывался.
Испытания Котельников проводил подальше от глаз случайных иностранцев, чтобы те не смогли украсть технологию. Манекен (звали его Иван Иванович) несколько раз сбрасывали с 50‑метровой высоты, и он приземлялся целым и невредимым. Поставленная задача была выполнена. Изобретатель решил зарегистрировать изобретение в Петербурге. Он написал докладную записку военному министру В. Сухомлинову: «Ваше превосходительство! Длинный и скорбный список славных жертв авиации натолкнул меня на изобретение весьма простого полезного прибора для предотвращения гибели авиаторов в случаях аварии с аэропланами в воздухе». Но увы, в главном военно-инженерном управлении страны им не заинтересовались. Убедить чиновников Котельников не смог. Приблизительно через год он получает патент (в то время это называлось привилегией) за номером 438612 во Франции. Однако не оставляет попыток доказать пользу своего изобретения на родине – он хочет провести официальные испытания, для чего делает новый опытный образец, влезая в долги. Котельников писал: «Как только все увидят, как парашют опускает человека на землю, то сразу изменят свое мнение. Поймут, что он так же необходим на самолете, как спасательный круг на корабле…» Испытания проходят успешно – изобретение произвело фурор. Однако ранцевый парашют в России использовать отказываются. Резолюция великого князя Александра Михайловича гласила: «Парашюты в авиации – вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие!»
Небольшое отступление. До официальных испытаний Глеб Котельников проверял парашют, в том числе и на прочность материалов. Для этого он прикрепил свое устройство к буксировочным крюкам автомобиля, разогнал машину до 75 км/ч, дернул шнур, и парашют тут же раскрылся, а автомобиль был остановлен силой сопротивления воздуха. Конструкция осталась полностью целой. Остановка автомобиля заставила конструктора задуматься над разработкой воздушного тормоза для летательных аппаратов во время посадки, и он изготовил опытный образец. Тогда «умные» люди из Военно-инженерного управления сказали, что данное изобретение не имеет будущего. А много лет спустя воздушный тормоз как «инновация» был запатентован в Соединенных Штатах.

Пилоты спасаются на парашютах
Возвращаясь к основной теме повествования, скажем, что слава об изобретении Котельникова распространилась повсеместно, и ему предложили изготавливать парашюты на частной основе. Он старался доказать нужность своего изобретения руководству Воздухоплавательного отдела Генштаба: «…они (летчики) гибнут напрасно, в то время как могли бы в нужный момент оказаться полезными сынами Отечества… горю единственным желанием выполнить долг перед Родиной… такое отношение к полезному и важному делу для меня – русского офицера – непонятно и обидно». Однако реакции не последовало. Выхода не было, и он согласился на предложение коммерсантов. Его образцы представили на нескольких конкурсах во Франции, и правительство страны разрешило провести испытания на живом человеке. 5 июня 1913 года русский спортсмен Владимир Оссовский прыгнул с парашютом. Тестирование прошло успешно, и «РК‑1» (ранцевый, Котельникова, модель первая) стали изготавливать не только во Франции, но и в других странах, в то время как для российских летчиков закупались французские парашюты Жюкмеса, которые безопасными назвать крайне сложно из-за несовершенства конструкции креплений, громоздкости и жесткого приземления.
В 1914 году началась Первая мировая война. Спрос на спасательные средства существенно возрос. Французские парашюты в боевых действиях оказались весьма неэффективными – пилоты погибали. И тогда военное министерство Российской империи обратилось к Котельникову с просьбой изготовить опытную партию «РК‑1» в 70 штук. Но дальнейшее производство вновь приостановили, потому что менять французские модели на российские было дорого. Впоследствии, после Октябрьской революции, советское правительство оценило пользу изобретения Котельникова и внедрило его повсеместно. Сам Глеб Котельников постоянно совершенствовал свое творение, он выпустил «РК‑2», «РК‑3», «РК‑4». В 1926 году он передал права на изобретение руководству СССР. Самое интересное, что пилоты боялись парашютов, поэтому в критических ситуациях разбивались, но парашют не использовали. И только в 1927 году знаменитый летчик-испытатель Михаил Громов выпрыгнул с парашютом из теряющего высоту самолета, вошедшего в штопор. На его примере авиаторы поняли, что парашют может спасти жизни.
Кроме того, Котельников выступил с рядом конструкторских предложений в вопросах механизации сельского хозяйства: с февраля 1929 по июнь 1930 года он подал 12 заявок на изобретения и на 9 из них получил авторские свидетельства. А в Великую Отечественную войну, находясь в родном Ленинграде, он принимал активное участие в работе постов противовоздушной обороны, стойко перенося все трудности блокады. В конце 1941 года его в тяжелом состоянии эвакуировали в Москву, но, несмотря ни на что, он продолжил изобретательскую деятельность. В 1943 году вышла его книга «Парашют», а несколько позже – «История парашюта и развитие парашютизма». В январе 1944 года Глеба Котельникова наградили орденом Красной Звезды, который ему вручили как «старейшему конструктору парашютов». Он начал ряд новых работ, но, к великому сожалению, они не были закончены.
22 ноября 1944 года Глеб Котельников, своим изобретением спасший тысячи жизней, скоропостижно скончался. Его могила – особое место для парашютистов и летчиков, которые приходят сюда почтить память выдающегося изобретателя и привязать к деревьям ленточки для затяжки парашютов.
В честь Глеба Котельникова деревню Сализи, где испытывался его парашют, переименовали в Котельниково, в Санкт-Петербурге есть аллея, названная его именем. Памятник изобретателю первого ранцевого парашюта установили в Иваново, где находится Ивановский парашютный завод.
Если вы захотите больше узнать про Глеба Котельникова, то сняты документальные фильмы: «Глеб Котельников. Над куполом – небо»; «Знай наших. Глеб Котельников»; «Великие изобретатели. Главная роль Глеба Котельникова»; «Глеб Котельников. Стропа жизни».
Изобретение Глеба Евгеньевича оказалось многолетним техническим феноменом – все современные модели парашютов созданы по схеме его создателя. У летчиков есть поговорка: «Все парашюты вышли из „ранца“ Котельникова». Б.А. Костин, писатель, ветеран ВДВ, написал: «И не только потому, что он изобрел первый в мире ранцевый парашют, но, собственно говоря, он основал все принципы, по которым и ныне существуют воздушно-десантные войска, авиация и космос».
Петр Николаевич Нестеров. Короткая жизнь аса русской авиации
Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора…
П.Н. Нестеров
Петр Николаевич Нестеров – русский летчик, основоположник высшего пилотажа и всемирно признанный ас.
Петр Николаевич родился 27 февраля 1887 года в семье штабс-капитана Николая Нестерова в Нижнем Новгороде. К сожалению, через три года, в возрасте 27 лет, отец скончался, оставив свою жену с четырьмя детьми без средств к существованию. Они были вынуждены поселиться в так называемом Вдовьем доме – приюте для неимущих вдов и сирот.

Петр Николаевич Нестеров
Еще в детстве небо манило Петра. Наблюдая за полетом почтовых голубей, он говорил брату: «Смотри, как красиво и непринужденно кружатся, я бы также хотел летать». В возрасте десяти лет Петр поступает в Нижегородский кадетский корпус, где ранее преподавал его отец. Учится легко и после окончания обучения в числе лучших выпускников получает направление в Михайловское артиллерийское училище. В характеристике 16‑летнего выпускника из аттестационного журнала Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса за 1904 год содержится следующая информация: «Кадет 7‑го класса Нестеров… обладает острым умом, любит математику, физику, черчение. Чрезвычайно настойчив в принятых решениях, проявляет характер, полностью унаследованный им от покойного отца… Кадет Петр Нестеров – идеальный тип будущего офицера с ярко выраженными моральными качествами и храбростью, могущего увлечь за собой своих подчиненных в бою». В артиллерийском училище он тоже показывает себя с лучшей стороны, и ему предоставляется право самостоятельно выбрать место будущей службы. И здесь Нестеров удивляет окружающих – вместо того, чтобы остаться в Санкт-Петербурге, он выбирает Владивосток. Приказ по училищу от 9 ноября 1906 года гласил: «…высочайшим приказом от 29 октября 1906 года портупей-юнкер Нестеров Петр произведен в подпоручики со старшинством… и назначается во Владивосток в 9‑ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду». Решение продиктовано личными мотивами: Петр хочет вступить в брак, а в силу юного возраста единственная возможность осуществить желаемое – доказать свою финансовую состоятельность, получая повышенное жалование на службе в Сибири или на Дальнем Востоке.
Служа в 9‑й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригаде, он впервые обратил внимание на аэростат и добился от своего командования временного прикомандирования к воздухоплавательной роте, где выполнил несколько подъемов в воздух на этом летательном аппарате. Правда, скоро роту расформировали, и Петр вернулся в артиллерию.

Виды аэростатов из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона
Небольшая ремарка для более полного понимания портрета нашего героя: подпоручик Нестеров запретил в своем подразделении оскорбления и рукоприкладство унтер-офицеров по отношению к нижним чинам. В то время эти методы хоть и были официально запрещены, но использовались повсеместно. Поэтому частное приказание подпоручика являлось огромной редкостью и способствовало укреплению нравственной культуры в личном составе командира.
В 1910 году по состоянию здоровья его переводят в Кавказскую артиллерийскую бригаду, где он знакомится с российским летчиком, установившим мировой рекорд по высоте и дальности полета, – Артемием Кацаном. Вместе с ним он принимает участие в проектировании и строительстве планера. Небо все больше захватывает Нестерова: «Мое увлечение авиацией началось с 1910 года… Меня не приводили в восторг происходившие в России и за границей полеты, ибо я считал их до крайности несовершенными и не чувствовал в них победы гордого духа над косной материей. Наоборот, в этих полетах меня не удовлетворяла рабская зависимость пилота от капризов стихии… Поэтому я поставил себе задачей построить такой аэроплан, движения которого меньше всего зависели бы от окружающих условий и который всецело подчинялся бы воле пилота… Только тогда авиация из забавы и спорта превратится в прочное и полезное приобретение человечества…»
Летом 1911 года, находясь в отпуске на родине, он знакомится с Петром Соколовым – учеником профессора Н. Жуковского, «отца русской авиации». Будущий летчик записывается в Нижегородское общество воздухоплавания и вместе с Соколовым строит в сарае планер3. Когда летательный аппарат был готов, его привязали к лошади и пустили ее галопом, в это время в кабине находится Нестеров. Планер поднялся в воздух на три метра и летел какое-то расстояние – первый полет Петра Нестерова состоялся.
Нестеров окончательно и бесповоротно решает связать свою жизнь с авиацией, и поступает осенью 1911 года в Офицерскую воздухоплавательную школу, где через год получает диплом военного летчика. В августе 1912 года его зачисляют в Гатчинскую авиационную школу, и вскоре Петр сдает экзамен на звание пилота-авиатора, а чуть позже – на звание военного летчика. В характеристике говорилось: «Петр Нестеров: летчик выдающийся. Технически подготовлен отлично. Энергичный и дисциплинированный. Нравственные качества очень хорошие». По окончании школы он поехал в Варшаву, чтобы протестировать моноплан4 «Ньюпор», который взяла на вооружение российская императорская армия. Во время одного из полетов Петр Нестеров набрал рекордную по тем временам высоту – 1,6 тысяч метров, а затем выключил мотор и восьмерками спланировал над городом. Е. Ф. Бурче, биограф П. Нестерова, писал: «Особенный стиль полетов Нестерова – плавность в воздухе и крутые крены при поворотах – позволяли узнавать его, как говорили, „по почерку“ издали».
Нестеров не стоит на месте: ищет новые способы пилотирования, знакомится с Яном Нагурским, впоследствии совершившем первый в мире полет над арктическими широтами, работает над проектами усовершенствования летательных аппаратов, интереуется идеей использования аэроплана в качестве оружия путем применения тарана, делает массу новых открытий в теории воздушного боя. Позднее эти наработки будут использовать пилоты всего мира. Его мечта – создание самолета, который бы полностью подчинялся пилоту, не завися от внешних условий. Сослуживец В.С. Соколов вспоминал, что Петр Нестеров говорил: «Военный летчик должен владеть своим аэропланом в совершенстве. Ему во время войны, может быть, придется вести воздушный бой, а для этого он должен уметь выходить из любого положения. В воздухе везде опора! Мы видим, что нас предоставили самим себе. Никаких инструкций, никаких указаний мы не получаем. Как будет применяться авиация в будущей войне, приближение которой ясно чувствуется, точно никто не знает и никого это не беспокоит. Но если об авиации не думают те, кому об этом думать надлежит, то ответственность за подготовку к войне падает на нас. Мы не имеем права сидеть сложа руки. Смелость, верный глаз, твердая рука – и победа твоя!»
Окончив обучение в 1913 году, Нестеров назначается в 11‑й корпусный отряд 3‑й авиационной роты, располагающейся в Киеве. Летом этого года он установил рекорд: без подготовки, в составе малой группы из трех самолетов, пролетел 500 км над территорией Украины. В те времена осуществление подобных сверхдальних полетов считалось невозможным событием, ставшим достоянием газет всего мира. Но его целью была мертвая петля.
Виктор Соколов писал: «…мы узнали от гатчинцев, что еще в авиашколе Нестеров говорил об этом и даже утверждал, что на аэроплане можно сделать мертвую петлю. В школе его подняли на смех. Нужно сказать, что первое время мы также не верили тому, что говорил Нестеров о мертвой петле, и многие открыто насмехались над ним. Но когда нам стало известно, что профессор Николай Егорович Жуковский, ученый с мировым именем, отец русской авиации, как впоследствии назвал его Ленин, также считает выполнение мертвой петли вполне возможным делом, голоса оппонентов Нестерова смолкли». В том же году в конце лета Петр Нестеров поднимается в небо на «Ньюпор‑4», разгоняется, задирает нос самолета… и впервые в мире совершает одну из самых сложных фигур высшего пилотажа – мертвую петлю, которую впоследствии будут называть «петлей Нестерова». Сам летчик в «Санкт-Петербургской газете» от 4 и 5 сентября 1913 года делился впечатлениями: «За все время этого 10‑секундного полета я чувствовал себя так же, как и при горизонтальном повороте с креном градусов в 70–80, т. е. ощущал телом поворот аэроплана, как, например, лежа в поезде, чувствуешь телом поворот вагона. Я очень малокровный: стоит мне немного поработать, согнувшись в кабинке «Ньюпора», и в результате от прилива крови сильное головокружение. Здесь же я сидел несколько мгновений вниз головой и прилива крови к голове не чувствовал, стремления отделиться от сиденья тоже не было, и ноги давили на педали. Мой анероид не выпал из кармана куртки, и инструменты в открытых ящиках остались на своих местах. Бензин и масло также удерживались центробежной силой на дне бака, т. е. вверху, и нормально подавались в мотор, который великолепно работал всю верхнюю половину петли. В общем, все это доказывает, что аэроплан сделал обыкновенный поворот, только в вертикальной плоскости, так как все время существовало динамическое равновесие. С этим только поворотом воздух является побежденным человеком. По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора, и давно ему пора отделаться определять направление по отношению к земле».
Кроме того, он вспоминал: «Я еще не успел вполне закончить теоретической разработки этого вопроса, когда узнал, что “мертвую петлю” готовится совершить и французский авиатор Пегу. Тогда я бросил теоретические расчеты и решил рискнуть. Совершить “мертвую петлю” было для меня вопросом самолюбия, – ведь более полугода я исследовал этот вопрос на бумаге». Он не зря спешил – Адольф Пегу повторил мертвую петлю через шесть дней, но русский авиатор был первым.
Корреспондент газеты «Русский инвалид» господин Лаврецкий писал: «Я был в Париже, когда Пегу впервые летал вниз головой, но тогда же я узнал в [конце августа старого стиля], что поручик Нестеров в Киеве проделал мертвую петлю. Во французской печати, влюбленной (и по заслугам) в свою авиацию, это событие прошло бы не особенно заметно. Однако, зная, что добиться признания первенства русского офицера возможно, я попросил по телеграфу поручика Нестерова сообщить мне о своем полете. И вот в первых числах нашего сентября в самой распространенной газете «Le Matin» через мое посредство было сообщено, что первый, который сделал на аэроплане „О“, был Нестеров, а Пегу сделал лишь французское „S“. Я не хочу входить в оценку обоих прекрасных авиаторов. Но каждому свое. Нестерова наградили золотой медалью Киевского общества воздухоплавания за «первое в мире научное решение с риском для жизни вопроса об управлении аэропланами при вертикальных кренах».
Интересно то, что путь от первого полета на самодельном планере до первого в мире исполнения мертвой петли составляет всего два года. Его успешный эксперимент побудил русских авиаторов совершенствовать технику управления самолетом, а молодой авиаконструктор И.И. Сикорский разработал одноместный моноплан, специально приспособленный для выполнения фигур высшего пилотажа. В статье «Нестеров», опубликованной в мае 1914 года в газете «Русский инвалид» говорилось: «Очевидно, что в самом скором времени мертвая петля, скольжение на крыло и другие подобные воздушные упражнения будут введены в программу военных авиационных школ, так как они дают летчикам большую уверенность в полетах во всякую погоду, не боясь никаких положений в воздухе. Год назад потеря скорости в воздухе считалась почти гибельным положением для летчика; теперь же после фигурных полетов Нестерова, Пегу и др. мы видим, что для летчиков, прошедших такую школу, это обстоятельство не страшно». Немецкий кайзер Вильгельм III, несмотря на предвоенную ситуацию, отмечал профессионализм русских пилотов: «Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на такой же высоте проявления искусства, как это делают русские…»
Однако останавливаться на достигнутом Нестеров не собирался. В мае 1914 года он устанавливает всероссийский рекорд по продолжительности и скорости полета: он осуществил перелет на аэроплане из Киева в Гатчину за восемь часов. Рекордов еще могло быть много, но началась Первая мировая война… На тот момент Нестеров был самым известным российским летчиком.

Плакат, на котором изображен подвиг Петра Нестерова
11‑й авиаотряд, командиром коего являлся Петр Нестеров, перебрасывают на Юго-Западный фронт в распоряжение штаба 3‑й армии. Они принимают самое непосредственное участие в одном из крупнейших сражений, в Галицийской битве. У Нестерова появляется возможность в военной обстановке апробировать множество собственных теоретических изысканий. Он постоянно вылетает на разведку (28 вылетов за три недели боев за Львов), проводит первую в истории русской авиации бомбардировку расположений противника, новые способы использования авиации в условиях боя.
Через некоторое время австро-венгерское командование, уставшее от успешных налетов Нестерова, назначает высокую награду тому, кто сможет сбить его самолет. Но он казался неуязвимым. Русские газеты позже напишут: «Во время воздушных разведок русских авиаторов австрийцы всегда безошибочно определяли, каким аппаратом управлял Нестеров. Когда показывался аэроплан-птица, красиво и вольно паривший в воздухе, австрийцы указывали – Das ist Nesteroff! Австрийцы боялись покойного, и все их усилия были направлены к прекращению его деятельности».