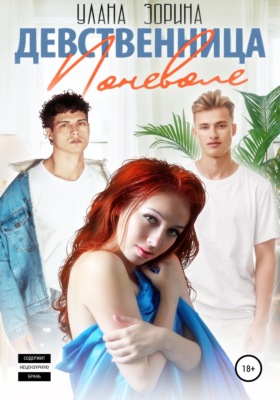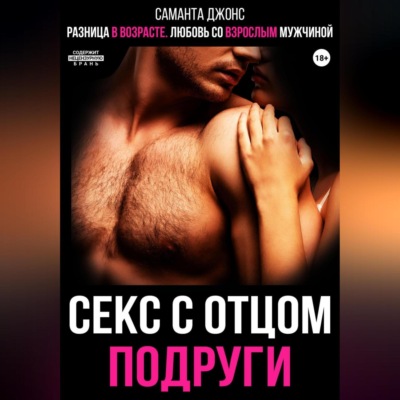Czytaj książkę: «Любовь. Бл***тво. Любовь»
Александр Городницкий
«ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
Юлий Крелин, одноклассник и старинный друг Натана Эйдельмана, умер в Израиле в мае 2006 года, куда, после долгих сомнений и отлагательств, все-таки переехал, взяв гражданство. Первопричиной этого была необходимость срочной и сложной операции по поводу аневризмы. Выяснилось, уже после переезда, что в Израиле такие операции не делают, а делают либо в США, либо в Германии. Время, однако, было упущено. Опытный врач, сам перенесший несколько сложных операций, он, по-видимому, прекрасно это понимал. Говорят, что умер он мгновенно, без мучений, на балконе Тель-авивской квартиры, с пустой трубкой в руках (в последнее время он уже не курил).
С ним, так же, как с Натаном Эйдельманом и Валей Смилгой, познакомил меня впервые Игорь Белоусов, но подружились мы уже после безвременной и неожиданной смерти Игоря. Эта неразлучная в свое время четверка одноклассников 110 арбатской школы, своеобразного лицея, который мечтал, но так и не успел воспеть Натан Эйдельман, чем-то напоминала знаменитую четверку мушкетеров, при всей непохожести облика и характеров.
Пожалуй, только образ жизнерадостного и тучного Портоса мог быть воплощен как в Игоре Белоусове, так и в Натане Эйдельмане с его громовым голосом и любовью к шумным застольям. Но и Белоусов, и Эйдельман, ушли из жизни молодыми, и такими навсегда остались в нашей памяти. Меня всегда занимал вопрос – какой облик будет вечно иметь душа умершего человека в царстве теней. Ведь умершие молодыми так молодыми и останутся, а дожившие до старости вечно будут стариками. Как будут общаться яростные и задорные мальчишки Павел Коган и Михаил Кульчицкий с седоусым и мрачным Борисом Слуцким, с полуслепым и лысым Давидом Самойловым? Как будут смотреться Игорь Белоусов, умерший на пороге сорокалетия, и Натан Эйдельман, не дотянувший до шестидесяти, рядом с семидесятивосьмилетним Юлием Крелиным? (Кстати, подлинная фамилия Юлика – Крейндлин, а Крелин – писательский псевдоним). Близкие друзья называли его «Крендель».
Юлий Крелин был выдающимся талантливым врачом, профессиональным хирургом высочайшей квалификации, проработавшим в клинике около шестидесяти лет и спасшим жизнь сотням людей. Окончив медицинский институт в 1954 году, и защитив позднее кандидатскую диссертацию, он практически всю свою жизнь отдал медицине. Московская больница № 71, где он много лет заведовал хирургическим отделением и вырастил могучий отряд учеников и последователей, была его реальным домом. С ностальгической болью я вспоминаю его сидящим в своем кабинете всегда в белоснежном халате, выглядевшем на нем как-то особенно нарядно, с бородой и неизменной трубкой, напоминавшей о его принадлежности к племени Хемингуэя, и загадочным перстнем на пальце. Несмотря на небольшой рост и лысину, был он неотразимо хорош и двигался с неповторимым изяществом. Что бы он ни надевал – от модного в те времена замшевого жилета до грубошерстного свитера, все на нем сидело как-то ладно, слегка по-пижонски, и был он неотразим. Женщины вокруг умирали. Это относилось не только к медсестрам и докторам медицинских наук, но и ко многим другим. Он это прекрасно сознавал всю свою жизнь и оставался мужчиной в буквальном смысле до последних дней. Неслучайно свой последний, так и неизданный роман, он назвал «Любовь и блядство».
Его фанатичная преданность медицине и побудила его взяться за перо.
Первая литературная публикация молодого хирурга появилась через десять лет после окончания ВУЗа в журнале «Новый мир». Это была серия новелл под общим названием «Семь дней в неделю». В 1969 году Юлий стал членом Союза писателей СССР, однако всю жизнь, до самых последних дней продолжал активно работать в хирургии, спасая человеческие жизни. Вставал он ежедневно в пять утра и в семь утра, как правило, был в больнице. Профессионал высочайшего уровня, он прекрасно сознавал угрозу неизбежных поражений в неравной борьбе с неизлечимыми недугами. Неслучайно одной из любимых его шуток была история, рассказанная в мединституте профессором на одной из лекций: «Врач перед операцией говорит больному: – Медицина, батенька, наука неточная, поэтому деньги прошу вперед». Сам он, однако, никогда и никому в помощи не отказывал и брал в свое отделение самых тяжелых больных. Мы все, его многочисленные друзья, постоянно обращались к нему со всякого рода медицинскими просьбами, и он неизменно помогал. У него лечился практически весь Союз писателей – от Эммануила Казакевича до Евгения Евтушенко.
Мне повезло, я, в отличие от многих других, ни разу у него в больнице не лежал, хотя многократно обращался за советами, натыкаясь порой на мрачный кренделевский юмор: «Ты что мне жалуешься! Ты лучше в свой паспорт посмотри!» В Донском монастыре я неожиданно натолкнулся на такую надпись на одном из надгробий: «Здесь лежит урожденная такая-то, умершая от операции профессора Снегирева». На один из его дней рождения я написал ему приветственные стихи такого содержания:
Увяли траурные ленты
В доисторической поре.
Твоих собратьев пациенты
Лежат в Донском монастыре.
Но я живой, и я не сбрендил,
И говорю я, весь дрожа,
Что мне твои романы, Крендель,
Дороже твоего ножа.
Лучшие произведения писателя Юлия Крелина посвящены медицине, с которой была связана не только вся его жизнь, но и смысл самой жизни. В романе «Хирург» в образе доктора Мишкина он воплотил реальный облик замечательного хирурга Михаила Жадкевича, безвременно умершего от рака. Да и другие романы и повести «От мира сего», «Игра в диагноз», «На что жалуетесь, доктор», «Суета (Хроника одной больницы)», «Письмо сыну», тоже связаны с медициной. Вместе с тем, жизнь больницы для автора, в большей части – фон человеческого существования, где герои сталкиваются с важнейшими личными, семейными, социальными и нравственно-этическими проблемами.
Юлий не любил публичных выступлений и всегда их сторонился, хотя ему нередко приходилось выступать со сцены, особенно во время поездок по стране с самыми близкими друзьями Натаном Эйдельманом и Вольдемаром Смилгой. Оба они были блестящими лекторами, тонко чувствовали аудиторию и легко находили нужный язык Крелину приходилось нелегко. Однажды они выступали где-то на Дальнем Востоке в большом зале. Аудитория долго хлопала Натану Эйдельману, очаровавшему слушателей рассказами о Русской истории. Следующим должен был выступать Крелин. Он сел на стул у рампы, вынул изо рта свою неизменную трубку и сказал: «Ну, что рак, рак! Вот от рака умрет примерно только каждый десятый из вас. А вот от сердечно– сосудистых болезней – каждый третий». И начал считать зрителей в первом ряду. Зал замер в ужасе. После этого его слушали, затаив дыхание. Непререкаемый медицинский авторитет Юлия Крелина порой помогал научно обосновывать самые невероятные вещи. Он написал несколько статей о вреде спорта. Более всего наделала однако шума другая его статья, где он пытался доказать пользу курения, которое, якобы, снижает артериальное давление. Терпеть не мог загородных прогулок и морских купаний, утверждая при этом что «Воздух всюду – одинакового состава». Однажды в доме творчества писателей в Пицунде, в биллиардной заспорили о том, кто может выше всех прыгнуть, оттолкнувшись от пола. Неожиданно для всех Юлик прыгнул и достал рукой до потолка. Как ни старались все присутствующие, в том числе и я, повторить этот рекорд, у нас ничего не вышло. «Еще бы, – улыбнулся Крелин, – я же всю жизнь стою у операционного стола».
В его романе «Очередь» героиню, врача-хирурга, ухаживающий за ней поклонник приглашает в финскую баню. Неожиданно для нее, они оказываются там вдвоем, и он после пары рюмок коньяка пытается овладеть ею. Она, как будто, ничего не имеет против, но он умирает у нее на руках от внезапного сердечного приступа. «Как ты мог убить человека в такой момент? – возмущался я. – Юлик, ты садист!» «А я не люблю финскую баню» – отвечал он.
Человеческое его обаяние было поистине безгранично. Не случайно именно его дом стал местом традиционного сборища его школьных и нешкольных друзей, и даже три его жены все годы дружили с ним и друг с другом.
Его внезапный уход из жизни, осиротивший нас, нуждавшихся в его постоянной дружеской и врачебной поддержке, был его первым не товарищеским поступком. Он не имел права опережать нас. Недаром много лет назад, уверенный в его долголетии, я обратился к нему с такими стихами:
И в январские пурги, и в мае, где градом беременна,
Налетает гроза с атлантических дальних морей,
Вспоминаю хирурга, прозаика Юлия Крелина,
Что друзей провожает из морга больницы своей.
Не завидую другу, целителю Крелину, Юлику, —
Медицина его непроворна, темна и убога.
В ухищреньях своих он подобен наивному жулику,
Что стремится надуть всемогущего Господа Бога.
Почесав в бороде, раскурив неизменную трубку,
Над наполненной рюмкой что видит он, глядя на
нас?
Сине-желтую кожу лежащего в леднике трупа?
Заострившийся нос и лиловые впадины глаз?
Не завидую другу, писателю Юлию Крелину, —
Он надежно усвоил, что вечность не стоит и цента.
Сколько раз с ним по-пьянке шутили мы, молодо —
зелено,
Что бояться не следует, – смертность, увы,
стопроцентна.
Пропадает в больнице он ночи и дни тем не менее,
И смертельный диагноз нехитрым скрывая
лукавством,
Безнадежных больных принимает в свое отделение,
Где давно на исходе и медперсонал, и лекарства.
Не завидую другу, врачу безотказному Крелину, —
В неизбежных смертях он всегда без вины
виноватый.
С незапамятных лет так судьбою жестокою велено:
Тот в Хароны идет, кто когда-то пошел в Гиппократы.
Не завидую я его горькой бессмысленной
должности,
Но когда на меня смерть накинет прозрачную сетку,
На него одного понадеюсь и я в безнадежности,
Для него одного за щекою припрячу монетку.
Москва. Июнь, 2007
ЛЮБОВЬ – БЛЯДСТВО – ЛЮБОВЬ
Слово «блядь» было ходовым бытовым выражением, пока Указом Императрицы Екатериной II не было внесено в разряд срамных. Пора вернуться к истокам.
«Ведь это же прекрасное старинное русское слово (блядь), коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, но даже и при дворе не гнушались».
И. БунинИзд-во Худ. Лит. 1966 г Т.5. стр. 370
* * *
Когда я пишу, у меня нет ни цели, ни идеи. Для какой цели? Я даже и не понимаю вопроса. Но есть человек перед глазами, в голове, в сердце, во всём мне. Вот. И мне хочется его всем показать. Может, он мне нравится, а может, наоборот. Но это я узнаю, когда сумею показать. Или не сумею. В процессе написания у меня порой меняется к нему отношение. Мало ли, что он может учудить. У меня цели нет, но у него-то есть. Или появится, по мере рождения в моей голове. Да и вообще, какая цель у живущего? Жизнь и есть цель. Вот когда мы узнаем смысл существования человечества, тогда и можно будет говорить о цели, об идеях. А пока бы, жизнь прожить удачно, не погрешив особенно против классических канонов порядочности. Главное, не поддаться общей морали, а стараться блюсти свою личную нравственность. Представляю, сколько мне за это натолкают в душу, если кто-нибудь когда-нибудь сподобится прочесть.
Показать человека. А зачем? Глупости, что это может кого-то научить. Или, не дай Бог, воспитать. Осудить. Превознести. Ответить на какой-то вопрос. Вот евреи-иудеи, в склонности к своей талмудической диалектике, поняли, что, по существу, ответа ни на что нет: каждый вопрос при попытке ответа просто рождает новый вопрос. И исходят из главнейшего для них: Бог, как нечто абстрактное, непознаваемое. Даже не ясно, какого пола – он, она, поэтому я и пишу, как невнятное, абстрактное оно. Где? Ответа нет. Где-то в бесконечности. Но бесконечность – это ничто – нет времени, нет пространства. Стало быть, Бог был нигде и никогда. Чтобы реально возник Он, нужны мы. Без нас – Его нет. Вот Он и взорвал Вселенную из какой-то неведомой точки в нигде и в никогда. Тут тебе и ответ, и новый вопрос. Нет ответов. Верь.
Бог дух, Бог мысль, непостижимое, не могущее поддаться любому изображению, а, стало быть, всякая попытка изобразить, просто создание очередного, ни о чём не говорящего кумира. Всякое изображение, словом ли, рисунком ли, уже несёт в себе попытку найти какие-то пути в поисках ответа. Например, Иисуса Христа рисуют и страдающего, и любящего, и учащего, и спасающего. И думают, что это ответ на какой-нибудь один из главных вопросов бытия. Ответа-то нет. И какой может быть ответ, когда сплетают, сплетается несовместимое: покорность и сопротивление, любовь и отторжение. Не может человек сопротивляться без любви. Но может ли он, умеет ли он любить? Изображаю – что получится в поисках очередного вопроса? Следующего. Так мне кажется. Так мне хотелось бы. Задумчиво изобразить, а в ответ кто-то бы задумался: а что делать, или как быть, или кто виноват… Опасная и плохая попытка ответить этим последним вопросом. Кто виноват? – люди чаще всего полны желанием ответить на него. Вот уж в ответ получили тысячи новых вопросов.
Мне бы изобразить. Поискать вопросы. Поискать любовь… Да, если по правде, и это мне не по силам. А хочется. Вообще-то, любовь – это самое легкое в жизни. Если настоящая любовь, а не изображение, не имитация, пусть даже неосознанная. Ведь самое трудное в жизни – это всегда выбор. У нас никогда не было условий для выбора – ни в товарах, ни в положении, ни в депутатах… Вот возникли условия свободного выбора, – а мы и оказались не готовыми. А любовь не даёт нам выбора. Если это любовь – она однозначна. Выбирать уже не надо. Если отказался – выбрал нелюбовь. И точно это знаешь. При таком выборе от любви до блядства, как от вечного до мимолётного. Блядство – украшение и облегчение жизни; любовь – солнечное счастье, часто с муками, страданиями. Но это и есть суть жизни. Некоторый вид мазохизма, когда и от страданий счастье тебя обволакивает, а солнце греет даже в ненастье. Жизнь как жизнь.
Секс это и есть жизнь. Это не любовь. Любовь отдельна. Просто грандиозно, когда это сочетается. Если эволюция, действительно, реальна, то всё равно, я не согласен с Энгельсом, будто труд сделал человека. Трудились все звери. Обезьяны миллионы лет хватали палки, чтобы сбить себе банан, если не могли долезть. Животные готовы к сексу два раза в год. Когда у них течки и наступает брачный сезон. У человека нет сезонов. Он всегда готов. Женские «критические дни», как теперь вежливо и эвфемистически говорят наши средства массовой информации, недолги и длятся всего лишь несколько дней, а уж через месяц… Секс порождал и порождает интеллектуальную конкуренцию, излишнее любопытство.
Почти все животные, соразмерные человеку, сильнее его. Развитие мозга компенсирует физическую слабость. Основа развития, прогресса человека в его физической слабости. Сила человека в его слабости. Спортсмены, зачастую, если и не импотенты, то и не гроссмейстеры в этом виде физических упражнений.
Секс – это прогресс, радость жизни. Любовь – тяга к нравственным страданиям, она делает жизнь жизнью. Через страдания – к солнцу.
* * *
Ефим Борисович проснулся около пяти утра. Рядом никого. Он ещё ощущал тепло любимой, уехавшей около трёх часов назад. Сладко и трепетно становилось ему, лишь только физически он вспоминал бархатистость кожи внутренних поверхностей её бёдер. Её руки, пальцы, нежность их прикосновений к местам, жаждущим любви, контакта с любимой. Плотность, так сказать, тургор её груди. Цилиндрические тёмные соски. Он вспомнил и почти повторил вслух своё раздумчивое, пожалуй, мечтательное замечание:
– Ох, с такими сосками только рожать да рожать – никогда мастита не будет.
Илана засмеялась:
– Докторский подход. А не поздновато? Ну, вообще-то, рожать, так рожать. Да вряд ли получится. А я бы не против.
– Да и я готов.
Ефим Борисович вновь ощутил тот же радостный трепет, вспомнив её слова, улыбку, что сопровождала их. Тогда он подумал: «А хорошо бы. Я конечно стар, но до паспорта новой дочки теоретически дотянуть могу». Почему он решил, что светит им дочка? Да и вообще, о какой беременности может идти речь? Да, конечно, Илана могла бы ещё родить, но на пределе, возрастном пределе. У него тогда даже в глазах защипало от готовности любимой родить от него, несмотря… Да, несмотря, несмотря. Так это согрело душу его. И даже потом, когда в другой день, вернее, в другую ночь, он увидел в ванной баночку какого-то крема, предохраняющего от беременности, нежность к своей, ныне царствующей, а не возможной, гипотетической, девочке, никак не уменьшилась. Вполне естественно, подумал он при неожиданной находке, я, конечно, не имею на это право. Что ж я, мужа её должен обрекать на чужого ребёнка? Она ведь не решила разводиться. А если даже и решится, я вполне могу за это время перекинуться. Собственно, почему чужого? Для неё-то он не будет чужим. Меня не будет, а более наглядной памяти даже Господь не придумает. А нужна ли ей будет память? Ефим Борисович открыл баночку, понюхал, покачал головой и опять нежная, радостная улыбка скользнула по его лицу.
Ефим Борисович от ощущений трёхчасовой давности улетал всё дальше и дальше в прошлое. Он старше её почти на тридцать лет. А что было тогда, в год её рождения? Да что было, что было – у него уже были свои дети. Поэтому он с полным правом называл Илану девочкой и обращался к ней «деточка». И это было столь естественно, что ни он, ни она не цеплялись мыслью за некоторую необычность обращения к любимой. Или грубее – к любовнице. Любимую деточкой называть естественно, любовницу – не получится.
Тридцать лет! Нет – это невыносимо даже произносить, даже мысленно. Он отбросил двадцать девять лет и вернулся в современность. С чего всё началось?
Она приехала из другой больницы и привезла ему для консультации свою пациентку. А он ещё проводил утреннюю конференцию. Сдавали дежурство. Ему и всему хирургическому корпусу. Она, – он ещё не знал, как её зовут – так и шла, как доктор из соседней больницы. Это потом, потом, стала Иланой, а фамилия и вовсе уже была ему ни к чему. Илана, девочка, деточка…
Он по привычке дамского угодника равно улыбался как больной, так доктору. Благо они были с небольшой разницей в возрасте. Больная чуть старше доктора, но обе были сильно моложе … Как выяснилось в дальнейшем, трагически моложе его. Трагически? Конец всегда трагический. На то он и конец. Но перед этим-то сколько счастья.
Он, как и положено старому русскому доктору, начал с расспроса больной. С анамнеза. Всё-таки «в начале было слово». Но нынешние врачи больше доверяли объективным, бесстрастным показаниям разных аппаратов и лабораториям и почти не говорили с больными. Может, они и правы, и ошибаются меньше, но старики по-прежнему умудрялись из разговора порой вытащить мудрёный диагноз. Вернее, какую-то нестандартную болезнь. Естественно, раз привезли на консультацию к нему, значит что-то не поддается пасьянсу из полученных цифр, картинок, фоток, графиков… Это льстило старому врачу, который всё больше и больше чувствовал нарастающую свою невостребованность, устарелость. Да ещё и две молодые, для него молодые, женщины. Он и сам почувствовал себя моложе, расправил свой павлиний хвост, затряс козлиной своей бородой. Если и диагноз не поставит, то хоть разговором впечатление произведёт.
А случай-то оказался простой. Вернее, болезнь-то не простая, а достаточно тяжёлая, но диагноз поставить несложно. Он весь вытекал из разговора. Терапевты все исследования делали лёжа, а признаки болезни вылезали при ходьбе. А с больной, практически, не разговаривали. «Что болит?», и пошли исследовать место болезни, заодно и весь организм, а вот «как болит?» не спросили. А ведь борьба между «что» и «как» сохраняется. Она вечна!
Борис Ефимовичу через минуту ясно стало, что и где искать, но он продолжал говорить и выспрашивать. Показывал себя со всех сторон. Молодая терапевт, для него молодая, смотрела на него своими прелестными серо-голубыми глазами со сполохами явного восхищения. Да и старик, пожалуй, больше говорил с доктором, чем с больной. Больная была ему уже ясна, а доктор манящая загадка. Хотя чего уж там загадочного? Просто система общения, жизни, выработанная за годы любви к женщинам, автоматически включила весь его организм в привычный стиль сосуществования с лучшей, по его мнению, гранью человечества.
Как зовут больную, он не спросил – в «Истории болезни» написано. Так он объяснил свой вопрос доктору только об её имени.
– Илана Владимировна.
– Какое редкое и красивое имя. Сейчас такая смесь новейших имен и названий со старинным, национальным, архаическим и даже почти будущим, только зарождающимся. Вот сказал я «История болезни», а написано «Карта больного», а ведь в начале двадцатого века, ещё называли эти листочки «Скорбным листом». А?
А что, а – то? Запел. Заиграл старый селадон. И, похоже, что не без успеха. Доктор восхищена. А чем? Так, наверное, обходительностью, желанием говорить, желанием смотреть на неё, желанием обаять. «Королева в восхищении!» – Так, кажется, у Булгакова на балу у Сатаны.
– Коллега, по разнице возраста, я позволю обращаться к вам лишь по имени. К тому же это современно. По-западному. Вопреки старинной русской традиции. Да и имя ваше не русское. Так ведь? И очень красивое.
– Меня назвали так в честь бабушки, которая умерла перед моим рождением.
– Согласно национальным традициям?
– Вам нравится имя? А то меня всё время спрашивают. Оно ж редкое.
– Очень красиво. И так соответствует вам. Такое же красивое, как и вы.
– Спасибо. Спасибо и за консультацию. Если разрешите, мы к вам и впредь будем обращаться, ладно?
– Весьма польщён такой уверенностью в моих способностях.
Ну и так же, в том же тоне, ещё недолгое время завершался разговор.
Это была первая встреча. Знакомство состоялось.
* * *
Знакомство. А вот первое знакомство с первой любовью. Девятый класс. Ах, как давно это было. Разумеется, давно. Школы тогда были разделены, так сказать, по половому признаку. Стремление Вождя к старому постепенно распространялось на всё. Сначала появились генералы. Потом погоны. Школы стали мужские и женские. Народные комиссары переименовались в министров. Ещё только не ввели гимназические формы. Ещё все школьники ходили, кто во что горазд. А горазды были не густо. Война кончалась. Перешивали старое. Часто из военных одёжек, в которых приходили раненые или демобилизованные родственники. Ещё демобилизованных было мало. Вождь еще не боялся, видимо пока не боялся, возвращающихся, уцелевших, набравшихся смелости воинов. Их пока было мало. А те, кто были ещё в армии, не знали, не чувствовали ужасов мирного существования в стране. Эти внешние признаки прошлого вселяли некоторым пожилым людям мысли, что Вождь хочет быть Императором. Или чувствовать себя им. Династии всё равно не выходило. Говорили: скоро он вам в гимназиях формы старые введёт – это пока денег на формы нет, ни у людей, ни у государства. Военные формы ему нужнее. И впрямь, чуть оклемались – и ввели новые старые гимназические мундиры. А дети радовались. Пожившие лишь головами покачивали. Вскоре мундиры появились в некоторых институтах, учреждениях. Всё выстраивалось перед Императором. Каждый начинал понимать своё место. Ждал, ждал Вождь-Император массы возвращающихся воинов. Готовился. Не упустить бы момент.
А дети радовались. В школах вечера с танцами. Появились танцуроки, танцучителя. Учили танцам, знакомым детям по кино о прошлом. Дети радовались. Ещё не знали, что скоро окажутся под запретом фокстроты, танго и прочее, пришедшее к нам сравнительно недавно из стран, ещё недавних союзников. Всё, всех выстраивали перед Императором. Дети радовались, радовались. Ждали отцов. Они ещё не знали, что возвращаются не все выжившие. Иные ушли прямо с фронта, другие из плена в родные лагеря. А кто-то ещё ждал, что Великая Победа возвратит их близких из своих, отечественных лагерей, поскольку арестованы они были в ожидании пакостей от ныне поверженного врага. Не состоялось возвращение. А целые народы, что ради безопасности Империи были полностью высланы из родных, так сказать, исконных земель, также не дождались возврата домой. Но дети радовались, учились танцевать и любили Вождя, что дал им счастливое детство.
Да, так вот: всем классом они пошли на вечер в соседнюю женскую школу. Знакомства, знакомства! «Фима». «Катя». И молча танцуют. Что сказать? Как говорить? О чём? Зачем читал столько, если не знает, как с девочкой поговорить? Что в танцах, что в перерывах. А их и не учили говорить. Слушайте, ребята, да на ус мотайте. Собственно, и на ус мотать их тоже не так учили. Не то мотать и не так.
Ещё провожали всю девичью гурьбу всей гурьбой мальчишеской. Вот и шли от дома к дому большой толпой, уменьшаясь у очередного подъезда на одну девичью единицу. Так и с Катей он распрощался большой гомонящей толпой. Все шумели одновременно, высказываясь и не слушая.
Долго-недолго, но вскоре они опять же толпой, но, может, меньшей, уличной пришли в гости к одной из девочек, где тоже была суматошная толчея от множества ног, девичьих и мальчишечьих – ребята танцевали. И опять никаких контактов личных. Ещё общественное было выше личного. Но один прорыв совершил одноклассник. Он недвусмысленно дал понять всем, что хочет придти ещё раз и один. Сделал он это своеобразно. Правильно решил: надо нечто забыть, чтобы была причина вернуться или повторить визит назавтра и одному. А поразмыслив, не зная, что позабыть, он, в конце концов, решительно, но тайно, вытащил брючный ремень и засунул его под диванный валик. Вот это, вряд ли, было правильным: что бы девочке пришлось объяснять родителям, если они обнаружат забытый предмет раньше её? На улице все радостно смеялись над незадачливой находчивостью члена их толпы. Но прорыв сделан. Обозначены желания индивидуального сосуществования. Обозначилась первая пара. Первая победа индивидуализма над коллективистской психологией.
И уже через два дня Фима позвонил Кате и пригласил её погулять по бульвару. Состоялось.
Да, они долго стояли у подъезда. И даже за руки не держались. О чём они говорили? Их души пели, тела молчали. Тела только-только начинали понимать роль свою. Ах, как прекрасна любовь платоническая. Только не знали они, что это ещё не любовь. До – не любовь. После – возможно.
А вскоре они были в театре. Роман школьников развивался согласно всем правилам, почёрпнутым интеллигентными детьми из классических книжек, одобренных родителями, а частично и учителями.
Ах, это ханжеское время: Мопассана прятали от великовозрастных подростков. О «Яме» Куприна при детях говорили шёпотом. Матерный Барков лишь слухами доходил даже до взрослых. Слово говно, иногда позволялось, поскольку термин этот был в ходу у пророка их времени, Ленина. Да и то старались произносить его, прикрывая юношеские уши. При этом другие «Х» – «хулиганство, халтура, хамство» – были наглядны и поучительны. Это потом, более чем через полвека одна женщина точно и лапидарно сформулировала то время: «В СССР секса не было». «Умри, Денис! Лучше не скажешь» Секс – как обобщённый символ личных свобод.
Нет, нет! После театра они стояли у дверей много дольше. И даже по дороге домой он позволил себе держать локоток её полусогнутой руки. А потом ребятам повествовал свой донжуанский подвиг, вызывая тихое одобрение друзей. «Я взял её под руку, и она всем боком прижалась ко мне». «О-о-о!»– завистливо взвыл родной коллектив, приветствуя первую победу индивидуума.
Но вот он не мог ей дозвониться. Подруги тоже ничего не знали. Уроков не было – каникулы. Стало рождаться новое чувство для него – ревность. Но они уже проходили Белинского, который в статьях о Пушкине весьма справно объяснил им, что ревности нет места у думающих, нравственных людей. Согласился, но нервничать не перестал. У Катиной мамы справляться было неудобно и боязно. Уже решил бросить перчатку судьбе, а девочке не простить коварства, даже несмотря на завистливые повизгивания друзей. Однако предмет рождающейся страсти к концу каникул объявился и сам позвонил. Не получился у Фимы суровый разговор. Он обрадовался, и скрыть этого не сумел. И уже через час был у неё дома. Мама была на работе и должна была вернуться очень поздно. Под большим секретом Катя сказала, что папа её за какие-то дисциплинарные нарушения в армии, где-то в Вене, когда гулял весь их штаб в связи с победой, получил срок и находился то ли в тюрьме, то ли в лагере. Дети ещё не делали, вернее, не знали разницы между этими пенитенциарными учреждениями. Кстати, и слова такого вычурного они тоже не знали. Не знали, а может, только Фима не знал, что интеллигентные люди сидели в то время чаще всего не за уголовные или дисциплинарные нарушения, а по хорошо знакомой взрослым тех лет пятьдесят восьмой статье. Да и дисциплинарные наказания тоже были символами времени. Скажем, опоздание больше, чем на двадцать минут, или собирание голодными оставшихся колосков на убранном поле считались формально грехами уголовно-дисциплинарными, но были результатом именно политического изыска, сложившегося в стране. Сроки тюремные были немалые. Но знал ли, понимал ли это Фима? Катя тайно от всех кинулась повидать арестованного отца, офицера-победителя, ну, конечно же, случайно осуждённого. Ну, почти декабристка! Он все ей простил. Он уже смотрел на неё снизу вверх. И она была растрогана таким пониманием их семейной беды. Их уже сближала общая семейная тайна. Разумеется, это привело к объятиям ну и к следующему этапу – к поцелуям. Вот уж когда, действительно, ребята будут ему завидовать. Мог ли он себе представить, что всего через каких-нибудь полвека сверстники его, сегодняшнего, здорово бы посмеялись над сим смелым поступком. Но по тем временам, когда созревали и мужали души и тела этой пары, они зашли за пределы мыслимого в их ученических, учительских и родительских кругах. Они лежали на широкой тахте, – так назывался тогда матрац с прибитыми палками в виде ножек – обнимались, целовались, тёрлись телами друг о друга. «Фима. А может раздеться?» Фима задохнулся – декабристка! Он лишь промычал, кивнул головой и ещё пуще стал целовать и обнимать, вместо того, чтоб отстраниться и не мешать раздеваться, да ещё и помочь, да ещё и самому раздеться. Женщина, если полюбит – нет для неё препятствий. Женщина любит лучше, больше, отчаяннее. Катя ещё не женщина. Но Катя женщина. Мужчина же, несмотря на желания показать себя в любви чем-то средним между суперменом и разбойником, всё же, при прочих равных, больший раб канонических догм и предрассудков. Разумеется, если это не маргинал. Конечно. Фима ещё не мужчина. Но Фима мужчина. Они лежали почти полностью нагие и продолжали целоваться, обниматься. Чувствовать друг друга телами… Дальше дело не пошло. А скоро уже должна придти мама. И Фиму дома мама ждёт.
Darmowy fragment się skończył.