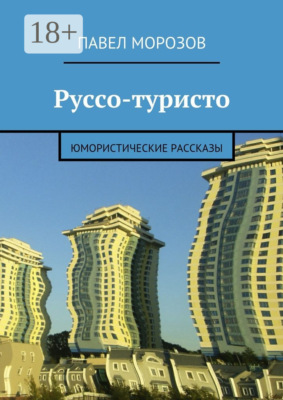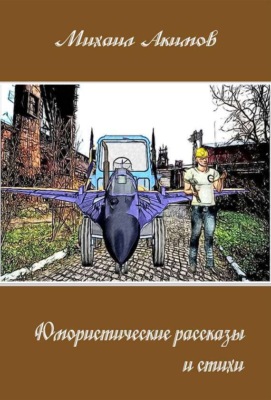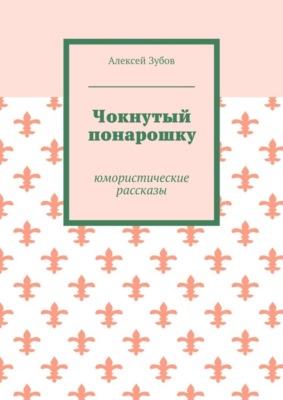Czytaj książkę: «А зачем нам собака?»
Посвящается моей бабушке
Все из-за печенья
Ранние воспоминания… Когда я впервые осознаю себя? Какое событие можно считать первым, зафиксированным в памяти? А еще: что помню я, а что навеяно рассказами старших и стало после многих лет как бы моими впечатлениями, чуть-чуть подкрашенными призрачным светом, словно струящимся из прошлого.
Свет пробивается сквозь листву малины. Кусты выглядят непроходимыми и немного запущенными. Малинник специально оставлен густым, чтобы закрывать соседский участок, отгороженный здесь лишь неплотным заборчиком.

Это важное место – площадка перед верандой, примыкающая к дому. Будто еще одна комната, но на дворе. Она ограничена двумя деревянными лавочками, расположенными под прямым углом друг к другу. В угол вписан стол, накрытый светлой клеенчатой скатертью. По вечерам на него ставят восьмилитровый самовар и чашки из разных сервизов, обязательно на блюдцах, тоже разных. Нам, детям, непременно хочется заполучить единственное блюдечко с нарисованным крыжовником: ягоды как настоящие – зеленые, прозрачные, с розовым бочком. Тем более, на столе в вазочке на высокой ножке – крыжовенное варенье.
Правда, и всякое другое свежесваренное варенье появлялось на дачном столе очень часто. Но почему-то именно крыжовенное считалось главным и самым вкусным. У него было и название – «царское». Гостям с удовольствием открывали его секрет. Важно, чтобы крыжовник не перезрел, вишневые листья добавлялись в варенье только мелкие, и на ягоде, заполненной прозрачным сиропом, должен быть незаметен надрез, через который извлекались зернышки. Самое главное в рецепте – отсутствие зернышек внутри ягод.
Но нет. Это не первое, что я помню. Это мне уже лет шесть – вполне сознательный возраст. Потому и множество деталей всплывает. Но где-то здесь, на этой полянке, мелькают и более ранние кадры…
А вот и они – тремя годами раньше… Я ем печенье и смотрю на собаку, привязанную на цепи около конуры у зарослей малины. Пупсарь. Он красавец: чуть узковатые лисьи глаза, симметрично раскрашенная морда и большой пушистый воротник от уха до уха. Хвост, тоже пушистый, обычно свернутый в кольцо на спине. Сейчас Пупс сидит, и поэтому хвоста не видно. Он смотрит на меня.
Я уже большая: мне три года; я понимаю, что он хочет. Беру еще одно печенье, слезаю со скамейки, осторожно подхожу к собаке. Не очень близко, хотя мы давно знакомы. Пес всегда привязан и обычно не обращает на меня внимания. Но подходить близко мне запрещено, да и страшно: он ростом такой же, как я.
Бросаю печенье собаке и забираюсь снова на скамейку, посмотреть, как Пупсарь сгрызет его. Но что-то не так. Собака лежит, почти касаясь угощения носом, но не берет.
– Почему-то не ест, – удивляюсь я.
Сейчас я понимаю, что Пупс просто хотел растянуть удовольствие обладания печеньем. Он пристально смотрел на лакомство, но не прикасался к нему, хотя мог легко пододвинуть печенье лапой. Но тогда я расценила это по-другому.
– Наверное, не может дотянуться, – подумала я. Снова слезла со скамейки, подошла и протянула руку – подвинуть печенье.
Все это я прекрасно помню. А вот то, что произошло дальше, я знаю только со слов старших. Знаю, но не помню. Потом был прокушенный собакой подбородок, больница, которая, к счастью, находилась недалеко. Я совершенно забыла всю ту суету, которой неожиданно обернулось мирное вечернее чаепитие.
Самое удивительное, что, получив такой страшный урок в три года, я не начала бояться и ненавидеть собак. Напротив, они стали предметом интереса. Я узнала, что собаки умеют думать. Ведь взрослые объяснили: «Пупсарь решил, что ты собираешься отнять печенье. Он не понял, что ты хотела помочь. Собаки могут неправильно расценить наши действия, нужно быть внимательной и осторожной. Вот и все».
Я иногда вспоминаю об этом случае и каждый раз удивляюсь свойству памяти не помнить плохого и страшного. Удивляюсь тому, что никак не изменилось мое отношение к цепному псу. Получается, ребенок, поняв смысл произошедшего, может принять событие, пусть даже тяжелое и болезненное, и не сохранить при этом страха.
Все мои раны зажили без следа, а в памяти и вовсе не отложились. Поэтому я с любопытством продолжала наблюдать за своей первой собакой, точнее, за собакой моей прабабушки. В этом подмосковном доме прабабушка жила постоянно, а я проводила каждое лето.
Пупсарь
Итак, выясняется, что первые воспоминания – это печенье и серая собака, сибирская лайка, очень сильный цепной пес. Подмосковная дача, 1962 год.
Он не всегда был Пупсарь. Сначала его звали просто Пупсиком. Рассказывали, что в двухмесячном возрасте он выглядел толстым и смешным. Отсюда и имя. Со временем проявился грозный характер, внешний вид стал более серьезным, и актуальность клички «Пупсик» пропала. Кто-то придумал звать собаку Пупсарём, и это гораздо больше подошло. В новом имени слышалось нечто важное, величественное, и присутствовал намек на строгий нрав.

Один или два раза в день его выгуливали на цепи по поселку вдоль канав, а все остальное время он сидел около конуры в зарослях малины и стерег дом. Охраняя, пес проявлял всю свирепость, направленную на незнакомых и малознакомых людей. И вообще на всех людей – по его мнению, чужих и неуместных в нашем дворе.
Цепь была довольно длинной, и чтобы провести в дом или на площадку перед верандой какого-нибудь гостя, приходилось загонять Пупсаря в конуру. Но сидеть там он не хотел и, как только видел чужого, выскакивал с громким лаем и оскаленными зубами. Поэтому, чтобы человек мог пройти по тропинке мимо разъяренного зверя, взрослые использовали лопату, стоявшую тут же, рядом с конурой. Загнав собаку внутрь, лопатой прикрывали круглый выход и удерживали пса в конуре, пока гость доберется до безопасного места.
Меня всегда завораживала эта сцена. Тут было и опасение: а вдруг цепь сорвется? Было и уважение к упорству и постоянству поведения собаки. Ведь в итоге гость всегда проходил в дом или на площадку перед домом. Тем не менее каждый раз пес делал все возможное, чтобы проявить свой характер, свое понимание собственного предназначения, желание если не дорваться до жертвы, то хотя бы попытаться доказать свою силу. Это были его любимые моменты, мгновения страсти и напряжения, полной самоотдачи, в ожидании которых он, казалось, и проводил весь день.
Когда же посторонних не наблюдалось, Пупсарь оставался спокойной и довольно милой собакой с умными глазами и пушистым, круто загнутым хвостом. Он являлся частью привычного дачного пейзажа, а для меня – даже украшением этой картинки и объектом постоянного внимания.
Однако у этого серьезного зверя можно было заметить и пару «слабостей».
Первая – пристрастие к сену. Летом скашивали траву на участке. Обычной ручной косой. После этого трава лежала, сохла, ее поворачивали с боку на бок вилами, а потом, когда она становилась хрустящей, начинала нежно пахнуть сушеным клевером и в ней заметно проявлялись светлые блестящие твердые стебельки пырея, ее сгребали, забрасывали на небольшой сеновал под крышей сарая и плотно утрамбовывали. Причем несколько раз за лето. Сена получалось много. Спрашивается: зачем, если в доме не водилось никаких домашних животных, кроме собаки? Так вот, именно для собаки.
Пупсарь обожал сено. Когда подстилка в конуре слеживалась и становилась плоской, ее выбрасывали. Прабабушка, подставив лесенку, доставала из-под крыши сарая новую большую охапку душистого сена и заталкивала в конуру так, что сено доставало почти до самого верха. Нетерпеливо поскуливавший в ожидании пес сразу же бросался в свою конуру и начинал всеми лапами равномерно распределять подстилку. Когда, по его мнению, все получалось как надо, зарывался в сено, и около суток его невозможно было ничем выманить, даже предложением погулять. Пупсарь исчезал. Оставалась только цепь, ведущая в темноту набитой сеном конуры.
Я в детстве не понимала выражения «как собака на сене». Считается, что сено собакам не нужно и незачем его охранять ото всех. Но пример нашего Пупсаря говорит об обратном. Значит, сено собакам почему-то необходимо.
И вторая «слабость». Пупсарь панически боялся грозы. Честно говоря, я тоже в детстве ее не любила, да и сейчас беспокоюсь во время грозы. Может быть, по примеру собаки? Не знаю. Но хорошо помню то ощущение нарастающей внутренней тревоги, когда на горизонте появлялись подозрительно темные и не предвещавшие ничего хорошего тучи.
Иногда, правда, тревога оказывалась ложной. Если туча шла с северо-запада, бабушка говорила: «Нет, это не наша гроза!» Как ни странно, после этой фразы тучи вскоре либо рассеивались, либо висели там еще какое-то время без движения, и про них просто забывали.
Но если туча шла с юга или юго-запада, то гроза была неминуема. Иногда она подкрадывалась медленно и приходила уже какой-то наполовину опустошенной. Но если налетала внезапно и стремительно, то и бушевала долго и яростно.
Пупсарь боялся любой грозы. Он всегда знал, когда она начнется, и минут за десять начинал дрожать. Чем ближе подходила гроза, тем больше нервничал пес. Он не заходил в конуру, а дергался на цепи и поскуливал до тех пор, пока бабушка не отвязывала его.
С первыми крупными каплями дождя и еще далекими раскатами грома, не глядя по сторонам, Пупсарь со всех ног бежал в дом, в самую дальнюю комнату, под самую низкую кровать, в самый темный угол. Там он и лежал, трясясь и прикрыв нос лапами до тех пор, пока гром не утихал. В это время, кстати, кто угодно мог приходить в дом: собаке было не до того.
И только когда гроза совсем прекращалась, из-под кровати появлялся Пупсарь. Он имел немного смущенный вид. Стараясь ни на кого не смотреть, пес шел к себе в конуру. До следующей грозы…
К сожалению, это все, что я помню о моей первой собаке и о том времени на даче, которое можно условно назвать временем прабабушки. Конечно, родственники много рассказывали о Пупсаре, ведь его все любили.
Но это уже не мои воспоминания. Они отличаются от неуловимого и зыбкого впечатления, которое пришлось пережить, почувствовать и сохранить самой. Такие еле различимые, ускользающие моменты сплетаются, закрывая несущественное и выявляя значительное. Всё вместе это и составляет мир человека.
Если бы в моей жизни, в самом ее начале, не было той, покусавшей меня собаки, то и дальнейшую действительность я воспринимала бы чуть иначе. Что-то другое представлялось бы важным для меня. Получается, жизнь рядом с Пупсарём и стала той точкой, от которой я отсчитываю первые воспоминания детства.
И еще почему-то осталось чувство, что самое главное в детстве – это лето.
Дача
Подмосковный дом моей прабабушки, половина которого позднее стала по наследству нашей дачей, казался тем местом, где всегда царит лето.
Дом имел два входа с противоположных сторон и состоял из анфилады небольших комнат. Мы, дети, любили пробежать дом насквозь, вылететь на заднее крыльцо и снова мчаться к главному входу. Так мы могли носиться бесконечно, но это не приветствовалось взрослыми и обычно пресекалось:
– Идите на улицу! Сколько можно бегать?!
Дом занимал не много места на участке, потому что вплотную примыкал к забору. Оставалась большая территория сада. Точнее, она делилась на два разных сада. Тот, который от калитки до главного входа, – более парадный, ухоженный, с утоптанными ровными дорожками и клумбами. Здесь росли те самые кусты малины и невысокие сливы, а чуть в стороне, у забора, виднелось несколько грядок с зеленью и клубникой. А еще – скамеечки, стол перед верандой, крупные маки и львиный зев. В те времена к прабабушке приезжало много родственников, и именно здесь взрослые вели разговоры, готовили и занимались другими делами.
Но имелся еще и второй сад. В него вела узкая тропинка, огибавшая главную веранду. А еще попасть туда можно было, пробежав комнаты, расположенные одна за другой, и оказавшись в противоположном конце на небольшой террасе, выходившей в совершенно другой сад.
Если посмотреть глазами взрослого, то увидишь участок, засаженный плодовыми деревьями и кустарниками. Но на детский взгляд здесь существовал иной, огромный и таинственный мир, такой привычный и знакомый, но в то же время до конца непостижимый.
Он состоял из нескольких уголков и имел два яруса: в нем мы играли не только на земле, но и на ветках деревьев. А еще он изменялся в зависимости от погоды и времени дня.

Одно только не менялось. В саду почти всегда царила прохлада, даже если вокруг стояла жара. Кроме плодовых деревьев, густую тень давали старые сосны, березы и громадина-ель, которые не только со всех сторон окружали дачу, но и росли прямо на участке. Непонятно, откуда плоды яблонь и вишен брали для себя солнышко, ведь в саду в любое время дня было темновато и зябко.
Самая прозрачная и звонкая прохлада обнаруживалась утром, когда немногочисленным бледным лучам удавалось пробиться сквозь ветки и открыть взгляду круглую полянку под сосной. Хотелось пробежать по темно-зеленой густой траве, поднявшейся за ночь, как будто бы по ней и не ходили накануне. Но мыски сандалий сразу становились мокрыми, потому что каждый стебелек нес влагу. В тенистом саду роса живет долго.
Днем тоже всегда было свежо. Казалось, лето здесь немного скупое, какое-то северное, сдержанное, и что оно такое везде. Но если покинуть сад и выйти в поселок или дойти до речки, то постепенно начинаешь чувствовать вокруг настоящую жару. И только тогда замечаешь свою нелепую одежду: на тебе шерстяная кофта и она почему-то плотно застегнута. Холодные кончики пальцев начинают согреваться. И вот ты сначала расстегиваешь кофту, потом снимаешь ее и ловишь сухой ветер. Быстро становится жарко, ты видишь выжженную траву вдоль дороги и беспощадное высокое солнце. Путь вдруг оказывается длинным, и хочется снова попасть в прохладный сад. А когда туда возвращаешься, понимаешь, что нет места отраднее.
Но если ты долго в саду, снова тянет накинуть кофточку или погреться в теплых лучах. Приходится в поисках солнца все время перемещаться по саду и передвигать стул, подстилку или раскладушку.
А в детстве есть еще вариант: залезть на дерево. Яблони, вишни и сливы очень старые. Никто особенно не утруждался правильным формированием крон. Только спиливали иногда сушняк и ставили подпорки под согнутые временем толстые ветки. Поэтому стволы деревьев постепенно становились замысловатыми и удобными для передвижения. Мы залезали на антоновку, чтобы посидеть на тройной развилке, потом осторожно проползали по длинной пологой ветке и, слегка коснувшись ногой поленницы дров, перебирались на старую вишню-владимирку, хватаясь за гибкий ствол, украшенный прозрачно-янтарной смолой. У вишни листьев не слишком много, они образуют кружевные розетки в конце каждого тоненького прутика. Поэтому здесь мало тени. И еще на вишне приятно пружинят основные, более прочные ветки, на которых безопасно стоять, дотягиваясь до ягод.

Самая вкусная вишня та, которую ешь прямо здесь – на дереве. В лучах солнца сразу видно, насколько она спелая, и выбираешь темную, по краям чуть прозрачную. Она мягкая и имеет терпкий винный привкус. Он потом усилится в сладкой настойке, которую обязательно будут делать во вместительных графинчиках, пересыпая вишню сахаром и угощая настойкой всех, в том числе детей. А сейчас это просто живая ягода. Она созрела, только что сорвана и поэтому уникальна. Она, к тому же, слегка припорошена мелкой беловатой пылью. Эта чуть пыльная теплая вишня всегда вкуснее такой же, но заранее собранной, промытой в проточной воде и разложенной по блюдечкам. Чистая ягода, конечно, блестит аппетитно, но самое главное смыла вода.
Что говорить о покупной вишне? Какой бы качественной она ни была, никогда не сравнится по вкусу с вишенкой прямо с ветки. Покупная вишня, полежавшая сутки, не похожа на настоящую.
Во взрослой жизни я никому не рассказывала о своем предвзятом отношении к этой ягоде, оно мне казалось блажью из детства, чем-то неважным. Просто никогда не покупаю вишню, равнодушно прохожу мимо нее на рынке. Этого не скажешь о черешне. Черешню покупать я очень люблю. И всегда жду, когда же она появится, ознаменует начало лета.
Однажды купила черешню и угощаю гостей – мою подругу и ее мужа-венгра. Этот венгр посмотрел на тарелку с прекрасной черешней и извинился. Говорит: я не ем покупную черешню. Не могу. Понимаете, я вырос на черешневом дереве, можно сказать, все детство на нем провел. И я, конечно, его прекрасно поняла!
Но вернемся в сад. К другим ягодам с дачного участка такого отношения, как к вишне, у меня нет. Я, конечно, ем и мытую клубнику, и мытую малину, иргу и смородину, и тоже люблю смотреть, как они растут на деревьях и кустах.
Я уже говорила, что сад моего детства выглядел довольно запущенным и не подчинялся законам садоводства. А все потому, что заполнялся он много лет без всякого плана. Кто-нибудь привозил то сливу, то сирень, то крыжовник. Сажали там, где находили кусочек свободной земли. А по мере роста растений кроны смыкались, и ярусы сада превращались в декорации фильма о дикой природе. Цветов здесь не сажали: цветы ведь любят свет, и поэтому сад походил на изумрудные заросли. Особенно это проявлялось, когда траву долго не косили. Густой малинник, сливаясь с травой, закрывал собой весь забор и соседские участки, касался нижних еловых веток.
Но когда траву скашивали, сад становился совсем другим. Оказывается, в нем множество разных кустов, а не просто буйство и переплетение зелени. Взгляд с непривычки озадаченно переходил с одного растения на другое. Я удивлялась: «Откуда они взялись?»
С тех пор я люблю слегка заросшие сады, естественные, таинственные и поэтичные. Они растворяют суету, приближая тебя к природе.
А природа – это еще и обитающие рядом живые существа. На даче, например, водилось множество птиц, привлеченных плодовыми деревьями и хвойной тенью. Это дятлы, сороки, сойки, дрозды, синицы, зяблики, трясогузки, малиновки.
Но и не только птицы. Например, ежи всех размеров. Они селились среди поленниц дров и полусгнивших бревен, сложенных у забора. Ежики выходили в сумерках, позволяли на себя посмотреть и даже погладить. Кроме того, под крыльцом жили довольно крупные узорчатые лягушки.

В лягушках мне особенно нравилось то, что мои тетушки их ужасно боялись. Гораздо позже я поняла, что это не шутка, и их охватывал самый настоящий ужас, от которого до неузнаваемости менялись черты лица, а позы и движения становились скованными и неестественными. Но в те детские годы, слыша внезапный визг взрослых женщин при виде маленькой лягушки, я думала, что это какая-то веселая игра.
Встречались на участке и муравейники с обитателями разных цветов: коричневыми, черными, красноватыми. Их почему-то никто не боялся. А еще, как и везде, было множество бабочек, майских жуков, стрекоз и улиток.
Ну и, конечно, соседские коты. Они составляли ценную и значительную часть дачной природы. Некоторые посещали нас летом ежедневно: то просто пересекали двор, следуя по своим делам, то сидели на заборе, наблюдая за всем происходящим, то подбирались поближе, выпрашивая что-нибудь вкусное.
Был такой кот у соседей – Барсик. Жил он не близко, в самом конце улицы. Летом часто гостил у нас. В дом он заходить не любил. И вообще считался уличным: прекрасно умел ловить птиц и мышей, а также любил подраться с другими котами, о чем свидетельствовал его всегда потрепанный вид. Ближе к вечеру, оставив все свои дела, он появлялся в нашем дворе. Мы, дети, радовались его приходу, старались успеть погладить, почесать за ушком. Кот позволял, но надолго около нас не задерживался. Слегка ссутулившись, немного вжав голову в плечи и полуприкрыв глаза, неторопливой, но уверенной походкой приближался к нашему крыльцу.
В это время бабушка, тоже закончив хлопоты, выходила в сад – посидеть на лавочке. Барсик подгадывал именно этот момент. Он сначала запрыгивал к ней на колени, немного осваивался – и, если она не возражала, залезал ей на плечи и, как милый домашний урчащий котик, подолгу спал эдаким воротником, свесив лапы и хвост. Нельзя было и подумать, что это совершенно чужой, лишь слегка прикормленный кот.
Вот такой была вся та живность, которая обитала у нас на даче. Существовала она сама по себе, как часть местности и была для меня привычным пейзажем, в котором я проводила каникулы. Прабабушка давно умерла и больше никто не жил в доме зимой. Мы и наши родственники гостили на даче только с июня по сентябрь. Поэтому и собственных питомцев в доме не могло быть. Ни собак, ни кошек. А именно их мне так не хватало.