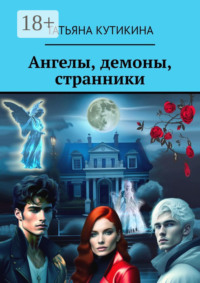Czytaj książkę: «Ангелы, демоны, странники»
Иллюстратор Татьяна Кутикина
© Татьяна Кутикина, 2023
© Татьяна Кутикина, иллюстрации, 2023
ISBN 978-5-0060-2703-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
1
Агаше Солнычёвой было четыре года, когда она впервые ощутила собственное «я».
– Я, – произнесла Агаша вслух, глядя на себя в зеркало и имея в виду: «Я – это я и никто другой. Конечно, есть другие люди: мама, папа, две бабушки, дедушка, девочки, мальчики, тети, дяди. Но они все – не я, а я – не они. Когда я разбила коленку, больно было мне и никому другому. Я никогда не стану ими, а они никогда не станут мною. Никто из них не сможет почувствовать меня изнутри меня самой. Ведь все они – снаружи, только я одна тут, внутри. Совсем одна».
– Я, – повторила Агаша более грустно и расплакалась, ощущая свое космическое одиночество, замурованность в собственном «я», абсолютную непреодолимость границ личности.
– Что случилось, котенок? – спросила мама, поднимая дочку на руки и прижимая к груди ее кудрявую головку.
– Ты! – резко выплеснула Агаша, почувствовав в маме близкое, родное существо.
За этим последовала новая мысль: «Наверно, другие люди для себя – то же, что я для себя. Каждый для себя – я».
Агаша соскочила с маминых рук и радостная побежала по комнате. Она смеялась от восторга, обнаружив вокруг такое множество миров. Ликовала оттого, что все вокруг – живые, и сама она – живая. Ведь жизнь так прекрасна!
Чтобы ощутить собственную значимость, Агаше вовсе не требовалось возвышаться над кем-то. Значимым было уже то, что у нее, девочки Агаши, есть свое «я».
Значимым было и «я» другого, которое для нее называлось добрым словом «ты». «Ты» нельзя было сказать столу или шкафу, а только кому-то живому. И это «ты» открывало для маленькой Агнии живые миры других.
2
Алику Луньеву было двадцать, когда он впервые спросил себя: кто я?
Прежде он никогда не задавал себе подобных вопросов. С детства Алик привык слышать от матери, что он самый умный, самый талантливый, самый красивый, и что его ждет самое блестящее будущее. Все это до поры до времени казалось соответствующим реальности.
Но по мере взросления обнаружилось, что никаких блестящих перспектив перед Аликом не открывалось. С горем пополам он получал образование, которое вероятнее всего окажется невостребованным.
«Допустим, я студент, – начал Алик свои рассуждения. – Следует признаться, весьма посредственный, нахватавший «хвостов». Допустим, красавец-сердцеед, в которого влюблены девчонки со всего курса. Впрочем, таких местных донжуанов хватает повсюду. Ну, сочиняю на досуге стихи. Да что с того? Если быть честным перед собой, получается: я – никто. Не Наполеон, не Цезарь и даже не кинозвезда и не миллиардер. Всего лишь – Алик Луньев. Ну, о чем может говорить это имя? Решительно ни о чем. Вот если б я был знаменит или богат… А лучше, и то, и другое сразу… Вот тогда и имя бы мое зазвучало. Тогда бы я был уже «кто-то».
3
– Нииз-зя-аа на цветы ногой! – закричала подбежавшая маленькая девочка. – Они з-зывые!
Размечтавшись, Алик и сам не заметил, как уронил букет сорванных на клумбе тюльпанов, который нес очередной подружке. Да к тому же нечаянно наступил на этот миниатюрный букет своим остроносым ботинком.
Три упавших на асфальт ярких цветка привлекли внимание ребенка, делавшего в сквере первые шаги под наблюдением сидевшей на скамейке матери. Маленькие ручонки попытались отодвинуть большую ногу, чуть не раздавившую нежные цветы.
Услыхав детский крик, Алик отпрянул, не понимая, в чем дело. Он не любил детей и всегда пугался их криков.
Маленькая веснушчатая девчушка подняла своими пухлыми розовыми ручонками с асфальта три тюльпана. Один был крупным, с темно-бордовыми бархатными лепестками, похожим на аристократа в трауре; второй – бледно-сиреневым и до прозрачности нежным, прекрасным какой-то утонченной до уродства красотой, на тоненьком, хилом, искривленном стебельке; а третий – ярко-алым бутоном на крепком стебле.
Девочка прижала к груди все три смятых тюльпана и уже не желала расставаться ни с одним из них.
* * *
Агния Солнычева только училась любить и, конечно же, не знала, кого полюбит, став взрослой.
Спустя несколько лет никто в семье уже не помнил, откуда в доме появились три засушенных тюльпана, хранившиеся среди детских игрушек.
Глава 1
Тайны старого дома
У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, нечисто.
Николай Лесков. Привидение в инженерном замке
Пусть привидение идет вместе с мебелью.
Оскар Уайльд. Кентервильское привидение
1
На берегу живописной темноводной реки Зельевки раскинулся старинный городок Золовск. Город этот не просто необычайно красив, он весь словно пропитан чудесами. Если вам вздумается прогуляться по самой древней его части, вы ощутите себя в прекраснейшей из сказок. С узорчатых фасадов домов на вас посмотрят райские птицы с женскими головами – Сирины и Алконосты, с резных наличников улыбнутся красавицы с рыбьими хвостами, тут же будут красоваться диковинные цветы и готовые взлететь крылатые звери, а на всем этом деревянном кружеве – играть радостные лучи солнца. И вам покажется, что даже солнце в Золовске светит по-особому радостно. А в фонтане на городской площади вы непременно увидите радугу.
История Золовска овеяна многими легендами и уходит в глубь веков. Говорят, что деревянный город существовал здесь даже в самые, что ни на есть, стародавние времена, когда по дорогам еще разъезжали былинные богатыри, а в лесах можно было запросто встретить избушку на курьих ножках. Но мы пока не станем углубляться в такую уж темную древность. Отложим до времени истории об обитавших некогда в этих краях леших и русалках, о пролетавшем над городом Змее Горыныче и о посещавшей Золовск Царь-Девице.
Ведь все эти сказания меркнут перед главной легендой города. Все они остаются лишь красивыми сказками, в которые можно верить, а можно и нет. В данном же случае мистика вторгается в саму городскую жизнь, в судьбы горожан. И вторгается отнюдь не светлым волшебством, а так, что от одних рассказов мурашки бегут по коже.
2
Есть в Золовске место, попадая в которое, словно покидаешь светлую сказку и оказываешься в иной, инфернальной реальности. И Золовск предстает уже не сказочным, а колдовским. Это – улица Сумрачная, появившаяся на карте города в XVIII-м веке.
Сумрачная всегда оправдывала свое название. С самого ее основания вдоль нее стояли вековые дубы, заслоняя сучковатыми ветвями солнце. Оттого здесь царил сумрак даже в середине дня.
Хотя теперь половина дубов срублена, света от этого не прибавилось. Почему-то над Сумрачной ежедневно нависают облака.
Зато по ночам луна своим мертвенным светом освещает эту улицу особенно ярко. В полнолуние она кажется здесь такой огромной и пугающе-магической, как нигде более. Луна всегда низко стоит над Сумрачной и словно заглядывает в самую душу редким ночным прохожим. Тогда все, залитые серебристым мерцанием дома, деревья, фонарные столбы словно утрачивают собственное существование, и становятся обрамлением портрета луны.
Жилых домов и магазинов на этой улице нет. По одну сторону чернеет мрачный, заросший крапивой и полынью, пустырь. По другую – на пол улицы растянулся глухой забор. За ним много лет назад началось какое-то строительство, но давным-давно остановилось и больше не возобновлялось. От стройки веет не меньшей заброшенностью, чем от пустыря. Далее следует несколько унылых покосившихся домишек с низкими дверями и вросшими в землю оконцами. Здесь ютятся какие-то никому не интересные учреждения. Самым известным среди них является, пожалуй, похоронная контора.
Вдоль улицы стоят старые витиеватой формы фонарные столбы с облезлой позолотой. Вечерами здесь зажигаются тусклые огни. В эти часы особенно остро ощущение тяжелого дурного сна, от которого хочется, но не удается проснуться. Если бы в такой момент из-за какой-нибудь крыши появилась летящая на метле старуха, никто бы наверно не удивился.
Улица Сумрачная в числе нескольких других соединяет Торговую площадь с набережной Зельевки. Но здравомыслящие пешеходы предпочитают ходить по соседним улицам. Каждый, просто ступив на Сумрачную, начинает испытывать здесь безотчетный страх.
Впрочем, именно этого мистического страха кое-кто и жаждет. Любителей таинственного тянет на Сумрачную, словно магнитом.
С этой улицей и связана самая зловещая легенда Золовска. Именно за ее подробностями в течение двух веков едут сюда многочисленные туристы. И эти подробности с удовольствием рассказывают золовские старожилы.
3
Не одна лишь мрачная атмосфера заброшенности создала улице Сумрачной недобрую славу. Главной достопримечательностью здесь является двухэтажный дом с мезонином и четырьмя белыми колоннами. Он одиноко возвышается над окружающим запустением.
Долгие годы двухэтажный дом с колоннами считался самым роскошным не только на Сумрачной, но и во всем Золовске. Сколько помнили старожилы, дом всегда был выкрашен в таинственный фиолетовый цвет. А на фиолетовом фоне выделялись иссиня-белые, как снег в лунную ночь, колонны и украшения.
За два столетия дом, конечно, изрядно обветшал, но не утратил своего мрачного величия. Над арочными окнами все еще красовались впитавшие пыль веков злобные звериные морды. По всему фасаду были разбросаны остатки когда-то многочисленных причудливых завитушек. Ограждавший дом металлический забор с острыми зубьями, как и века назад, выглядел устрашающе. В орнаменте литых чугунных ворот при желании можно было различить не только герб бывших владельцев, но и различные магические знаки. А два грозно оскаливших клыки каменных льва, стоящие у парадного входа, словно приглашали в страшную сказку.
Этот дом, воплощавший в себе некогда смешение архитектурных стилей классицизма и барокко, был построен в середине XVIII-го столетия. Поэтому нам сейчас предстоит погрузиться не в былинную старину, а в атмосферу галантного века. Тогда все древние сказки уже начинали забываться. Просвещенная публика сбрила бороды, облачилась в модные камзолы и надела на свои просвещенные головы напудренные парики. Все, услышанное в детстве от нянюшек, она считала полнейшим вздором. Своим детям эта публика рассказывала уже другие, считавшиеся более аристократическими, сказки. Русалок в них заменили нимфы, леших – сатиры, а Бабу-Ягу – владычица мрака Геката1.
Однако Золовские земли во все века рождали собственные легенды, так уж они были устроены. Не мог этот насквозь пропитанный мистикой город обходиться без собственных, доморощенных сказок.
Так случилось, что именно в XVIII-м столетии произошла история, особенно прославившая Золовск. И произошла она в этом самом доме. Она-то и привлекала сюда многочисленных любителей таинственного.
4
Первоначально дом на Сумрачной принадлежал неким князьям Сугубовым, чья история неотрывна от истории города. Затем, в первой половине ХХ-го века, в здании располагались различные конторы. А к середине века очень кстати был устроен музей. Он-то и являлся главной целью всех приезжающих в Золовск. Он и оживлял эту почти мертвую улицу.
Конечно, сотрудники музея рассказывали своим посетителям в основном о дворянском быте и нравах прежних веков, об истории города и рода Сугубовых, об архитектурных и интерьерных стилях. Но они делали очень пространные намеки на главную ценность этого музея. Ведь все многочисленные туристы съезжались сюда вовсе не ради красоты старого княжеского дома. Хотя все здесь, начиная с парадных портретов в золоченых рамах и до последней завитушки на стене, дышало волшебством.
В первую очередь княжеский дом был значим своим таинственным обитателем, присутствовавшем здесь незримо. Вернее, не всегда зримо.
Музейным работникам как-то удалось с ним договориться об относительно мирном сосуществовании. Однако это таинственное существо постоянно давало знать о своем присутствии то шорохами, то скрипом половиц, то упавшим стулом, то дрожащей без всякой видимой причины фарфоровой вазой, то необъяснимо переставленными за ночь предметами.
Каждый посетитель музея с надеждой и содроганием ожидал хотя бы мимолетной встречи с мистическим существом. Мечтал увидеть его хоть издали в оконном проеме или в сгустившихся по углам тенях. Или хотя бы услышать его шаги.
При этом каждый знал, что такая встреча не предвещает ничего доброго. Ведь таинственным обитателем этого старого дома было, не много не мало, как самое настоящее, до сих пор «живое», если здесь уместно это слово, привидение.
Слухи о нем не ослабевали в течение нескольких веков, и золовчане охотно поддерживали их. Каждый горожанин мог поведать о том, как какой-нибудь сосед его двоюродной тетки или троюродный брат его приятеля наблюдал привидение собственными глазами. Говорили, что каждый такой «счастливчик» несколько дней после случившегося молчал и ходил, как зачарованный. А после говорил, что навеки очарован неземной красотой.
Ведь данное привидение отражало в себе всю прелесть галантного века. Это была не какая-нибудь там Баба-Яга-костяная-нога, а изящная полупрозрачная дама в пышном платье, бродившая по старому княжескому дому. Иной раз она показывалась в белом напудренном парике, иной раз – в шляпе с вуалью. Неизменно дама была аристократически бледной и ослепительно красивой.
Кое-кому даже удавалось разглядеть кровавое пятно на ее виске – след револьверного выстрела. Но это оказывалось возможным лишь в тех случаях, когда призрачная дама выглядывала из старых музейных зеркал.
А издали в лунные ночи можно было видеть лишь белую тень, неприкаянно бродящую вокруг княжеского дома.
Но чаще ночные музейные сторожа слышали лишь стук острых каблучков на лестницах, или печальные вздохи в комнатах второго этажа. Тогда они от греха подальше крепче запирали свою коморку.
Все жители города знали, что приведением стал ни кто иной, как юная княжна Глафира Сугубова, застрелившаяся в этом самом доме, который когда-то принадлежал ее семье. Причина самоубийства осталась неизвестной.
Вот тут и вступало в силу творческое начало золовского народа. Каких только историй не доводилось услышать от горожан. Рассказывали и о неразделенной любви, и о вынужденной разлуке страстно влюбленных, и о всяческих любовных треугольниках и квадратах.
И только редкие старухи говорили, что очень рассердила княжна Глафира местных русалок, и за это отняли они у нее покой. Да, настолько отняли, что сама жизнь стала княжне не мила. И до сих пор не находит Глафира покоя, ведь не примирилась она еще с русалочьим родом.
Таким образом, легенды XVIII-го века переплелись с самыми древними, от которых в Золовске было не уйти. Ведь, говорят, земли в окрестностях этого города испокон веков считались русалочьими.
Глава 2
Лунная дама и ее рыцарь
Зашевелились силы колдовства
И прославляют бледную Гекату.
Вильям Шекспир. Макбет
– Очевидно, вы еще ни разу не говорили с привидениями. Разве от них дождешься вразумительного ответа! Все только вокруг да около.
Франц Кафка. Тоска
1
Золовск пережил многие смутные времена, не утрачивая своего сказочного ореола. Пережил петровские реформы, войны, революции.
Но вот настали совсем уж новые времена. К концу ХХ-го века начали забываться и самые древние, и более поздние сказания. Все рушилось, приходило в запустение.
Даже исторический центр города уже не казался светлой сказкой. Резные терема ветшали, сносились, превращались в большие свалки мусора или завешивались яркими вывесками коммерческих магазинов.
Но знаменитый дом с привидением продолжал сохранять мрачное величие. Впрочем, он обветшал до такой степени, что сделался почти развалинами.
В 90-е годы до него, как и до других архитектурных памятников, никому не было дела. Музей закрылся. Кроме призрачной княжны в этих стенах могла теперь находить себе приют лишь стая ворон.
О привидении, конечно, помнили. Но назвать его по имени смог бы уже далеко не каждый. Трагедия жившей двести лет назад княжны отходила на второй план перед насущными проблемами.
Главным предметом разговоров было теперь не потрясшее город в далеком XVIII-м столетии самоубийство юной красавицы, а недавняя бандитская разборка с перестрелкой и несколькими трупами.
Впрочем, произошла она в ночь полнолуния как раз напротив полуразвалившегося княжеского дома. Так что кое-кто стал связывать эту ночную перестрелку с мистикой этого места.
Таким образом, в конце ХХ-го века старый дом начал обрастать новыми легендами.
2
Самой известной среди новых легенд старого дома была история об одном непутевом чудаковатом студенте. Однажды – опять же в ночь полнолуния – этот юноша, находясь в изрядном подпитии, увидел у развалин княжеского дома таинственную женщину в белом платье старинного покроя. И не просто увидел, а беседовал с ней. Содержания разговора он, впрочем, не мог передать. Запомнил лишь имя «Геката», которым назвалась призрачная дама. Рассказывал также об ее обжигающем поцелуе. Но в это уж совсем никто не мог поверить. Разве после поцелуя привидения возвращаются живыми?
Впрочем, главным в данной истории был не разговор и даже не поцелуй, а то, что призрачная дама взяла студента за руку своей ледяной рукой и увела под своды княжеского дома. И юноша побывал вовсе не среди развалин, а на блестящем балу. Он ясно помнил роскошное, в стиле барокко убранство огромного зала, мог описать великолепные люстры со множеством свечей и каждый позолоченный канделябр. Помнил оркестр на балконе, нарядных лакеев, разносящих напитки и сладости, большие зеркала в позолоченных рамах, отражающие колеблющееся пламя. Он видел расшитые золотом и увешанные царскими орденами камзолы мужчин, испещренные жемчугами и драгоценными каменьями женские туалеты, юбки с широкими фижмами, напудренные парики, каблучки, стучащие по паркету, ажурные веера в тонких, унизанных перстнями пальцах. И все это вихрем неслось вокруг него.
Юноша и сам не заметил, как оказался втянутым в этот вихрь. В круженье танца он пронесся мимо зеркала, мельком взглянул в него и увидел красивого молодого господина в темно-вишневом атласном камзоле, подчеркивающем линии стройной фигуры, и коротких брюках-кюлотах. Из рукавов выглядывали кружевные манжеты, на груди красовалось пышное кружевное жабо с большой рубиновой брошью. А волосы светского красавца прикрывал белый напудренный парик. Студент не сразу узнал себя. Неужели это – его отражение? Желая удостовериться, он посмотрел на свои ноги и увидел белые шелковые чулки и туфли с золотыми пряжками.
Неожиданная причастность к волшебному миру взбодрила юношу. Он оказался совершенно не чужим этому аристократическому обществу. Его присутствие никого не удивляло. Все вокруг дружески улыбались ему.
Никогда прежде не обучаясь бальным танцам, студент начал кружиться по залу с прекрасной княжной и не мог оторвать взгляда от ее миндалевидных темно-фиолетовых глаз. Лицо княжны было осыпано таким густым слоем ослепительно-белой пудры, что казалось похожим на страшную и прекрасную маску. Оно ничего не выражало кроме величия. Черты его были абсолютно правильными, словно у снежной королевы. Бальное платье княжны, скроенное по моде XVIII-го века, со множеством оборок, рюш, бантов было абсолютно белым, словно подвенечное или саван. А ее руки в белых кружевных перчатках на протяжении всего вечера оставались ледяными.
3
Юноша не помнил, как ушел из этого дома. В качестве последствия той встречи показывал листок бумаги, на котором его почерком было записано стихотворение, начинавшееся так:
При загадочной мерцающей луне
Девы лик – Гекаты иль Глафиры —
Я увидел в зыбкой полутьме,
И тогда моя запела лира…
Далее, совершенно в духе галантного века, следовали слова о навеки разбитом сердце. Два четверостишия были посвящены Купидону и его стрелам, одно – поэтической грусти, навеянной лунным мерцанием. Затем снова шли объяснения своему предмету в любви, уверения в том, что эта любовь – вечна, и что Геката – идеал женщины. Себя поэт именовал ее верным рыцарем.
Следует отметить, что воспеваемая в стихах таинственная дама была лишь один раз названа Глафирой и пять раз Гекатой. При этом не мешает вспомнить, что юноша прежде не знал имени княжны-самоубийцы и ничего не слышал о злобной античной богине лунного света и колдовства. А еще он никогда не изъяснялся таким высоким стилем.
На следующий же день небольшая поэма была с гордостью прочитана всем родственникам, друзьям и подругам. Хотя многим из слушателей стихи показались несколько старомодными, все признали их красивыми. А их автор с того дня начал считать себя гениальным поэтом, поцелованным Гекатой.
Он решил взять соответствующий псевдоним. Ломать над этим голову не пришлось. Юношу звали Альбертом Луньевым. Недолго думая, он переименовал себя в Лунного, что на его взгляд звучало намного поэтичнее.
Теперь разглядывая в зеркале свое красивое, но не слишком мужественное лицо с черными бровями и большими темно-голубыми глазами, обрамленными такими длинными ресницами, что им завидовали многие девушки, Альберт видел не простого смертного, а избранника богини Гекаты.
«Да я же непризнанный гений и последний аристократ Золовска! – сказал себе Алик. – Мне, вообще, следовало родиться не в этом веке. – Он гордо вскинул голову и улыбнулся своему отражению. – А что? Звучало бы не дурно: его сиятельство князь Альберт Лунный, владелец усадьбы на Сумрачной и нескольких крупных имений».
После бала в княжеском доме Альберт действительно изменился. В осанке его с той ночи появилась особая величавость. Сами собой развились аристократические манеры. На всех вокруг юный студент стал вдруг смотреть, как повелитель на подданных. Он не поленился основательно изучить историю рода князей Сугубовых. В какой-то момент он начал вдруг считать себя их наследником.
С той поры Алик стал еще больше очаровывать девушек. Гордый взгляд и ореол таинственности делали его еще притягательнее для сокурсниц.
Внимание противоположного пола нравилось честолюбивому Альберту. Поклонение лунной даме нисколько не мешало ему часто влюбляться, иной раз даже в нескольких девушек одновременно. Алик слышал, что все великие поэты были ловеласами, и старался не отставать. Страсти в сердце кипели теперь жарче. Их подогревала главная страсть.