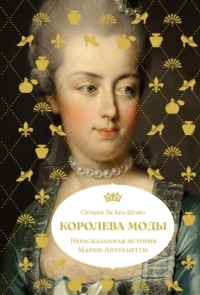Czytaj książkę: «Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты»
Sylvie Le Bras-Chauvot
MARIE-ANTOINETTE L’AFFRANCHIE
Portrait inédit d’une icône de mode
© Armand Colin, 2020 Armand Colin est une marque de Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
© Козак И. В., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®
⁂



Спасибо дорогому мужу и нашим детям за горячую поддержку при написании этой книги.
Спасибо Селин и Моник, моим первым читательницам, которые узнáют себя.
Спасибо Жюльену Беру, Стефану Берну, Симоне Бертьер, Патриции Бушено-Дешен и Мишель Лорен за доброжелательность.
Спасибо мадам Катрин Пегар, управляющей Версальским дворцом, за любезность.
И, наконец, спасибо издательствам Armand Colin и Corinne Ergasse за доверие
Предисловие
Предрассудки – разум глупцов.
Вольтер
Королева другого времени, женщина своей эпохи – так можно охарактеризовать Марию-Антуанетту.
Как и все французские королевы до нее, эрцгерцогиня Мария-Антония фон Габсбург-Лотарингская прибыла в самое прекрасное королевство Европы издалека, но на этот раз по ряду политических причин ее встретили с неодобрением. Ее судьба была предопределена: укрепить союз между Францией и Австрией, строго следовать версальским традициям и даровать наследников будущему Людовику XVI.
Для дочери императрицы однажды стать королевой в стране, где господствует салический закон1, – парадоксальная перспектива. Ее единственным проявлением власти было рожать детей, а единственной обязанностью – блистать самой и подчеркивать блеск привилегированных придворных, став их заложницей. Суровой школой был этот Версальский дворец, с навязанным другой эпохой этикетом, кардинально отличающимся от венского. И странным супругом оказался этот мрачный дофин, которого она старалась приручить днем, не завоевывая ночью. Будучи предметом любопытства и злословия, дофина обладала природным обаянием, наивной живостью, непосредственными манерами, которые внезапно расшевелили королевский двор, тонувший в рутине. Первая «революция» в Версале была желанной для тех, кто смотрел в будущее, и тревожила других, кто видел в «австриячке» лишь инструмент для удовлетворения своих сиюминутных амбиций.
В 18 лет она стала королевой Франции, наконец-то получив свободу играть на версальской сцене главную роль, теперь принадлежавшую ей. Не родив наследников, тем не менее она с благословения короля-супруга стала самой ослепительной… и самой непокорной из всех королев. Отстраненная от власти системой, в которой правили мужчины, она проявляла себя по-своему, совершенно не задумываясь, сколько она создает поводов для клеветы. Сегодня ее поступки кажутся легкомысленными, но в то время таковыми не были: не стоит забывать, что версальская придворная жизнь с ее декором, актерами, ритуалами и доведенными до абсурда протоколами была неприступной крепостью. Как королева, она произвела революцию в этикете, созданном по лекалам «короля-солнца» в предыдущем столетии; как женщина, она модернизировала его внешние проявления, тесно связанные с жесткими предписаниями в одежде. Чуждая лицемерия, она очаровывала тех, кто был готов ее принять, собирала вокруг себя избранный круг, но отстраняла тех, кого считала враждебно настроенными. Своей юной беззаботностью она настроила против себя консерваторов и так запросто нажила врагов. В самом Версале репутация Марии-Антуанетты оказалась подорвана, кульминацией и точкой невозврата чего стало разрушительное «дело об ожерелье».
Желание изменений, свойственное всем молодым женщинам ее эпохи, ей, дофине, было категорически невозможно удовлетворить, и Мария-Антуанетта восприняла моду как единственный способ личного самовыражения. Если уж было необходимо постоянно находиться на виду, она решила объединить обязанности с удовольствием самой выбирать свои наряды и окружение. «Кто любит меня, тот следует за мной», словно говорила она, блистая головокружительными прическами с развевающимися перьями и поразительными нарядами, в которых ее увековечила упрощенная легенда. Она стала образцом для подражания для всей Европы – от Англии и Скандинавии до дальних уголков Российской империи. Ее наряды отметили сначала при дворе, а затем и в городе, когда, устав быть роскошной «фарфоровой вазой», она радикально изменила свой гардероб, чем вызвала настоящий скандал. «Я на сцене, так пусть меня либо освистывают, либо встречают овациями», – говорила она, позаимствовав фразу у мадам де Ментенон.
В Трианоне, куда она приходила без церемоний в простой белой одежде и с естественно уложенными волосами, она словно говорила: «Не следуйте за мной, дайте мне просто жить», – но за ней все равно продолжали идти. Это место стало для нее убежищем от гнетущего Версаля, столь любимым, уединенным, где она жила частной жизнью в окружении семьи и избранных близких людей и могла помечтать. Трианон олицетворял последнюю каплю в океане вековых традиций, которые пошатнула королева, позволявшая себе беспрецедентные вольности. Именно в этот потаенный сад, где она чувствовала себя в безопасности, за ней пришли в октябре 1789 года, чтобы вернуть ее в Версаль и обрушить на нее народный гнев. А затем наступило время Парижа со всеми его перипетиями – три года, наполненные надеждами и страхами. Сначала ее с радостью встречали в Тюильри парижанки, выпрашивавшие цветы и ленты с ее шляпы, пока парижане удивлялись ее достоинству, простоте и заботе о детях. Затем ее освистывали, втаптывали в грязь, лишали человеческого облика – так продолжалось до самого последнего акта трагедии, в котором ее смерть превратили в представление, увековечив ее образ в розово-черных тонах.
Из добрых побуждений или не слишком некоторые из ее современников позднее взялись за перо, пытаясь оправдать ее ошибки; при этом они все равно, пусть и косвенно, ее осуждали. В конце XIX века авторы вновь бросились на защиту несчастной жертвы исторических потрясений, пытаясь найти виноватых. Они имели благие намерения, но неизменно смотрели на нее с присущей их времени мужской точки зрения. Естественно, речь шла о ее фаворитах, но особенно о тех, кто отвечал за ее новшества в одежде, которые тогда воспринимались как чисто женские капризы. Они обратились к неудобной теме расходов на гардероб. Ограничившись изучением бухгалтерских документов, они без труда нашли идеальную виновницу – мадемуазель Бертен, ее модистку. Дело «о тряпках» было закрыто на долгие годы.
Появились столь же искренние, но не более убедительные психологические теории на эту же тему, связывающие ее избыточное «рвение к модным новинкам» с отсутствием «рвения» в браке. В этот раз вина легла на «толстого Людовика» – который, к слову, все еще оставался весьма стройным, – неспособного удовлетворить свою очаровательную супругу, хотя она сама не слишком стремилась к ночным утехам. На первый взгляд эта теория не лишена логики, ведь рождение их дочери действительно ознаменовало резкий поворот в стилистических предпочтениях Марии-Антуанетты. Однако тут кроется загвоздка, так как именно с этого момента в ее гардеробе появились самые дерзкие и провокационные решения, которые вызывали гораздо более бурные страсти и споры, чем эффектные платья, которые она носила, только став королевой.
Сегодня пришли к общему мнению, что, какими бы дорогими ни были ее наряды, они не привели Францию к разорению, однако в коллективном сознании все же сохраняется отголосок представления о них как о смертном грехе. Именно поэтому мне показалось важным вновь обратиться к этой культовой теме, посмотрев на нее свежим взглядом и оставив в стороне идолов прошлого.
Как журналистка, пишущая о моде, я никогда не соглашалась с устоявшимися стереотипами, которые сводят гардероб королевы к банальному нагромождению бессмысленных тряпок. Это означало бы отрицать социальное значение внешнего облика, столь выразительно проявлявшееся в XVIII веке. И если только не считать, что одежда служит исключительно для защиты от холода или жары, выбор того или иного наряда – это акт, раскрывающий как личность индивида, так и общество в целом. Нравится нам это или нет, мода и антимода – это языки, на которых говорили во все времена и во всех культурах.
Я также всегда отвергала устоявшийся стереотип о легкомысленной королеве, которой якобы управляла корыстная модистка. Как можно поверить, что молодая женщина, столь непокорная во всех аспектах жизни, могла позволить кому-либо манипулировать в столь важной для нее области, как выбор одежды? Ряд факторов заставил меня усомниться в этой версии, и я решила изучить этот вопрос, не стремясь снять с Марии-Антуанетты ответственность за ее необычный гардероб, но скорее пытаясь понять причины этого явления и его последствия.
Сначала я привела события в хронологический порядок, учитывая личность девочки-подростка, прибывшей во Францию в 14 с половиной лет, четырехлетний период в качестве дофины, статус королевы, а также ее стремления как женщины. Я разложила на рабочем столе гигантский пазл, состоявший из богатой иконографии 1770–1793 годов, сохранившихся архивных источников, переписки и мемуаров современников, как французов, так и иностранцев, независимо от их отношения к королеве. Некоторые свидетельства настолько запутанны, что их приходится читать между строк, сопоставлять друг с другом, чтобы уловить их суть, а также те аспекты, о которых умалчивается. Короче говоря, необходимо было тщательно расшифровать сложный пласт информации, зачастую противоречивой и многослойной.
Чтобы объяснить, почему нововведения Марии-Антуанетты как принесли ей ошеломляющий успех, так и навлекли на нее жестокую критику, я рассмотрела их в общем историческом контексте, не забывая об экономических аспектах текстильной индустрии, переживавшей в то время значительные преобразования, а также об изменениях в укладе гильдий и индустрии роскоши, произошедших при Людовике XVI. Я «пропустила» гардероб королевы через призму его стилистических трансформаций – от протокола придворного костюма до платья-сорочки – с учетом менталитета того времени. Поэтому я не стану говорить о «костюмах эпохи», но расскажу о нарядах, которые выбирала сама королева и которые носили живые женщины в стране, колебавшейся между эволюцией и консерватизмом.
И хотя в центре повествования находится Мария-Антуанетта, ее современницы также фигурируют здесь во всем разнообразии. Наконец, я не считаю, что революция внешнего вида, начатая свергнутой королевой, внезапно прекратилась с ее уходом, как это часто представляется. Поэтому я исследую ее продолжение, включая отголоски, проявившиеся десятилетиями позже.
Поскольку «маленькая история» платьев Марии-Антуанетты тесно связана с ее личностью и неотделима от «большой истории» Франции, я приглашаю вас пройти с ней путь от Вены до гильотины, следуя за изменениями ее гардероба. Ведь, как замечательно резюмировала фраза, приписываемая мадемуазель Бертен и прекрасно описывающая моду в целом (и этот рассказ в частности): «Новое – это хорошо забытое старое».
1 Судьба эрцгерцогини
Моя дочь, в беде вспомните обо мне.
Мемуары Вебера, молочного брата Марии-Антуанетты
Краткие портреты семей
Мария-Антуанетта, дочь Ее Императорского и Королевского Величества Марии-Терезии Габсбургской и Франца Стефана Лотарингского, императора Священной Римской империи, родилась 2 ноября 1755 года в венском дворце Хофбург. При крещении она получила имя Мария-Антония-Йозефа-Иоганна, однако дома в Австрии ее называли просто Антуаной. Ее мать вышла замуж по любви, что было необычно для того времени, с супругом они создали гармоничный союз, в котором Мария-Терезия, обладавшая твердым характером и умом, выполняла руководящую роль в управлении государственными делами.
Покончив со своими обязанностями (выполняемыми блистательно), императорская семья возвращалась к частной жизни, не вызывавшей никаких подозрений. Подобно добропорядочным буржуа (хотя говорили, что у императора было несколько любовниц), Мария-Терезия и Франц Стефан спали вместе в одной постели, что в Версале было бы совершенно немыслимо и даже смехотворно. У них было 16 детей (5 мальчиков и 11 девочек), из которых до совершеннолетия дожили 10.
Императорская чета
Мария-Терезия Габсбургская, эрцгерцогиня Австрийская, королева Венгрии и Богемии, родилась в 1717 году. Она унаследовала австрийские земли Священной Римской империи после смерти своего отца, императора Карла VI, не оставившего наследника мужского пола. В 1736 году Мария-Терезия вышла замуж за Франца Стефана Лотарингского, родившегося в Нанси в 1708-м, с которым была знакома с юности. Его отец даровал ему титул герцога Тосканского. Хотя в 1745 году Франц Стефан стал императором Священной Римской империи, реальной власти он не имел. Он внезапно скончался в возрасте 57 лет во дворце в Инсбруке.
Марии-Антуанетте не исполнилось еще и десяти лет, когда она потеряла любящего отца. Он, вероятно, с неохотой уступил бы французскому принцу свое дитя (восьмую, младшую дочь и предпоследнего ребенка в этой многочисленной семье), как когда-то уступил свое герцогство под давлением Людовика XV, к которому он испытывал глубокую затаенную обиду. Овдовев в 1765 году, суровая императрица так и не оправилась от утраты мужа, которому оставалась верна и по которому носила траур до конца жизни.
В 1756 году, когда будущей Марии-Антуанетте было всего шесть месяцев, Франция и Австрия подписали союзный договор, положивший конец трехвековым конфликтам между двумя странами. Для укрепления этого союза время от времени обсуждался вопрос о династическом браке, но серьезно к нему обратились лишь после преждевременной смерти дофина Людовика Фердинанда, единственного сына Людовика XV и покойной королевы Марии Лещинской. Мария-Жозефа Саксонская, чье глубоко укоренившееся недоверие к дому Габсбургов мешало заключению союза, вскоре после смерти мужа также ушла из жизни, и препятствий для заключения соглашения больше не было. У супругов осталось трое сыновей, и старший из них, Людовик Август, в возрасте 11 лет стал новым дофином Франции.
Дед и бабушка дофина
Людовик XV, правнук и единственный выживший наследник Людовика XIV, стал королем Франции в возрасте пяти лет в 1715 году под регентством герцога Орлеанского. Чтобы обеспечить продолжение рода, в возрасте 15 лет он вступил в брак с польской принцессой, которая была старше его на семь лет. Мария Лещинская была дочерью Станислава I Лещинского, который сменил отца Марии-Антуанетты в герцогстве Лотарингия (после его смерти оно перешло во владение Франции). За 10 лет супружеской жизни королева произвела на свет 10 детей (8 дочерей и 2 сыновей), но только один из них, отец Людовика XVI, дожил до зрелого возраста. После 43 лет жизни в Версале Мария Лещинская скончалась в июне 1768 года в возрасте 65 лет, за 2 года до прибытия Марии-Антуанетты во Францию.
Этот новый альянс устраивал Марию-Терезию, так как новый наследник трона был ровесником ее младшей дочери, и она немедленно предложила ту в качестве невесты Бурбонам. Для стареющего Людовика XV, который правил более 50 лет, наступил момент задуматься о браке своего преемника. Дети были одного возраста, что не могло не радовать, ведь это предвещало долгие годы правления и множество потомков. После затяжных и сложных дипломатических маневров, несмотря на сильный скептицизм с французской стороны, в 1769 году брачный договор был подписан. Как мать, Мария-Терезия имела все основания гордиться тем, что одна из ее дочерей станет королевой Франции, а как правительница – получила возможность следить за делами своего политического союзника. Если сегодня такие браки кажутся сомнительными, то в то время они были нормой, и императрица не составляла исключение. Выводок ее дочерей был потенциальным резервом для династических союзов в Европе, и она старалась, следуя старинной традиции, устроить их продуманно. Только одна ее дочь, эрцгерцогиня Мария-Кристина, сумела выйти замуж за мужчину, которого выбрала сама. Таким образом, принцессы, как фигуры на международной шахматной доске, служили интересам своей родной страны, не задаваясь лишними вопросами. Мезальянсы были недопустимы, а при отсутствии достойных брачных перспектив девушек могли сослать в монастырь. Редко, как в случае с дочерями Людовика XV, которых мы вскоре встретим, старых дев, избалованных, но бесполезных, оставляли «дома». С раннего возраста они воспитывались с учетом этой возможной сделки, о которой зачастую договаривались еще в их детстве. Естественно, что они росли с мыслью о том, чтобы выйти замуж за принца, если не прекрасного, то хотя бы обладавшего наиболее прославленной короной. Подчиненные государственным интересам, они становились гарантами своей родины и прощались навсегда с родной землей, семьей и близкими, которых, как правило, больше никогда не видели. Так, в 1770 году Мария-Антония Габсбург-Лотарингская покинула свою родину в 14 с лишним лет, чтобы выйти замуж за Людовика-Августа, герцога Беррийского, дофина Франции, которому было 16 лет. С точки зрения генеалогии та, кого называли «австриячкой», была больше француженкой, чем будущий король Франции. По линии отца она происходила от Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV, называемого Месье, и Елизаветы-Шарлотты Баварской, известной как Пфальцская, знаменитой своим писательским талантом и перепиской о дворе «короля-солнца». Это была необычная пара, у которой, несмотря на гомосексуальность Месье, родилось несколько детей, в том числе Филипп, регент Франции при несовершеннолетнем Людовике XV, и Елизавета-Шарлотта, бабушка Марии-Антуанетты по отцовской линии.
Таким образом, как и ее жених, будущая королева Франции была потомком Генриха IV, и оба главных героя имели множество родственных связей, в которых переплелись почти все правящие династии Европы. Эти «европейские союзы» в угоду территориальным интересам были благословлены папскими диспенсациями и, к счастью, редко касались низших слоев общества. Здоровье герцога Беррийского было хрупким, он был мягким и своеобразным человеком, выросшим в тени своего старшего2 и младших братьев, претенциозного графа Прованского и хитроумного графа д’Артуа.
Братья герцога Беррийского, будущего Людовика XVI
Людовик-Станислав-Ксавье Французский, граф Прованский, родился в Версальском дворце в ноябре 1755 года. С восшествием на престол Людовика XVI он принял титул «Месье». После падения Наполеона I в 1815 году он вернулся из изгнания и стал королем под именем Людовик XVIII. Страдая от диабета и утратив потенцию, он умер вдовцом во дворце Тюильри в Париже в сентябре 1824-го, не оставив потомков.
Шарль-Филипп Французский, граф д’Артуа, родился в Версальском дворце в октябре 1757 года и сменил своего брата Людовика XVIII на троне под именем Карл X. Вынужденный отречься от престола во время Июльской революции 1830 года, он провел остаток жизни в изгнании, путешествуя по всей Европе, и скончался в Гёрце, Австрия, в ноябре 1836-го.
Несмотря на замкнутый характер, будучи старшим среди осиротевших братьев, Людовик-Август должен был стать королем Франции. Дед передал его на попечение непокорному придворному Антуану де Келену, герцогу де ла Вогийону, которому на тот момент было 52 года. Будучи гувернером «детей Франции»3, он позаботился о том, чтобы хорошо подготовить Людовика Августа к будущей роли, воспитав его в полной зависимости от себя, обеспечив тем самым себе будущее. Демонстративно благочестивый, де ла Вогийон был ярым антиавстрийцем, растил своего воспитанника в преклонении перед его покойным отцом и блестящим братом, ушедшим слишком рано, так что Людовик-Август чувствовал себя непригодным для той роли, которая случайным образом выпала на его долю. Гувернер также высказывал сомнения по поводу целесообразности будущего брака Людовика-Августа, и в восприимчивый ум его воспитанника закрались сомнения. В том же духе высказывались и Мадам, три незамужние дочери Людовика XV, которые не способствовали формированию у племянника мужественности и осуждали его будущий брак.
Мадам, тетушки дофина
Мария-Аделаида Французская, известная как мадам Аделаида, родилась в Версале в марте 1732 года и умерла в изгнании в Триесте (современная Италия), в феврале 1800-го.
Виктория-Луиза-Мария-Тереза Французская, известная как мадам Виктория, родилась в Версале в мае 1733 года и скончалась в изгнании в Триесте в июне 1799-го.
София-Филиппина-Елизавета Французская, известная как мадам София, родилась в Версале в июле 1734 года и умерла там же в марте 1782-го.
В Версале французский протокол, сложившийся более столетия назад, был уникален: столько внимания повседневной театрализации жизни монархов не уделялось больше нигде. К удивлению проезжающих иностранцев, войти в замок было так же легко, как в любое другое место: чтобы попасть в большие королевские покои и лично увидеть монархов, нужно было просто быть должным образом одетым. В эпоху, о которой идет речь, придворная система, методично созданная «королем-солнцем» в прошлом столетии, утратила свою символическую силу, оставив лишь громоздкие ритуалы. Людовик XV, страдавший от этого, старался вести подобие частной жизни, что вскоре обернулось скандалом. Дофин-одиночка жил в непростой обстановке, сторонясь распутства своего деда. Тем не менее он получил тщательное всестороннее образование, которое ему давалось легко, так как он сам стремился к знаниям и был скорее самоучкой. Однако его знаменитая близорукость и природная застенчивость не мешали юноше замечать деление на кланы и придворные интриги, что укрепляло в нем недоверчивость и скрытность. Вдруг неожиданно вытянувшись, он превратился в долговязого неуклюжего подростка, и, поскольку он не проявлял интереса к манерам, никто не позаботился научить его королевской стати. В течение нескольких лет Людовик XV мало интересовался своим странным внуком, пока однажды не обратил на него внимание и не решил женить его на австрийской принцессе.
Образование младшей эрцгерцогини, полученное в Вене, оставляло желать лучшего; императрица, и без того занятая обширными обязанностями, более пристальное внимание уделяла воспитанию старших детей. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг преемственности французского престола, определили, что именно младшая дочь получит самый прекрасный трон Европы.
Императрица осуждала распущенные нравы французов и, не вдаваясь в подробности, предостерегала от них свою дочь. Слишком юная, чтобы понять суть этих предупреждений, будущая Мария-Антуанетта прибыла в Версаль, отягощенная смутными предубеждениями. Их ей привила мать, которая и сама не знала всех тонкостей версальского этикета, непостижимого для ее строгого ума. Императрица продолжала напоминать дочери об этом в весьма противоречивых письмах, где «добропорядочные немцы» неизменно противопоставлялись «непокорным французам». Такие наставления лишь смущали совсем юную принцессу, от которой Мария Терезия требовала полного единения с новой родиной, одновременно внушая ей некое недоверие к будущим соотечественникам. И хотя в этом у нее не хватало психологического такта, она была недалека от истины: французский двор, заложницей которого она сделала собственную дочь, представлял собой в то время храм тщеславия, где злословие, личные интересы и коррупция были обычным делом. С политической точки зрения этот союз также не был принят единодушно, вызвав столько же сторонников, сколько и яростных противников. По правде говоря, дипломатическое соглашение, связавшее этих двух детей, с самого начала было обречено. Но оставим в стороне политику, вернемся к нашему браку между эрцгерцогиней, выросшей беззаботным ребенком в любящей семье, и нелюбимым сиротой-подростком, разрывающимся между памятью о благочестивом отце и примером живущего во грехе деда. Шансов на успех было немного.
Брак по доверенности, где роль жениха исполнил ее брат, состоялся 19 апреля 1770 года в церкви Святого Августина в Вене, после того как эрцгерцогиня официально отказалась от своих прав на трон Австрии. Таинство венчания должно было произойти 16 мая в версальской королевской часовне. Времени оставалось мало, и предстояло за несколько месяцев подготовить Антуанетту к ее великому предназначению, надеясь, что «благополучные известия», то есть первые менструации, наступят до ее приезда во Францию, что, к великому удовлетворению дипломатов и императрицы, и произошло за три месяца до отъезда.
Тем временем Мария Терезия в ужасе обнаружила, что ее дочь совершенно не готова к отъезду. Времени оставалось мало, девочка писала с ошибками, читала с трудом, едва говорила по-французски, а в довершение всего ее переменчивый характер не способствовал постоянным усилиям. Умная и живая, маленькая эрцгерцогиня проявляла худшие стороны своих достоинств. Она была решительной и упрямой в том, что ей нравилось, а остальное быстро наскучивало – в этом ей помогала ее любимая старшая сестра Мария-Каролина, известная также как Шарлотта, будущая королева Неаполя. Вдвоем они часто отлынивали от уроков и накопили немало пробелов в образовании. Чтобы наверстать упущенное, для Антуанетты были организованы ускоренные занятия. Из Франции прибыл 34-летний аббат Матье-Жак де Вермон, человек во всех отношениях хороший, хотя немного склонный философствовать, но в первую очередь очень терпеливый. Взявшись за дело, он быстро осознал, как сложна задача воспитать девочку, которая думала лишь о развлечениях. Он оказался проницательным педагогом и потому не требовал от нее слишком многого. Мадам Антуан оценила его подход, если не принимала его во внимание, то питала к нему доверие, которое сохранилось надолго. В Версале он станет ее секретарем вплоть до 1789 года. Эрцгерцогиня проявила готовность к учебе и, благодаря его наставлениям, сумела добиться прогресса – достаточного, чтобы соответствовать обозначенным требованиям. Императрица, довольная успехами, несколько раз приглашала аббата за свой стол, что было невообразимо для Версаля, где строгий этикет предписывал каждому свое место. Аббат, польщенный таким отношением, стал преданным «австрийцем» и невольно внушил своей ученице некоторое презрение к консервативной французской королевской жизни. Оставалось лишь познакомить эрцгерцогиню с историей ее нового дома, выдающимися личностями Франции, а также обучить традициям и протоколу Версаля. От нее ожидали послушания и, вероятно, упустили из виду строгость этикета, который ей предстояло соблюдать в новой жизни и ее будущей роли, значительно отличавшейся от того, каким образом проявляла власть ее мать. Одновременно оценке подверглась и ее внешность – в ней подмечали малейшие недостатки. Внезапно девочка, которая росла до этого относительно свободно, стала объектом пристального внимания – от макушки до пальцев на ногах. Вероятно, такое внимание вскружило голову юной особе, осознавшей значимость своего внешнего вида, и это навсегда оставило на ней отпечаток. С тех пор она надолго сохранила настоятельную потребность нравиться людям, превосходящую любые ожидания обожаемой матери.