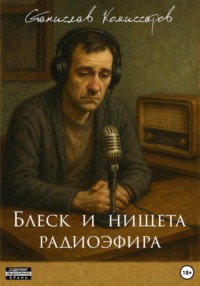Czytaj książkę: «Блеск и нищета радиоэфира», strona 3
Михална.
Все звали её Михална. Грубо и фамильярно, не взирая на возраст.
Высокая, стройная, подтянутая, статная, бесстрашная, всегда с крепкой шуткой на устах и с фигой в кармане. Видя её, мысленно я про себя произносил: «школа!».
У нас она была корреспондентом-редактором. Весь её нехитрый труд: найти новость с уголовно-полицейским уклоном (радиостанция, которая принадлежит МВД, должна сообщать о героизме доблестных служителей закона), взять телефонный комментарий какого-нибудь мента в звании, записать и передать нам, в новости. По всей стране у Михалны были свои агенты, занимающие разные посты в региональных отделах полиции. Приходя утром в нашу штаб-квартиру на Якиманке, она лихо занимала свой стол, деловито перелистывала потрепанную записную книжку, набирала номер на старинном аппарате и обычно начинала разговор так:
– Ну, как раскрываемость, легавые? Трудитесь? Подкинете что ли чего-нибудь интересного служителям культуры! А? Да нет, угон машины не то, не годится. Нет ли наркоты какой, или мокрухи? Да ну, какое изнасилование? С ума ты, Ирка, сошла? У нас же радио, мы люди интеллигентные…
Записывать так называемый «синхрон» она звала корреспондента помоложе. А пока тот трудился, подходила к ведущему новостей и тихо, почти шёпотом, говорила прямо в ухо:
– Материал крепкий, значительный. Подвод-отвод – с тебя, птичка.
Тут требуется пояснение: «подвод-отвод» – эфирный текст, который нужен до и после записанной речи.
Мне всегда было интересно её прошлое.
На радио она пришла работать в 50-х годах. Чуть ли не в канун смерти Сталина. Поначалу младшим редактором: править тексты, бегать к телеграфу, носить бумаги. Или чай. Ближе к середине следующего десятилетия она стала зачитывать новостные сводки, открывать утренние эфиры на только что открывшемся «Маяке». Рассуждая о жизни, Михална часто повторяла:
– Жизнь – штука непредсказуемая, это я по себе знаю. Бывает одного неловкого движения достаточно: хуяк, и ты на радио Маяк…
Рассказывали, что как раз на Маяке с ней случилось профессиональное падение. Тогда была эпоха прямого эфира. И тут вновь требуется пояснение: всё радиовещание во времена так называемого застоя было записным. Новости, программы, объявления, сводки – все это заранее записывалось, монтировалось и только после тщательного исследования цензурой, выпускалось в эфир. Да и в наше время на многих радиостанциях введена такая схема вещания. На всякий случай, как говорится, мало ли что. Однако, до начала 70-х годов радио было «прямоэфирным». И дело тут не в либерализме времен. Просто не было оборудования. Списанные французские магнитофоны многоканальной записи для Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию купили чуть позже. А тогда «последние известия» выходили «прямо».
Так вот, падение случилось в день какого-то важного праздника, имеющего широкое всесоюзное политическое значение. Что за праздник сказать не могу. Точной информации об этом не сохранилось, а спросить лично мне духа не хватало. Видимо, выпала её новостная смена. Нужно было подготовить ряд новостных заметок, прочитать в прямом эфире. Задача уровня стандарт. Но в жизни бывает всякое: можно забегаться, задуматься, заболтаться, не выспаться, да что угодно… Даже сапёры иногда ошибаются.
И вот она садится в студии. Минутная готовность. Зажглась лампочка включенного микрофона. Читает:
– Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Пионер Ильич Брежнев провел встречу с…, – на секунду она замолчала, – с… с… Леонидами…
Конец фразы она произнесла как бы с едва уловимым вопросом. С Леонидами?
В аппаратной, за стеклом наступило лёгкое оживление. Пока она довела новостной выпуск до конца, пришло начальство. Говорили, что даже сам Лапин – председатель Гостелерадио, на место ЧП притопал. Об этом джентльмене Михална лестно не отзывалась. А наоборот, если вспоминала – говорила:
– Да ладно, слушай… Гнида и хамло! Скольким он людям лестницу обоссал (в смысле карьерную) – и не сосчитаешь! Хотя бы взять дружка моего, Валерку Ободзинского…
А тогда, что ж – ошибка. Никто не спорил. Из эфира Михалну убрали. Перевели в редакторы. Со временем, конечно, всё позабылось, но обратно её уже не пустят. Второй попытки в те времена никому не давали. Да и её крутой нрав мог быть причиной. Начальства она не боялась. Иногда к нам на интервью приезжали начальники от полиции. Нередко очень крупные. Михална приветствовала:
– Ааааа, Мишуня. Здравствуй! Ну что тебе сказать: выглядишь всё лучше и лучше… Погоны-то к земле-матушке не тянут? А, Мишунь?
Мишуней был тогдашний и нынешний глава ГИБДД нашей страны. Чиновник смущался.
Жила она в квартире на Мещанской улице, которую ей все-таки отписали в Гостелерадио. Михална была матерью-одиночкой, видимо это обстоятельство растаяло ледяные начальственные сердца.
– Да ты что! Я ветеран Мещанки! – восклицала она иногда.
С той радиостанции, где мы вместе работали, я уволился лет восемь назад, а Михалну вспоминаю часто. Мировая тётка. Пошли ей Бог, если жива…
Блеск и нищета «звёзд» эфира.
Оказалось, что стать зажиточным человеком, работая на радио, нелегко. Практически это невозможно. Об этом не пишут в учебниках и не говорят на институтских лекциях. А надо бы. Хотя бы намёком дать понять.
Почувствовать и разуметь это можно лишь войдя в отрасль. Вот телевидение – другое дело. Там, можно сказать, протекает золотая жила. Связано это, как мне представляется, с несколькими аспектами. Во-первых, работники телевидения находятся на виду. Всё время в кадре. А потому, выглядеть они должны презентабельно, импозантно и не отталкивающе. Лощеные светящиеся лица, довольные сытые глаза, дорогие костюмы, начищенная обувь. Всё это вызывает чувство доверия у зрителя. Что бы не сказал человек в телевизоре – ему веришь, как отцу родному. Я часто слышал фразу, особенно от людей пожилых: «по телеку сказали!». Эти слова в их устах – синоним бескомпромиссности и догматичности. Всё, мол. Спорить бесполезно. «По телеку же сказали, ты чего?». Я же считал и считаю, что «сказали по телеку» – последний аргумент интеллигентного человека.
А во-вторых, несмотря на развитие социальных сетей, видеохостингов – телевидение у нас остается первым и главным средством коммуникации между государством и обществом. Ну, а где государство, там, понятное дело, и гонорары соответствующие.
Короче говоря, радио по сравнению с телевидением – суть голытьба.
Однажды я был взят линейным ведущим на только что открывшуюся музыкальную федеральную станцию. Она была, да и сейчас, наверное, есть, в составе большого именитого медиахолдинга. Для наглядности, можно уточнить, что было это в 2012 году. Припомните тогдашние цены, было это не так давно, хотя и воды утекло достаточно. Так вот, зарплату мне там, как говорится, отковали – в 17 тысяч рублей. Ровно такие же деньги получали двое моих коллег-сменщиков. Работали мы в три смены: утро, день, вечер. Каждый день, с одним выходным в неделю. Смена каждого из нас длилась 6 часов.
Я-то – ладно, москвич. Есть квартира, за которую не надо платить. Есть знакомые, друзья, родители, старенькая машина. А сменщики были иногородние, приезжие. То есть, на 17 тысяч рублей в месяц им было необходимо: арендовать угол (увы, не более), питаться, ездить в общественном транспорте, во что-то одеваться. Таков необходимый минимум.
Это по прошествии времени я понимаю, что ребята выжили и бойко работали только благодаря молодости организмов. Хотя, и те к концу третьего месяца начали давать сбои.
Например, Серёга Синицин был спортсменом. Двухметровый атлет, без вредных привычек, стильный, рыжий. Профессионально играл в бейсбол в своём родном городе. Станция начала вещание нашими голосами в сентябре. А уже ближе к новому году Синицин осунулся, побледнел, под глазами появились синие круги, щёки украсила жидкая борода.
– Ты зачем бороду отпустил, Сергуня? – спрашивал его программный директор.
– Бритвы дорогие… – грустно отвечал Синицин.
Другой наш бедолага-сменщик Юрка Танаев говорил:
– И ведь подработать некогда, ёлы-палы. Ну а когда, действительно? С понедельника по субботу тут гужуемся…
Юра был интеллигентом, субтильного телосложения, родом из Саратова.
Как-то раз, когда на календаре было 30 декабря, я принес на работу пакет из Макдака. Ну, вроде бы предпраздничная закуска. Поставил на стол в студии. Синицин и Танаев от запаха еды засуетились.
– Угощайтесь-угощайтесь, – говорю, – я пойду пока руки помою.
Возвращаясь по коридору, я услышал шум. Мои коллеги не смогли разделить поровну картошку-фри. Между ними разразилась драка. Войдя, я увидел: около окна, стараясь оттащить от пакета с фаст-фудом, Юра душил некогда подающего надежды бейсболиста Синицина. Танаев приговаривал:
– Делишь-то ты бессовестно, Синица! А ведь на всех принесли, гад…
Вообще, Юра был добр и интеллигентен. Это постоянное чувство голода его слегка ожесточило. Как-то раз, сдавая мне смену, он мечтательно смотрел в окно, на другую сторону улицы и отрешенно говорил:
– Замечательный вот там магазин «Людмила»… Замечательный. А отдел готовой еды какой! Там, знаешь, котлеты говяжьи есть, по 23 рубля за штуку…
В общем, чтобы прокормиться радиоведущему в этой жизни приходится выкручиваться разными способами. Многие коллеги вели свадьбы. Яркий и торжественный пример – Кирилл Корецкий. Когда он вылезал из водительской двери своей ржавой «четвёрки», нередко вслед за ним вылетел и взмывал в небо воздушный шарик. За годы проведённых бракосочетаний с ним произошла профессиональная деформация: он не переставал вести воображаемую свадьбу даже в эфире. Заканчивая очередную вечернюю программу по заявкам, он как-то произнес:
– С вами на этих волнах был Кирилл Корецкий, я желаю всем приятного вечера… и…
Вдруг из его уст полились идиотские стихи:
И пусть для вас сияет солнце,
И звезды светят пусть для вас.
Златые ваши супружеские кольца
Вы не снимайте, молодые, ни на час!
Далее почему-то зазвучала песня «Я люблю вас, девочки».
Кто-то подрабатывал частным массажистом. Кто-то чинил сантехнику, также частным порядком. Кто-то таксовал по ночам. Особо удачливые дублировали фильмы. Вот кстати, еще один пример чудовищно неблагодарного труда: смена озвучания одного фильма может длиться до восьми часов. Заплатить же за нее могут тысячи полторы рублей.
Однако, в эфире эти превратности судеб не чувствуются. Голоса ведущих звучат насыщенно, энергично, искромётно, на радость благодарному слушателю.
Ничего не поделаешь. С'est la vie.
Истинное лицо публичности.
Не могу не сказать еще раз: заработать сколько-нибудь приличных денег на радио невозможно. Жить с достатком, работая на радио тоже, едва ли осуществимая задача. По вопросам денег это не сюда. Хорошо зарабатывающими на радиостанциях можно назвать, наверное, только их владельцев и, весьма условно, сотрудников верхнего уровня: главных редакторов, программных директоров, приглашенных известных персон. Эти парни, они Боги. Мне представляется, что они сидят в тиши своих кабинетов, шуршат свежими купюрами, чешут плотные затылки крупными алмазами, ковыряют в зубах бриллиантовыми зубочистками, а наружу выходят редко. Только за тем, чтобы дать ценные указания потному, исхудавшему пролетариату.
Что же тогда так крепко держит простого рядового журналиста или ведущего в тесных стенах радиовещания? Неужели неутомимая жажда нести что-то светлое, доброе, вечное? Или может быть часто достающийся даром, так называемый, фирменный мерч (кружечки-ручки-блокноты-магниты)?
Кстати, про мерч. Как-то раз, на Новый год, на одной из радиостанций, где я вещал, мне подарили валенки. Ими одаривали всех, кто имел отношение к этому медиа средней руки. Такие настоящие русские тёплые валенки кремового цвета, без галош, но с фирменным логотипом fm-волны. Мне попались на два размера меньше моего. Пару раз я надевал их на даче, в дни отчаянных морозов. Но долго носить не мог. Жмут. От досады я закинул их куда-то на верхнюю полку большого дачного шифоньера. И забыл об их существовании.
Прошло около пятнадцати лет. За это время я успел поработать еще в нескольких крупных СМИ, жениться, сменить несколько поддержанных машин, у меня родились дети, всей семьей мы уехали в эмиграцию, вернулись из неё… И вот, годы спустя, валенки упали на голову моей маме, которая производила на даче большую уборку.
После нескольких нецензурных слов, родительница отметила, что обувь, между прочим, великолепно сохранилась. Действительно, выглядели зимние чуни как новые, не тронутые ни временем, ни молью. Коллективно было принято решение выставить валенки с глаз долой, на продажу. В интернете мама разместила объявление, с ценой в 3 тысячи рублей. Я был настроен пессимистично:
– Да кому они нужны…
Ношенные валенки, с ноги «известного» радиоведущего, с логотипом популярной станции купили в первые полчаса публикации! Без скидок, скандалов и лишних слов. Как говорится, оторвали с руками.
– Продать можно всё что угодно, – деловито объяснила мама, – главное в этом деле – правильный маркетинг!
– Да уж, – говорю, – талантливо.
Но я отвлёкся. Я думаю, что одна из главных причин, которая держит в радиоредакциях многочисленных рядовых трудящихся – чувство сопричастности к элитам и сильным мира сего. К звёздам шоу-бизнеса, музыкантам, певцам, киноактёрам, политикам, которые в свою очередь, чтобы не растерять свою популярность и влиятельность, нет-нет да и заходят на радио. Довольно регулярно. Находясь с ними в одном здании, коридоре, лифте, не говоря уже о студии и эфире – действительно чувствуешь какую-то вовлечённость, чего уж там…
Два самых частых вопроса, которые мне задают на дружественных пирушках и в компаниях, когда узнают о моей радио-карьере, это – каким голосом я говорю в микрофон и с кем из знаменитостей знаком лично. Многие уверены, что я имею в запасе некий специальный тембр, которым пользуюсь исключительно в эфире, а в жизни говорю другим, менее красивым. Обычно, после первого вопроса следует просьба: «ну-ка, скажи чё-нить, как на радио». В такие моменты я теряюсь. Отвечаю слегка откашлявшись, величественно, парадируя великого Левитана: «кхе-кхе… С добрым утром дорогие товарищи! В эфире программа «Шире круг»! Обычно это производит сильный эффект. Тот, кто спрашивал, говорит: «вау, как круто!».
А знаменитостей, собственно, на расстоянии вытянутой руки я видел и правда достаточно много. Но видеть – не значит знать. Знакомств я так ни с кем и не завёл. Виной тому моя застенчивость и какая-то далёкость от мира элит. Да и, как правило, в моменты встреч известные граждане были чем-то сильно заняты. Вели деловые беседы, торопились, писали нечто важное в телефоне. Чего же я знакомиться-то полезу? Не момент.
Наблюдая за ними, я машинально искал отличия сложившегося в голове образа и истинного лица. Разница действительно обнаруживалась: те публично известные фигуры, которые, например, славятся своим эпатажем – в жизни совершенно спокойны и адекватны. И в тоже время, те кто на экране или в радиоэфире кажется нам уравновешенным и прагматичным, в жизни показывает какую-то нервозность и взбалмошность.
Как-то раз, когда я работал в стенах одной большой, мощной российской телерадиокомпании, опять же в радионовостях, в середине одной из многотрудных смен приспичило мне сходить пообедать.
Отвлекусь. Вообще, вопрос еды и перекусов, при работе на радио – вопрос крайне беспокойный. По правде сказать, перекусывать особо некогда. Хорошо, если твои новости выходят с шагом в каждый час. Тогда после того, как ты успешно «отчитал» выпуск, на всё про всё остается минут 50. В эти, казалось бы, длинные 50 уложить нужно многое: написать и подготовить следующий выпуск (вы помните, да? Мы с вами договорились, что пишет и редактирует себе новостник исключительно сам. Специально обученного дяди или тёти для этих целей у него нет), сходить по надобности куда-то там в туалет, если новостник курящий – перекурить, и если останется, дай Бог, минут десять-одиннадцать, то ладно – поешь. А есть еще станции, где шаг новостей 30 минут, а существуют и так называемые «четвертные» новости, выходящие каждые 15 минут. Как жить с таким графиком? По опыту скажу, сложно. Но возможно. Дело привычки и практики питания без отрыва от написания текста. А еще, процесс говорения сразу после еды вызывает какое-то сумасшедшее слюноотделение. Особенно после сладкого. Это дико отвлекает. Её, слюну, надо куда-то изо рта постоянно девать, в то время как перед глазами политически важный текст. Беспокойное это дело – питаться на радио.
Так вот, в середине смены я выкроил время специально для закусить. Спускаюсь по лестнице на первый этаж, в сторону буфета и наблюдаю большую компанию солидных людей у дверей лифта. И виднеется в этой компании светлая голова тогдашнего министра здравоохранения всей страны. То есть ожидает лифта федеральный министр. Как и обещал, я обойдусь без фамилий, но скажу, что этот министр был женщина. Лифт долго не едет, вся эта компания волнуется, люди переживают, переступают с ноги на ногу. (Очевидно, министр здоровья приехала со своей многочисленной свитой на телеэфир, было это прямо накануне эпидемии Ковида, помните про такой?). Обойти эту компанию мне особо негде. Лестница не широкая, а компания, говорю, многочисленная, человек девять-десять. Но и ждать я не могу. Времени до следующего эфира в обрез. В тоже время и голод не тётка, есть хочется. С извинениями начинаю протискиваться к единственной двери, ведущей в коридор из этого пространства. Как это часто случается, мою фигуру почему-то не замечают. Не расступается народ. У них вообще разговор какой-то важный.
Вдруг в мою ногу, в самый носок лёгкого, тряпичного, но дорого моему сердцу кроссовка, вонзается какая-то то ли трость, или стрела… Опускаю глаза, и вижу на своей ноге женский, дорогого покроя сапог на тонком каблуке. Это этот каблук впился мне в ступню. И я осознаю, что каблук этот не чей-нибудь там, а суть Министра Здравоохранения моего родного государства.
Я замер. Даже обомлел. Боюсь вообще пошелохнуться. Всё-таки на моей ноге стоит большой, изящный государственный деятель. «Мой долг, как гражданина, в такой тяжёлый момент не дёргаться», – думал я. Затем в голове промелькнуло несколько репрессивных мыслей. Я заговорил самому себе: «ну, дёрнись-дёрнись, идиот! Дёрнись! Министр упадёт, вот тогда узнаешь! Либо прямо здесь тебе пулю в лоб всадят, либо в Сибирь поедешь, к такой-то матери, радийщик…».
И сам же себе стал отвечать: «да, – говорю, – надо бы постоять. Ведь Бог терпел и нам велел». «Вот-вот», – как бы хвалил я сам себя». Из этого внутреннего диалога меня выдернул один из охранников. Он строго сказал:
– Ну, проходите, молодой человек.
– Да-да, – с лёгкой улыбкой на страдальческом от неприятного ощущения лице отвечал я, – иду, иду. Сейчас, сейчас…
Наконец двери лифта распахнулись. Процессия министра стала погружаться в кабину. Каблук благополучно освободил мою ногу. Возможно, я описываю ситуацию затянуто, на самом деле прошли какие-то секунды. Всё кончилось. Проводив делегацию взглядом, я, наконец, отправился питаться. Так произошла моя первая и, наверное, единственная встреча с большой политикой. Можно сказать, я побывал у неё в объятиях.