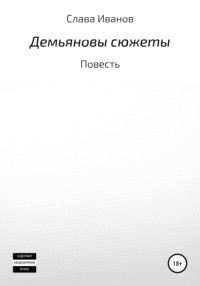Czytaj książkę: «Демьяновы сюжеты»
Вместо предисловия
Здравствуйте! Коротко о себе. Будучи в весьма преклонном возрасте, я получил замечательный подарок. Благодаря моему сыну – успешному и высокооплачиваемому айтишнику – отпала необходимость ходить на работу за прибавкой к пенсии. У меня появилась возможность начать писать.
Впрочем, писал я и раньше. Творил километрами, но это было совсем не то – как говорил один коллега, «сочинения по делам заработка». Отстукивал на печатной машинке, а потом выводил на компьютере сценарии массовых праздников, фестивалей, церемоний, шоу-программ, рекламных роликов, капустников, учебных пособий, методических рекомендаций, календарно-тематических планов – всего не перечислить. При этом работал много, иногда очень много, старательно, преимущественно увлеченно и, как мне казалось – творчески.
Но еще в ранней молодости появился зуд – очень хотелось написать что-то, простите, художественное. Поэтому каждый год, иногда по несколько раз я предпринимал такие попытки, но, увы, постоянный цейтнот не позволял осуществить задуманное даже в черновом варианте. Что поделаешь, большая семья, дети, а затем и внуки…
Поймите правильно, я не жалуюсь, большая семья – это здорово! Но начатые романы, повести, рассказы и пьесы приходилось откладывать до лучших времен.
И вот лучшие времена наступили. За несколько лет расстарался в общей сложности на полторы тысячи страниц, а то и больше. Пятнадцатую часть отважился обнародовать. Живу надеждой, что кому-то «Демьяновы сюжеты» покажутся занятными.
Данный опус, конечно, фантазия, но далеко не беспочвенная. В основе – история жизни моего коллеги, рассказанная от первого лица так, как будто это говорит он сам – мой ровесник, нареченный мною – Станиславом Викторовичем Демьяновым.
С уважением!
Автор
Первая часть
Перестроечная эйфория таяла на глазах и к началу 90-х, кажется, исчезла вовсе. Даже массовые выступления против ГКЧП, переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, запрет КПСС и ряд других громких событий ничего существенно не изменили. Перелом в общественном настроении был кратковременным, его ощутила и восприняла как предвестие обнадеживающих перемен лишь сравнительно небольшая и не слишком представительная кучка фантазеров и мечтателей, среди которых оказался и я. Правда, сбоку…
Неподалеку от меня – на той же обочине или даже в засаде я неожиданно обнаружил несколько весьма уважаемых товарищей, совсем недавно претендовавших на роли идейных лидеров прогрессивной ленинградской интеллигенции. Призадумавшиеся и подавленные, они по большей части многозначительно отмалчивались. А когда заговаривали, вкрадчиво советовали: скоропалительные выводы делать не стоит, давайте оглядимся, вникнем, прочувствуем. Из уст недавних пассионариев это было слышать странно.
Мой сосед, которого я в шутку называл Первопроходцем, был одним из первых школьных учителей, освоивших курс преподавания ОБЖ на высочайшем уровне. Ребята его боготворили, коллеги перенимали опыт, начальство поощряло. Но ему этого было мало. Первопроходец мечтал прославиться как автор эпиграмм на злобу дня. Один его тогдашний опус звучал так: «Глас демократов – балагур невнятный – отводит взор, вступая на попятный…». Конечно, сказано коряво, но по сути – очень точно.
Запомнилась мимолетная встреча возле Дома кино с некогда влиятельной и активной дамой. Назовем ее Галатей.
Как известно, мифическую Галатею создал скульптор Пигмалион, оживила ее богиня Афродита. Нашу Галатею сотворила и оживила советская власть, точнее – ряд ее ответвлений, тесно переплетенных между собой. Наделенные большими полномочиями и, пожалуй, неплохой интуицией, они нередко выбирали из широких масс людей для витрины советского образа жизни, а также для других потребностей, включая развлечения и даже капризы. Среди избранных не всегда были самые лучшие, но непременно, за очень редким исключением, разумные, преданные и благодарные. То есть, откуда ни посмотри, со всех сторон благонадежные. За это им полагалось счастье.
Галатея в советские времена имела постоянные, можно сказать, закрепленные за ней почетные места во многих президиумах, первых рядах премьерных показов, в списках делегаций, отъезжающих в капстраны (страны социалистического лагеря она объехала в ранней молодости). При этом она никогда высоких постов не занимала. Злые языки намекали, что так распорядился ее предусмотрительный покровитель из Смольного (другие говорили с Литейного): номенклатурные хлопоты тебе ни к чему.
Но зато она была членом Государственных экзаменационных комиссий сразу в нескольких вузах, входила в состав престижных общественных советов, комитетов и организаций, очень часто мелькала на ТВ, разговаривала на радио, и регулярно публиковала проблемные по тогдашним меркам статьи не только в ленинградской, но и в центральной прессе.
Мы познакомились в самом начале 80-ых на городском смотре художественной самодеятельности. Она была зампредседателя оргкомитета, а я членом жюри конкурса агитбригад; снабжал ее материалами для статьи в «Советской культуре». Рассчитанная на целую полосу, статья почему-то превратилась в небольшую заметку. Галатея иронично посмеивалась: ретроградам будет стыдно, а, может быть, и больно.
Несомненно одаренная, хорошо образованная, с соблазнительной фигурой и приятным лицом, она держалась со скромным достоинством, ну, точно королева с незапятнанной репутацией и надежной гвардией, обеспечивающих ей безмятежное настоящее и прекрасное будущее.
В ее обществе я чувствовал себя неловко, попросту говоря, робел. Хотя однажды был удостоен неожиданной чести поговорить по душам:
– Каким ветром тебя занесло в институт культуры? – спросила Галатея.
– Думаю, случайным, – на секунду замялся я, но вдруг, точно шлея под хвост попала – раскрепостился почти до панибратства: – Мадам!.. Шквалистый ветер подхватил меня на Невском и понес вслед за прехорошенькой девушкой, которая, свернув на Садовую, устремилась к Неве. Через десять интригующих минут, оказавшись на Дворцовой набережной, мы почти одновременно вошли в двери института, поднялись на четвертый этаж и вместе с другими абитуриентами, просочились в аудиторию, где намечалась консультация для поступающих на режиссуру.
– И ты сразу поступил?
– Да, мадам, взяли за штаны, широкие плечи и густые брови – с прицелом на роли революционных матросов и героев Шолохова и Шукшина, – трепался я, удивляясь своей наглости: – А вообще-то ваш покорный слуга собирался в Фармацевтический. Будучи в армии, начитался детективов. Один из персонажей – хладнокровный, ироничный судмедэксперт – заставил меня взять в руки справочник: «Ленинградские вузы».
Галатея усмехнулась, и опять же по-королевски вздохнула:
– Значит, еще одна вариация на тему: шерше ля фам? Как ее имя?
– Варвара.
Она, сложив губы уточкой, покачала головой:
– Два «эр» в одном имени – это, пожалуй, многовато…
Боже мой, что с нами делает время! – думал я, приближаясь к неузнаваемой Галатее. К декабрю 1992 года от ее королевского имиджа остался лишь французский полушубок из черной овчины. Припорошенный снежной, серебристой крупой, он выглядел по-прежнему потрясающе. Все остальное поблекло, поистерлось и скукожилось, не без злорадства отметил я, и приступил к нехитрому ритуалу: почтительное приветствие, дежурные комплименты, типичные риторические вопросы.
В ответ, поморщившись, она произнесла скрипучим, прокуренным голосом:
– Теперь живу в коммунальной квартире, ко мне прописали препротивную особу.
– Как? – Я сделал нарочито большие глаза и вытянулся как струна.
Криво улыбнувшись, она продолжила:
– Тетку зовут Депрессия, хозяйничает безраздельно, просыпаться не хочется, а тем более с кем-то говорить. Извини, Демьян, такова суровая правда. – Она швырнула окурок мимо урны, и вдруг вместо того, чтобы подниматься по гранитной лестнице, ведущей к дверям Дома кино, резко повернулась и быстрым, решительным шагом направилась в сторону Цирка.
По улице Толмачева, которая недавно обрела свое исконное название – Караванная, ей навстречу, естественно, шли люди, некоторые – в Дом кино, кто-то с ней поздоровался. Но она, низко склонив голову, упрямо мчалась во весь опор, делая вид, что никого не замечает.
И, надо же, вдруг меня обуяла совершенно неожиданная, острая жалость. Кажется, в тот момент я даже готов был прослезиться. Невольно подумалось: какой, однако, перестроечный пассаж! Низвергнутым с пьедестала и освистанным, кому на голову опрокинули ушаты помоев, сейчас живется куда как труднее, чем нам, рядовым обывателям-созерцателям. У нас, по крайней мере, появилась новая забава – в массовом порядке чесать языками, не задумываясь о последствиях. По всякому поводу, а иногда и без повода – лыко в строку…
– Верной дорогой идете, дорогие товарищи, петербуржцы! – запнувшись на «петербуржцах», мрачно бубнила моя институтская однокурсница Варвара Авдотьина, по непонятным причинам надолго застрявшая в должности всего лишь директора заводского клуба. Ее расторопность, нахрапистость, пофигическая беспринципность в сочетании с чертовски привлекательной внешностью должны были обеспечить стремительный карьерный рост. Но, увы, почему-то не срослось. Думаю, помешали импульсивность и непредсказуемость – порой такое завернет, что хоть стой, хоть падай! Либо кто-то из ее отвергнутых мужчин – а их было немало – подставил подножку. А может быть, все вместе – и первое, и второе, а также десятое, о котором никто не догадывался.
Итак, Авдотьина исподлобья, тупо смотрела на рабочих, выносивших из зрительного зала связки нарядных и, наверно, очень дорогих кресел, обитых тонкой, темно-вишневой кожей. А потом вдруг звонко хлопнув себя по округлым бедрам и тряхнув загорелой, упругой грудью, едва не выпрыгнувшей из глубокого декольте, смачно выругалась и, простите, истерично заржала:
– Уроды!.. Завтра стену придут крушить… Вход с улицы понадобился… Магазин приспичило открывать… – сбивчиво голосила она, вставляя слова между резкими стонами, напоминавшими собачее повизгивание.
Страстный монолог, продолжившийся в опустевшем зале, растянулся на четверть часа, никак не меньше. Она, бегала из угла в угол – подсчитывала изъяны в паркетном полу, образовавшиеся после торопливого, а точнее варварского демонтажа кресел. Наконец, когда, слава богу, успокоилась, подошла ко мне почти вплотную и прошептала:
– Демьян, как ты считаешь?.. Только честно… На территории секретного, оборонного предприятия барахлом торговать – это беспросветная дурь или полная капитуляция? Нас же столичный генералитет курирует.
– Против алчности даже армия бессильна, – сочувственно ответил я, не придумав ничего более умного.
– Вот и я полагаю, – неожиданно криво улыбнулась она, сверкнув черными, цыганскими глазищами, густо обведенных розовыми тенями, – одна надежда на Краснознаменный Тихоокеанский флот.
Почему Тихоокеанский? – спрашивать не стал. Понял, так она пошутила.
Всплески ироничного пессимизма стали чем-то обыденным. По крайней мере, многие мои коллеги – обобщенно сотрудники учреждений культуры, а также представители похожих профессий – были сильно разочарованы. Конечно, гласность, плюрализм, демократия несомненные, жирные плюсы, рассуждали они, но как-то все очень стремно. Знаете, что означает это дурацкое словечко?..
– Нехорошие сны посещают, – загробным голосом балагурил дядя Толя, электрик пригородного парка культуры и отдыха, нередко называвший себя ветераном советского кино. И не без оснований. Его лысая голова, похожая на регбийный мяч, мелькала в массовых сценах почти пятидесяти картин. Особой популярностью он пользовался на киностудиях союзных республик, охотно приезжавших поснимать в Северную столицу революционные события 1917 года. – Неслучайно желудок барахлит, – монотонно продолжал дядя Толя, – затылок ноет, глаз дергается. Но это бы ладно! Кто-нибудь знает, почему уши постоянно чешутся? – И вдруг ловко задвигал своими оттопыренными ушами – вверх-вниз, вверх-вниз.
Салон старенького ПАЗика, приспособленного под гримерку, затрясся от хохота.
Чопорная гримерша – она с опечаленным видом и без должной старательности приклеивала дяде Толе клочковатую, сивую бороденку – фыркнула и, скорчив брезгливую гримасу, произнесла менторским тоном:
– Про либерализацию цен слушать просто смешно.
– Обхохочемся… – флегматично встрял нагловатый, помятый красавчик, недавно перебравшийся в Питер из провинции. Он пристально разглядывал в зеркале мастерски нарисованный шрам на своей щеке. – У нас в театре премьеру отложили. Намечался клевый спектакль, в Москве не стыдно показать. А с костюмами хрень, в смету не вписались. Дворянскую знать в дерюгу обрядили. Но директор театра, успокаивая убитого горем режиссера, брякнул: ну и что?!. Мне даже нравится, театр условное искусство. Спасибо нашей Народной, она его такими матюками обложила, что он со страху чуть в штаны не намочил. А все от того, что старухе тоже подлянку устроили. Великосветской даме платье из подкладочной ткани сварганили. Но самое интересное было дальше. Старуха, продолжая прессовать директора, пригрозила, что пожалуется в Обком партии. И тут, директор радостно завопил: голубушка, очнитесь, нету больше никаких обкомов, кончились!.. А в ответ старуха прошептала так, как умела только она, ее было слышно не только в зрительном зале, но и за кулисами: дурачина ты, простофиля, без обкомов страна не выживет. Словно знала наперед про Беловежскую пущу…
И вдруг ПАЗик снова затрясся, и опять от хохота. Так народ отреагировал на Траурный марш Шопена в исполнении дяди Толи. Он, закатив глаза, выводил мелодию тоненьким, гнусавы голоском. Между прочим, пел очень чисто.
В ту пору появилось немало оракулов, предсказывавших в будущем очень большие проблемы. Их апокалипсические сентенции зачастую обрамлял привычный и милый нашему уху мазохизм, исполненный безудержного веселья.
– Всенепременно шандарахнет и слева, и справа, и хорошо, если только по нашим несчастным задницам. А вдруг по головам? – невнятно вопрошал пьяненький, вертлявый трубач небольшого духового оркестра.
Они только что успешно завершили концерт на Кантемировской, у метро «Лесная», достойно поблагодарили наряд милиции, и теперь, отойдя в сторонку, закусывали «Старку» жирными беляшами. Все кроме неугомонного трубача жевали молча. Он же с полным ртом продолжал солировать:
– Расчистите проходы к столам, уберите все лишнее. Ушлые японцы всегда так делают. Во время землетрясений прячутся именно под столами. Видел собственными глазами на острове Хонсю, когда у Мравинского работал. Гастроли имели феноменальный успех, – едва не подавился трубач.
Музыканты, понимающе улыбались, выразительно переглядывались, но тему прославленного Симфонического оркестра Ленинградской филармонии и участия в нем их нынешнего коллеги развивать не стали. Настоящих ленинградцев всегда отличали великодушие и деликатность.
Самый молодой из музыкантов, худущий, длинноволосый верзила постучал трубача по спине и тот, коротко поблагодарив, мгновенно продолжил. Правда, говорил уже не своим голосом, а сипящим, жалобным голоском, как будто пародировал всенародно любимого артиста Вицина:
– Публика встречала и провожала оглушительными аплодисментами, переходящими в бурные овации, сравнимые с камнепадом! Иной раз даже вздрагивал – а вдруг это землетрясение? Однажды, чуть инструмент не уронил…
Я, случайно оказавшись с ними рядом (уже около получаса ждал опаздывающего товарища), видел, как они сбились в кружок, плечистый тромбонист извлек из-за пазухи початую бутылку и опытной рукой разлил остатки в разовые стаканы.
– Предлагаю тост! – Трубач наконец освободил, как сказали бы медики, дыхательные пути, облегченно выдохнул, но вдруг снова закашлялся. Впрочем, это его не остановило: – За наш родной… любимый… блистательный… – с необъяснимым упорством выдавливал он слово за словом.
– Бандитский Петербург! – решительно отчеканил тромбонист.
И все радостно оживились, как будто их приятель обнародовал удачную шутку.
Хотя какая же это шутка? Статья «Бандитский Петербург» в газете «Смена», появившаяся еще прошлой осенью и наделавшая много шума, вызывала немалое беспокойство. Криминальные новости наступившего 1993 года только усиливали тревожные настроения.
Увы, никто из предсказателей, включая взаправду умных и проницательных, не мог даже предположить, чем все это обернется на самом деле. Для значительной части коллег мучительный период поиска способов элементарного выживания продолжался как минимум десять лет.
Как прокормить семью? Чем оплатить лекарства или ЖКХ? На какие шиши приобрести обувку (не новую), а которая хотя бы не промокает? С этими и аналогичными вопросами просыпались, и с ними же засыпали.
На юбилее одного студенческого театра возникла очень странная ситуация. И не когда-нибудь, а во время торжественной церемонии награждения почетными грамотами.
Последним в списке был концертмейстер. Молодой очкарик в строгом, черном костюме осторожно поднялся из-за рояля и как-то уж очень медленно направился на авансцену, двигаясь бочком и приволакивая правую ногу. В зале раздались смешки. Очкарик остановился, виновато посмотрел в зал и продолжил движение. Но вдруг покачнулся и опять застыл, приоткрыв рот. При этом его лицо вытянулось, а потемневшие глаза распахнулись так широко, что стало страшно. Смешки как по команде стихли. Перепуганный ведущий юбилея подскочил к очкарику, что-то шепнул и попытался придержать его за локоть. Но тот не позволил, решительно покачав головой.
На помощь ведущему выбежал из первого ряда режиссер, оставив свою почетную грамоту соседке из второго ряда. Весьма импозантный колобок, в прошлом мало кому известный артист легендарного, академического театра, на небольшой сцене студенческого клуба держался уверенно и эффектно. Добродушно посмеиваясь, он немного наклонился и широким жестом предложил очкарику взять его под руку. Но не тут было! Концертмейстер с силой оттолкнул руку режиссера и, неловко крутанувшись, заковылял обратно к роялю. Ведущий догнал бедолагу, схватил за плечи, развернул его на 180 градусов и стал подталкивать к начальственной даме, делегированной на юбилей из Мариинского дворца.
Рослая, внушительного вида дама с депутатским значком на лацкане темно-серого пиджака, стоя возле центрально микрофона, нервно обмахивалась почетной грамотой, словно веером, и с большим недоумением наблюдала за происходящим. Ведущему и режиссеру никак не удавалось как следует ухватиться за разбушевавшегося очкарика, чтобы заставить упрямца двигаться в заданном направлении. Его руки вращались как крылья ветряной мельницы.
Так продолжалось до тех пор, пока на сцену не вышла пожилая техничка в сером халате. На бутафорском блюдечке величиной с огромное блюдо, отмеченное яркой, синей каемочкой, она вынесла стопку воды и таблетку, предназначенные для очкарика.
Но взбешенный режиссер его опередил. Он схватил таблетку и подбросил ее вверх; пролетевшая по высокой дуге, она упала точно в открытый рот режиссера.
Водой воспользовался ведущий. Зажмурившись, он одним махом поглотил содержимое стопки, протяжно крякнул и стал занюхивать рукавом.
А техничка по-матерински обняла концертмейстера:
– Гарик, что с тобой? Тебе нехорошо?
Гарик наклонился, снял с правой ноги ботинок и, просунув в него руку, громко всхлипнул. Затем, отодвинув оторвавшуюся подошву, выразительно пошевелил длинными пальцами, выглядывающими из ботинка, и вдруг показал фигу:
– Фи-гура здесь, фи-гура там, – жалобно пролепетал он, делая ударение на «и». А потом, набрав в легкие воздух, заголосил как заправский тенор: – Фи-гура!..
– Теперь, пожалуй, можно аплодировать, – церемонно произнес режиссер и озорно подмигнул зрителям.
Все участники интермедии склонились в низком поклоне. Зрители ревели от восторга.
К артистам присоединилась и дама-депутат. Пожав руку концертмейстеру, вручила ему почетную грамоту и получила свою порцию аплодисментов.
По окончании юбилея она сказала режиссеру:
– В советское время за такую пантомиму вас бы поперли с работы. Это в лучшем случае. Я бы не поленилась, поспособствовала. А сегодня благодарю. Остро и актуально! – Она потянулась к уху режиссера: – Муж моей соседки, профессор Лесотехнической академии превратился в сущего оборванца, щеголяет в засаленных брюках с бахромой. И никаких других штанов у него не намечается, так как его жена, надменная, ленивая дура, считающая себя интеллектуалкой, на мужнину копеечную зарплату книжки покупает и вдобавок хихикает: теперь такой выбор, что не удержаться. А на днях в ответ на мое справедливое замечание – неужели нельзя обойтись без этих сомнительных мемуаров – процитировала Наполеона: самое верное средство остаться бедным – быть честным человеком. Представляете, такую пантомиму?!.
Уж не знаю, так ли было на самом деле и был ли вообще этот разговор, судить не берусь. Сам за кулисами не был, в фойе зацепился языком со знакомой журналисткой из «Комсомолки». Но в изложении моего друга Марика (того самого режиссера) звучало очень правдиво.
Кстати, чтобы не выглядеть однобоким и тенденциозным, дополню историю про Марика несколькими лаконичными фрагментами.
Он, еще до перестройки изгнанный из профессионального театра за ненадобностью, бесперспективностью и аморальное поведение, очень быстро освоился в студенческом коллективе, хотя ранее никакого отношения ни к режиссуре, ни к самодеятельности не имел. Сработала интуиция. Она, как известно, порой выдает парадоксальные, но при этом спасительные решения. Нельзя сбрасывать со счетов и возникшую обстановку. Интригующие, перестроечные изменения в жизни страны в некоторых случаях действовали как мощные катализаторы.
Перед тем, как дебютировать в студенческом театре, Марик сильно нервничал. Бессонная, мучительная ночь, казалось, будет продолжаться вечно и доконает его окончательно. Почему-то в голове засела и многократно прокручивалась история полуторагодовалой давности, произошедшая в кабинете худрука легендарного театра, в котором он числился актером без малого десять лет.
В тот злополучный день была получка. Марик, сообразив на троих с такими же, как и он, бедолагами – толком невостребованными актерами, продолжил гулять у свободных от спектакля осветителей. И догулялся до святая святых!..
– Выслушайте меня, ради всех великих Станиславских и Немировичей вместе взятых! – пламенно произнес он, склонившись над столом художественного руководителя театра в позе разъяренного зверька (в ту пору вес Марика в одежде не превышал 60 кг). – Сколько можно держать меня на цугундере по третьему плану кулис среди статистов? Мне нужны роли! Без ролей актер – жалкая пташка, заточенная в клетку, позабывшая про свои крылья. Крылья, данные для высокого полета…
– А вы, простите, кто? – хмыкнул худрук, проведя ладонями вниз по отечным щекам землистого цвета, и таким образом высвободил красивые, выразительные глаза для приветливого взгляда.
– Вы меня не узнаете? – одними губами спросил ошарашенный Марик.
И худрук показал класс, на который способны лишь поистине талантливые и мастеровитые артисты. Он всего лишь качнул головой, и на его лице тотчас вспыхнула ослепительная улыбка, выражающая искреннее смущение и неподдельный интерес к чудаковатому визитеру:
– Уверен, мы с вами встречались. Но где и когда, простите, не припомню.
Раздавленный Марик направился к выходу, но вдруг остановился:
– Чудовище!.. – прошептал он, вытирая рукавом слезы. – Когда подохнете, спляшу на крышке гроба чечетку!..
На следующий день состоялось расширенное заседание месткома, и уже к вечеру вывесили приказ об увольнении, как тогда говорили: «по статье». В советские времена статья в трудовой книжке считалась позорным пятном, с которым устроиться на новую работу было очень непросто. Марик, посоветовавшись с женой, не стал испытывать судьбу и на полтора года затаился, возложив на себя обязанности домохозяйки в самом широком смысле этого слова. Кстати, тогда же он принял обет трезвости. Попросту говоря, «зашился».
Трудно поверить, новая жизнь вне театра его не тяготила. Напротив – он ею увлекся. С неподдельным интересом постигал секреты кулинарного мастерства, с фанатическим рвением занимался уборкой квартиры, а его занятия с сыном были отмечены вдохновенным полетом фантазии и предельной требовательностью. Он провожал и встречал мальчика из школы, делал с ним уроки, читал и устраивал обсуждение книг из списка обязательной литературы, водил на тренировки по теннису, при этом не ленился сделать небольшой крюк, чтобы оказаться возле какого-нибудь архитектурного символа города…
Возможно, так продолжалось бы еще очень долго, но началась перестройка, и Марик забеспокоился. Давно не звонивший коллегам, он припал к телефону на несколько часов, назавтра история повторилась. Расспрашивая как дела и терпеливо выслушивая ответы, он не забывал вставить: отдохнул, набрался сил, снова хочу работать. Где? – непринципиально, хоть в самодеятельности. Одна пожилая артистка дала ему телефон директора студклуба.
Бессонная ночь плавно перетекала в робкое, сумрачное утро. Измочаленный до крайности Марик начал задремывать, а вскоре и вовсе уснул…
Взволнованно рассказывая про эту ночь, названную им судьбоносной, Марик вдруг захлопал повлажневшими глазами и, засмущавшись, тихо спросил, ну совершенно по-детски:
– Ты веришь в чудеса?
– Было дело, – ответил я, – когда на елках дедморозил. Один пьяненький папаша сунул в мой волшебный мешок шкалик виски.
– А я верю, теперь верю, благодаря обеим моим бабушкам: Розочке и бабе Шуры. При жизни Розалия Соломоновна и Александра Ивановна больно покусывали друг друга, а тут, явившись ко мне во сне, шептались на скамейке в Катькином саду как лучшие подружки. Он вскочил с дивана и показал сценку с таким блеском, словно ее долго и тщательно репетировал:
Розочка (заговорщически): Что Марк умеет делать хорошо?
Баба Шура (с хитрющей улыбкой): Рожи корчить и ногами кренделить, в цирк ходить не надо!..
Розочка (скептически, но напористо): А художественное руководство театра не разглядело в нем ни Чаплина, ни Фаину Георгиевну Раневскую.
Баба Шура (давясь от смеха): Подслеповатое руководство, никудышное.
Розочка (растерянно): Но что-то ведь надо делать.
Баба Шура (возмущенно): Как это что, если Маркуша свистуном уродился! Пусть скоморошничает и дальше. Глядишь, Рудаковым и Нечаевым станет, разве плохо?!
Розочка (примирительно): Тем более с перестройкой открываются такие перспективы!..
Баба Шура (мечтательно): Про перестройку не знаю, а то, что его удача поблизости, и дураку ясно. Кошка нынче мурлыкала: Мар-куша, Мар-куша…
– Вот и все! – радостно воскликнул Марик. – Но из постели я выпорхнул другим человеком. С крыльями!..
Сразу возникло подозрение – никакого сна не было. Марик его просто выдумал. Но то, что в эти дни он действительно стал производить впечатление человека, который нашел себя и теперь ему все по плечу, это бесспорно.
Встреча со студентами прошла на ура. Марик вдохновенно рассказывал анекдоты и байки, лихо показывал Брежнева и Горбачева, а потом, присев к старенькому, расстроенному пианино спел голосом Утесова про прекрасную маркизу. Студенты были в диком восторге. А он продолжал их смешить, доводя до невменяемого состояния.
И так на каждой репетиции. Атмосфера в театре была восхитительная, Марик стал подлинным кумиром, на его «бенефисы» приходили даже преподаватели и совсем посторонние люди.
Что же касается спектаклей, то тут было не все так гладко. Любую пьесу, взятую для постановки, он превращал в откровенный фарс. Обоснованно комичное нередко сочеталось с пошловатым эпатажем. Но всегда находились поклонники, рассматривающие его ляпы как смелое новаторство. Иначе говоря, Марик был надежно защищен от объективной критики. Так, немного пощиплют, а в основном – спасибо за оригинальное прочтение.
Вскоре, помимо работы с молодежью у него появилось новое увлечение – эстрада. Юморил в отдаленных домах культуры, санаториях, жилконторах. Да, это было не престижно и материально не шибко привлекательно, но зато можно было импровизировать, а точнее хулиганить, зачастую переступая все мыслимые и немыслимые границы. Разумеется, публике это безумно нравилось. И организаторам концертов тоже нравилось, хотя и не безоговорочно. Марик, все же надо поаккуратнее, говорили они, но за руки не хватали. Спустя примерно полгода его повысили. От рядового артиста сборного концерта, выступавшего с короткими номерами, он перешел в статус конферансье и теперь мог дразнить гусей сколько угодно.
Однажды, после выступления на загородной базе отдыха прядильно-ниточного комбината к нему обратился седовласый, вальяжный парторг:
– Не хотите ли поучаствовать в мальчишнике? У нашего районного партайгеноссе юбилей. Вот мы с товарищами и решили наряду с официальным чествованием затеять веселую пирушку для узкого круга соратников. Сметали достойную сметочку, вам семьдесят целковых причитается…
Марик согласился, но поставил условие: сценарий мой. С большим успехом проведя мальчишник, он в тот же вечер получил новое предложение, а потом еще и еще. Его жизнь превратилась в нескончаемый праздник, но при этом студентов не бросил. Два раза в неделю, а иногда и чаще увлеченно репетировал до поздней ночи, не забывая про атмосферу. Комедию надо делать весело, приговаривал он, обнаружив в аудитории хотя бы одну кислую физиономию. И начиналась феерия, взрывы хохота разносились по всей территории студгородка.
В 90-ые Марк Ефимович без устали развлекал новых русских, получая баснословные гонорары. Он округлился, приоделся, купил новую иномарку и переехал из малогабаритной двушки на Малой Охте в шикарную трехкомнатную квартиру на Васильевском с видом на Финский залив. А главное – это меня поражало больше всего – из робкого неудачника, каким он был совсем недавно, превратился в истинного хозяина своей и не только своей жизни.
Непринужденно, то есть как минимум на равных, разговаривал с городским начальством, крупнейшими предпринимателями, звездами шоу-бизнеса, который в постперестроечной России делал первые, но отнюдь не робкие шаги. Долго не раздумывая, он мог позвонить любому, самому титулованному, возведенному в ранг живого классика, деятелю культуры и искусства. И говорил, не расшаркиваясь, а запросто, как будто с детства имел такую возможность.
Даже общаясь с бандитами – а их среди его заказчиков было немало – держался вполне достойно. Правда, на этом и споткнулся. Опрометчиво схлестнувшись с одним из головорезов, вынужден был ретироваться, попросту говоря, бежать из страны. Сначала рванул в Израиль, благо там проживали его родственники, а потом бог знает куда. Был слух, что скрылся в Австралии.