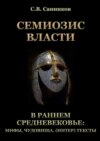Czytaj książkę: «Семиозис власти в раннем Средневековье: мифы, чудовища, (интер) тексты»
Любимой супруге Юлии
© Сергей Викторович Санников, 2021
ISBN 978-5-0053-0382-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение
Мне бы, признаться, хотелось повстречать единорога,
пробираясь через густой лес.
Иначе какое удовольствие пробираться через густой лес?
Умберто Эко. Имя розы
Проблема семиотического содержания власти может по праву считаться одной из методологически наиболее сложных проблем современных гуманитарных исследований. Работы Г. Лассуэла, Э. Кассирера, Ж. Лакана, Ж. Делеза, М. Фуко, П. Бурдье, Р. Барта, Ж. Бодрийяра, посвященные вопросам знаковых/символических оснований социальных отношений, позволили не только пересмотреть принятые в гуманитарных науках подходы к изучению феномена власти и оценке его роли в истории культуры, но и поставили вопрос о правомерности традиционного определения самого предмета исследования.
Методологический разворот от позитивистской парадигмы, в рамках которой «власть» изучалась как политический и правовой институт, к постмодернистскому прочтению власти как системы формирования реальности, категории знания и всеобщего подчинения дискурсивным практикам, привел к существенному расширению методологических границ исследований феномена власти.
Помимо политологии, социологии и исторической науки, власть становится объектом исследования в рамках широкого спектра дисциплин, таких как психология, философия, лингвистика, политическая антропология, культурология, а также многих других научных направлений. В условиях столь значительного разнообразия подходов семиотика приобретает особенное значение как «инстанция высшего порядка, через своего рода „редукцию“ к которой, а отнюдь не непосредственно, политика и язык образуют тесную взаимную сопряженность» [Ильин 2002]. В связи с этим нельзя не процитировать классика семиотической теории Ч. Морриса, полагавшего, что семиотика «может сыграть важную роль в деле объединения наук, хотя природу и степень участия семиотики в этом процессе еще предстоит выяснить» [Степанов, 2001].
На рубеже столетий эксперты обоснованно отмечали, что для продвижения в изучении пространства политических отношений «требуется создание особой политической семиотики власти» [Ильин 2002]. Данная оценка сохраняет свою актуальность, более того, принимая во внимание, что феномен власти вышел за рамки сугубо политического, представляется возможным несколько трансформировать приведенное выше высказывание примерно следующим образом: требуется создание особой семиотики власти.
Достаточно сложно однозначно определить, кто из авторов может считаться «первооткрывателем» семиотики (семиологии) власти. Теоретические положения логического направления американской семиотики (представленные в работах Чарльза Сандерса Пирса, Чарльза Морриса, Кларенса Ирвинга Льюиса) нашли прикладное применение в исследованиях представителей бихевиористского направления американской политологической школы. В статьях Гарольда Дуайта Лассуэлла, представленных в коллективной монографии «Язык политики: изучение количественной семантики» [Lasswell 1949], была предпринята попытка преодолеть дисциплинарные границы изучения политических явлений путем применения семиотической теории к классификации измерений языка политики (семантики и синтактики), анализа соотношения идеологии и политической мифологии, выявления механизмов распространения политических формул и доктрин. Предложенная автором модель политических коммуникаций стала одной из базовых моделей современной политической науки, а предложенный автором подход к количественному исследованию семантики сформировал основы современной теории дискурс анализа.
Значимый шаг в разработке направления семиологии власти был предпринят в рамках работ представителей французского интеллектуального направления структурализма. Одним из новаторов данного направления может считаться французский психоаналитик и философ Жак Мари Эмиль Лакан, основные подходы которого к изучению феномена власти были обозначены в серии семинаров и лекций 1968 г.
Научное творчество Ж. Лакана сложно поддается изучению в связи с тем, что «за исключением своей диссертации по психиатрии, написание которой было вызвано академическими требованиями, он не написал ни одной книги. Его статьи появлялись по воле обстоятельств, а не в силу внутренней потребности. Но, несмотря на то, что Лакан на протяжении многих десятилетий всячески противился фиксации своих устных выступлений, сегодня нам приходится иметь дело с поистине необъятной литературой. Прежде всего, 27 его „семинаров“, застенографированных и существующих во множестве вариантов. Частью они уже изданы в редакции Ж.-А. Миллера (только четыре тома вышли при жизни их автора). Поскольку редакция, по свидетельству многочисленных слушателей Лакана, была несколько вольной, существует потребность обратиться к стенограммам некоторых семинаров, особенно поздних, которые получили широкое хождение еще при жизни Мэтра» [Дьяков, 2010].
Ж. Лакан разрабатывал концепцию четырех связанных между собой дискурсов (дискурс господина, университета, истерика и аналитика): «Концепт дискурса занял видное положение в работе Лакана с введением четырёх дискурсов, которые первоначально были упомянуты в XVI семинаре, «От Другого к другому» (1968—69). Но, тем не менее, именно в течении последующего семинара, «Изнанка психоанализа» (1969—70), теория четырёх дискурсов была широко разработана, и была темой семинара того года. В дальнейшем Лакан прорабатывал эту теорию также в семинаре «Ещё» (1952—73), а также в «Радиофонии» (1969) и «Телевидении» (1973)» [Marks and Murphy, 2001].
Значимой вехой в изучении феномена власти стал выход работы Жиля Делеза и Пьера-Феликса Гваттари «Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип» [Deleuze and Guattari, 1972], исторические предпосылки появления которой удачно сформулировал Мишель Фуко в предисловии к американскому изданию книги: «В период 1945—1965 годов (я имею в виду Европу) существовал определенный тип правильного мышления, определенный стиль политического дискурса, определенная этика интеллектуала. Нужно было быть накоротке с Марксом, в своих мечтаниях не слишком отдаляться от Фрейда и обращаться со знаковыми системами – то есть с означающим – со всем причитающимся им почтением. Таковы были те три условия, которые делали приемлемым странное занятие, каковым является высказывание или запись частицы истины о себе и о своей эпохе. Затем прошло пять быстротечных, страстных лет, пять лет ликования и загадок… Конечно, в воздухе трясли старыми штандартами, но бой сменил свою дислокацию, перешел на новые территории» [Делёз, Гваттари, 2007].
Концепция «власти» Мишеля Поля Фуко в наиболее завершенной форме представлена в его работе «Воля к истине» [Foucault, 1976]. Как отмечает Ю. С. Степанов, «сам М. Фуко… не ощущает свою близость к семиотическим идеям, в частности Р. Барта, но эта близость несомненна», а «метод, разрабатываемый Фуко в его книгах… это общий семиотический метод» [Степанов, 1971].
Люсьен Гольдман весьма емко охарактеризовал роль философских концепций М. Фуко в системе взглядов французского структурализма: «Среди выдающихся теоретиков школы, которая занимает важное место в современной мысли и характеризуется отрицанием человека вообще, а исходя из этого – субъекта во всех его аспектах, точно так же, как и автора, Мишель Фуко… является, несомненно, одной из наиболее интересных и наименее уязвимых для спора и критики фигур. Поскольку Мишель Фуко сочетает с философской позицией, фундаментальным образом антинаучной, замечательную работу историка… Мишель Фуко не является автором и, уж конечно, установителем всего того, что он нам только что сказал. Поскольку отрицание субъекта является сегодня центральной идеей целой группы мыслителей, или, точнее, – целого философского течения. И даже если внутри этого философского течения Фуко и занимает особенно оригинальное и яркое место, его, тем не менее, следует интегрировать в то, что можно было бы назвать французской школой негенетического структурализма, включающего, в частности, имена Леви-Стросса, Ролана Барта, Альтюссера, Деррида» [Фуко, 1996].
Наконец, знаменитая актовая лекция Ролана Барта, произнесенная им при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологией в Коллеж де Франс 1977 г. Как отмечает Г. К. Косиков, фраза «никакой власти» – самохарактеристика Барта: «ему принадлежала интеллектуальная власть, власти подлинной он избегал, предпочитая уважение и знаки любви. В нём сохранилось нечто подростковое. Он не хотел навязывать истины даже самому себе. Потому, вероятно не умел и защищаться. Флюиды власти не исходили от работ Барта. Приступая к ним, читатель торжествует: вот, думает он, оружие, которым смогу пользоваться и я. Однако надежда оказывается обманутой. Слова Барта не превращаются в оружие. Текст не кристаллизуется, развеивается… (Ц. Тодоров). Сама жизнь Барта оказалась протестом против Власти. Этот человек представлял собою редкий случай, когда „жизнь“ и „творчество“ совпадают, складываясь в „судьбу“. Деятельность Барта направлена на подрыв принципа власти как такового, и прежде всего – власти идеологии» [Косиков, 2001].
Работы исследователей более позднего периода, представленные различными направлениями дискурс-анализа, заслуживают отдельного внимания с точки зрения прикладных аспектов, прежде всего – метода и инструментария, но уже практически не содержат существенных концептуальных дополнений с точки зрения развития семиотических подходов к изучению самого феномена власти.
Рассматриваемая в настоящем исследовании исследовательская проблема состоит в эпистемологической неопределенности, связанной с ограниченными возможностями реализации эвристического потенциала структуралистских и постструктуралистских подходов применительно к деконструкции различных форм власти при отсутствии концептуального выхода из семиосферы эпохи модерна в диахронические семиосферы.
Объектом исследования являются тексты, функционирующие в системе кодов культуры, где доминирующую роль играет семантический (символический) тип кода культуры.
Предметом исследования является процесс коммуникативной актуализации конвенционально закрепленных и обладающих императивной интенцией смыслов, явлений, идей и идеологий, порождаемых множественностью отношений силы в игре подвижных отношений неравенства (данное определение предмета исследования интегрирует составляющие дефиниции понятия «дискурс власти», предложенной В. Э. Согомоняном [Согомонян, 2012], с концепцией власти М. Фуко).
Цель исследования заключается в изучении процесса семиозиса власти на материале семантического типа культуры.
Принимая во внимание, что теоретики семиотики расходятся во мнениях о сущности, составляющих, механизмах происхождения и функционирования знака, а проблемное поле семиотики зачастую смещается в сторону анализа когнитивных процессов и биологических аспектов коммуникации, исследователю культуры при выборе соответствующих методологических оснований работы целесообразно руководствоваться спецификой объекта исследования.
Объектом настоящего исследования являются тексты (интертексты), функционирующие в системе кодов культуры, где доминирующую роль играет семантический (символический) тип кода культуры, в связи с чем определяющее методологическое значение имеют подходы к интерпретации феноменов культуры, текста и культурного кода.
Семиотика культуры получила наиболее подробную разработку в рамках Московско-Тартуской семиотической школы, представителями которой разрабатывались лингвосемиотические концепции культуры как текста или языка. Данный методологический подход открыл широкие возможности применения семиотических методов исследования к изучению различных аспектов «пантекстуальности» культуры, приблизив таким образом российскую семиотику к парадигме западноевропейского постструктурализма. Необходимо, однако, отметить, что подобные модели интерпретации культуры, продуктивные с точки зрения методологии лингвосемиотических исследований, требуют определенной осторожности. Как весьма точно отметил Р. Шартье, «было бы ошибкой бесконтрольно использовать категорию текста применительно к практикам (бытовым или ритуальным), чьи тактики и процедуры нисколько не похожи на стратегии производства дискурсов. Это различие очень важно: оно позволяет, по словам Бурдьё, «не подменять принцип, на котором строится практика реальных лиц, теорией, созданной для описания этой практики», или же не проецировать «на сами практики то, что является функцией этих практик [не для их агентов], а для человека, изучающего их как нечто, подлежащее дешифровке» [Шартье, 2006].
Помимо метафоры текста и языка в рамках Московско-Тартуской школы была предложена и другая весьма продуктивная модель культуры, разработанная Ю. М. Лотманом на позднем этапе его научного творчества. Речь идет о концепции семиосферы как знакового измерения культуры. Ю. М. Лотман описывает семиосферу как семиотическое пространство, в рамках которого взаимодействуют соответствующие знаковые системы (языки и тексты культуры). Относительно вопроса о соотношении понятий семиосфера и культура мы полагаем обоснованной точку зрения В. П. Руднева о том, что «семиосфера – это семиотическое пространство, по своему объекту, в сущности, равное культуре» [Руднев,1997].
Семиосфера представляет собой «семиотический континуум, заполненный разнотипными и находящимися на разном уровне организации семиотическими образованиями», который, по аналогии с введенным В. И. Вернадским понятием «биосфера», Ю. М. Лотман предлагает называть «семиосферой». В соответствии с концепцией автора семиосфера «есть то семиотическое пространство, вне которого невозможно само существование семиозиса» [Лотман, 1992].
Концепция семиосферы особенно продуктивна с точки зрения изучения пограничных культурных пространств, формирование которых в значительной степени обусловило специфику средневековой культуры. Весьма характерно то, что в исследовании семиосферы Ю. М. Лотман уделяет большее внимание границе, нежели ядру данного пространства. Именно граница оказывается ареалом интенсивной культурной коммуникации и перевода, формирующего предпосылки своеобразных культурных взрывов и волновых процессов, происходящих в рамках семиосферы: «Граница семиотического пространства – важнейшая функциональная и структурная позиция, определяющая сущность ее семиотического механизма. Граница – билингвиальный механизм, переводящий внешние сообщения на внутренний язык семиосферы и наоборот. Таким образом, только с ее помощью семиосфера может осуществлять контакты с несемиотическим и иносемиотическим пространством. Как только мы переходим к области семантики, нам приходится апеллировать к внесемиотической реальности. Однако не следует забывать, что эта реальность становится для данной семиосферы „для себя реальностью“ только в той мере, в какой она переводима на ее язык… На уровне семиосферы она означает отделение своего от чужого, фильтрацию внешних сообщений и перевод их на свой язык, равно как и превращение внешних несообщений в сообщения, т. е. семиотизацию поступающего извне и превращение его в информацию. С этой точки зрения, все механизмы перевода, обслуживающие внешние контакты, принадлежат к структуре семиосферы» [Лотман, 1992].
Описание процессов взаимодействия ядра и периферии семиосферы дает основания полагать, что определенное влияние на формирование концепции семиосферы Ю. М. Лотмана оказала теория мир-системного анализа И. Валлерстайна. «Семиотическое пространство характеризуется наличием ядерных структур (чаще нескольких) с выявленной организацией и тяготеющего к периферии более аморфного семиотического мира, в который ядерные структуры погружены. Если одна из ядерных структур не только занимает доминирующее положение, но и возвышается до стадии самоописания, и, следовательно, выделяет систему метаязыков, с помощью которых она описывает не только самое себя, но и периферийное пространство данной семиосферы, то над неравномерностью реальной семиотической карты надстраивается уровень идеального ее единства. Активные взаимодействия между этими уровнями становятся одним из источников динамических процессов внутри семиосферы» [ibid.]. «В разные исторические моменты развития семиосферы тот или иной аспект может доминировать, заглушая или полностью подавляя другой. Граница имеет и другую функцию в семиосфере: она – область ускоренных семиотических процессов, которые всегда более активно протекают на периферии культурной ойкумены, чтобы оттуда устремиться в ядерные структуры и вытеснить их» [ibid.].
Как уже отмечалось выше, категория текста занимает одно из центральных мест в онтологии Московско-Тартуской школы. Необходимо при этом отметить, что между концепциями текста, представленными в работах Ю. М. Лотмана и представителей парадигмы постструктурализма (например, Р. Барта, Ю. Кристевой, Ж. Бодрийяра) присутствуют существенные отличия.
В концепции Р. Барта постулируется принципиальное отличие категории текста от категории произведения, а именно – открытое пространство текста, которое противопоставляется замкнутости произведения: «В том современном, новейшем значении слова, которое мы стремимся ему придать, Текст принципиально отличается от литературного произведения: это не эстетический продукт, а знаковая деятельность; это не структура, а структурообразующий процесс; это не пассивный объект, а работа и игра; это не совокупность замкнутых в себе знаков, наделенная смыслом, который можно восстановить, а пространство, где прочерчены линии смысловых сдвигов…» [Барт, 1993].
Иной подход представлен в работах классиков Московско-Тартуской школы: «Что же касается Лотмана, то можно сказать, что у него текст всегда таит в себе некий код, производный от того универсального метода описания и реконструкции, который представляет собой семиотика. Текст никогда не является ни телом, ни каким-то местом опровержения субъекта, но лишь производством и передачей художественной информации (эта теория изложена в лотмановской «Структуре художественного текста»). Эффект взаимодействия или компромисса между текстом и читателем здесь не обсуждается. Задавшись вопросом о понятии текста, Лотман приходит к тому, что текст «замкнут и ограничен в пространстве» [Ландольт, 2011]. Сравнивая данные подходы, можно сказать, что концепт «текст» Ю. М. Лотмана скорее ближе к концепту «произведения» Р. Барта, однако, данный вопрос требует отдельного исследования.
Согласно Р. Барту, «основу текста составляет не его внутренняя, закрытая структура, поддающаяся исчерпывающему изучению, а его выход в другие тексты, другие коды, другие знаки; текст существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интертекстуальности» [Барт, 1989]. «Всякий текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски „источников“ и „влияний“ соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без кавычек» [ibid.].
Метод текстового анализа представлен Р. Бартом в его знаменитых работах «S/Z» и «Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По». Цель данного анализа сформулирована автором следующим образом: «…попытаться уловить и классифицировать (ни в коей мере не претендуя на строгость) отнюдь не все смыслы текста (это было бы невозможно, поскольку текст бесконечно открыт в бесконечность: ни один читатель, ни один субъект, ни одна наука не в силах остановить движение текста), а, скорее, те формы, те коды, через которые идет возникновение смыслов текста. Мы будем прослеживать пути смыслообразования. Мы не ставим перед собой задачи найти единственный смысл, ни даже один из возможных смыслов текста… Наша цель – помыслить, вообразить, пережить множественность текста, открытость процесса означивания» [ibid.].
Существует большое количество подходов к пониманию культурного кода, специфика которых определяется методологическими предпосылками конкретного исследователя. Можно выделить структуралистский подход У. Эко, в соответствии с которым код – это «структура, представленная в виде модели, выступающая как основополагающее правило при формировании ряда конкретных сообщений, которые благодаря этому и обретают способность быть сообщаемыми» [Эко, 1998]. Представляется, что данное определение весьма близко концепции кода Московско-Тартуской школы. Культурный код, в соответствии с концепцией Московско-Тартуской школы, является ключевым элементом дешифровки соответствующего текста.
В западноевропейском постструктурализме понятие кода является менее определенным и не столь значимым, что, однако, не умаляет его когнитивный потенциал: «Само слово „код“ не должно здесь пониматься в строгом, научном значении термина. Мы называем кодами просто ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию значений, которые навязывают представление об определенной структуре; код, как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры: коды – это определенные типы уже виденного, уже читанного, уже деланного; код есть конкретная форма этого „уже“, конституирующего всякое письмо» [Барт, 1989].