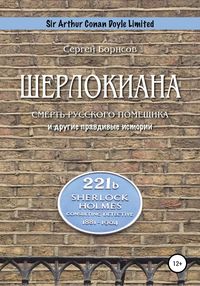Czytaj książkę: «Шерлокиана. Смерть русского помещика и другие правдивые истории»
Как я стал Конан Дойлом
История одной мистификации
Я стал классиком зимой 1990 года. Стал не корысти ради, а токмо волею обстоятельств, главным из которых было послегриппозное состояние.
Грипп накатывает на Москву каждую зиму, но до поры меня миловал. По правде сказать, я даже думал, что люди, подхватившие эту заразу, преувеличивают свои страдания. Ахают, охают… Вместо того, чтобы книжки читать. Поэтому, когда у меня запершило в горле и засвербило в носу, я обрадовался: ну, теперь отдохну, поваляюсь, начитаюсь вдосталь.
Ничуть не бывало. Несколько дней я лежал мокрый, как мышь, пил клюквенный морс и путал день с ночью. Однако в конце концов грипп отступил от моего бренного (тогда я понял, что оно бренное) тела. Пару дней я тупо пялился в «ящик», а потом стал чередовать это занятие с чтением. Читал же я давно намеченное к повторению – «Братьев Карамазовых» Достоевского. А когда закрыл последнюю страницу – сюрприз: по телевизору фильм Ивана Пырьева по этой книге. Тут-то все и произошло. А именно: кино, ясное дело, все в точности передать не может, поскольку ограничено и временем, и выразительными средствами, однако кое-какие вещи подчеркнуть в состоянии. Например, шероховатости сюжета, которые в романе не так уж важны и почти не заметны.
Я вновь схватился за книгу, потом – за ручку, и в два дня написал рассказ «Смерть русского помещика». Дескать, сидят Шерлок Холмс и Уотсон (писать следует так, если следовать первым переводам Конан Дойла) у себя на Бейкер-стрит, и беседуют о романе Федора Михайловича. Уотсон все вопросы задает, а сыщик льет на доктора ушаты холодной воды, доказывая цитатами из книги и логическими умозаключениями, что Карамазова-старшего мог убить любой из его сыновей, даже такой кроткий на вид Алеша. А чтобы рассказ приобрел необходимую достоверность, я снабдил его множеством ссылок, в том числе на тот «неоспоримый» факт, что, приехав в Лондон (было), Достоевский, гостя у Герцена (было), встретился там с представителями семейства Холмсов (не было и быть не могло) – папой-Холмсом и его отпрысками, Майкрофтом и Шерлоком.
Короче, повеселился я от души и тем бы мои конандойловские штудии закончились, не приди мне мысль показать написанное друзьям из газеты «Книжное обозрение». Они прочитали, похвалили сдержанно и… предложили устроить конкурс, опубликовав рассказ под именем сэра Артура (я – переводчик-изыскатель) и задав читателям вопрос: отчего данное произведение так долго не могло увидеть свет?
Дернул черт согласиться! Однако сделанного не воротишь. Рассказ был напечатан, провокационный вопрос задан. И полетели письма. Чего в них только не было: «неудачная вещица», «голословные рассуждения»… К чести читателей, многие сообразили, что имеют дело с подвохом, что их намеренно вводят в заблуждение. За что эти «многие» и были премированы.
Конец конкурса – не конец истории. Через год мое творение появилось в сборнике детективных рассказов, потом в свежеизданном собрании сочинений Артура Конан Дойла – и пошло-поехало. Одно собрание, другое, третье, сборник тут, сборник там, газеты, журналы, наконец, Интернет. Я звонил, объяснял, требовал извинений передо мной, читателями и памятью английского писателя. Иногда извинялись, иногда платили гонорар как переводчику, но чаще отделывались молчанием.
Вот так я стал классиком. Но урок из происшедшего вынес. Главный из них – не пытаться мистифицировать читателя. Во избежание! И на протяжении многих лет, без малого сотни рассказов и десятка повестей мне это удавалось. Но потом тучи вновь сгустились…
Дело в том, что благодаря «Помещику» я познакомился с людьми удивительными! Они меня приметили, приветили и буквально понудили вновь вернуться к, казалось, навсегда оставленной теме. И я написал повесть «Дело о трех трубках», учтя возможные негативные последствия и, надеюсь, благополучно избежав их.
Повесть эта о романтиках. Иначе не назвать людей, делом жизни поставивших восхваление гения Великого Детектива. Бессмертного гения, ибо, по их глубочайшему убеждению: 1. Шерлок Холмс и доктор Уотсон – реальные личности; 2. они доныне живы и здоровы; 3. сэр Артур Конан Дойл всего лишь литературный агент, посредством которого были преданы гласности записки доктора Уотсона; 4. эти записки, то бишь четыре романа и пятьдесят шесть рассказов, есть «сакральные тексты», которые не подлежат критике, но лишь благоговейному осмыслению. Остальные пункты кодекса, которому следуют члены таких объединений, как «Нерегулярная армия с Бейкер-стрит» в Нью-Йорке, «Собаки Баскервилей» в Чикаго, Лондонское, Парижское, Уральское холмсианские общества оставим за скобками, отметим лишь, что они столь же непререкаемы. Усилиями этих подвижников увидели свет такие примечательные книги, как энциклопедия «Шерлокиана» Джека Трейси и псевдомемуары «Я, Шерлок Холмс» М. Харрисона, где доказывается, в частности, что Холмс родился 6 января 1854 года и в этот день стоял сильный мороз. Это стараниями «холмсианских» обществ в Англии и Европе немало мемориальных мест, связанных с Великим Детективом, ставших объектами паломничества сотен тысяч туристов, для которых Шерлок Холмс «живее всех живых». И в этом все же прежде всего заслуга «агента» Конан Дойла, о котором Кристофер Морли, глава «Нерегулярной армии», однажды сказал: «Это абсурд, что Конан Дойл возведен только в дворянское достоинство, его следовало причислить к лику святых».
Я не столь категоричен, однако что-то в этом есть… И потому мои журналистские и литературные опыты в этой области – рассказ, повесть и детскую энциклопедию «Шерлок Холмс» – прошу рассматривать как овеществленный знак глубочайшего уважения к истинным благодетелям человечества – сэру Артуру Конан Дойлу и Шерлоку Холмсу, эсквайру.
Смерть русского помещика
Рассказ
Разбираясь как-то в своем архиве, просматривая дневники, которые вел все годы моего знакомства и, осмелюсь утверждать, дружбы с мистером Шерлоком Холмсом, я наткнулся на несколько страничек, живописующих наш разговор одним далеким ноябрьским вечером. Выцветшие строки, бегущие по пожелтевшим листкам, вернули меня в тот промозглый ненастный день, когда мы с Холмсом сидели перед пылающим камином, а за окном в извечном лондонском тумане тонули газовые фонари Бейкер-стрит.
Это был один из тех дней, когда перед Холмсом не стояла задача, решая которую он мог применить свой знаменитый дедуктивный метод, его мозг простаивал, изнывал, лишенный пищи, и я со страхом ожидал той минуты, когда рука Холмса потянется к несессеру, в котором он держал шприц и морфий. Однако, поглядывая время от времени на моего приятеля, я не замечал ничего, что свидетельствовало бы о том, что он собирается прибегнуть к этому страшному средству, и я с самонадеянностью думал, что, вероятно, на него-таки подействовали мои увещевания. Откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, Холмс небрежно водил смычком по струнам лежащей на коленях скрипки, извлекая из нее грустные, протяжные звуки.
Успокоенный, я возвращался к книге, которую читал весь этот бесконечный день. Наконец, я перевернул последнюю страницу, закрыл книгу и с грустью провел ладонью по золотому тиснению обложки. Талант автора покорял. Чувства настолько переполняли меня, что я встал и отошел к окну. Скрестив руки на груди, я следил за немногочисленными прохожими.
– Какая загадочная книга! – не сдержался я. И тут услышал спокойный голос Холмса:
– Книга неплохая, но не без недостатков.
– Вы читали «Братьев Карамазовых»? – Я был поражен. Читатели, знакомые с моими рассказами о Шерлоке Холмсе, кои я представляю их вниманию уже не один год, безусловно, осведомлены о том, что этот ни на кого не похожий человек, обладающий огромными знаниями в весьма специфических областях, тем не менее был невежей во всем, что касалось литературы и философии.
– Дорогой Уотсон, – сказал Холмс. – Я не изменил своим принципам и по-прежнему считаю, что неразумно забивать мозговой чердак рухлядью, которая только занимает место и бесполезна в моей работе.
– Так что же побудило вас прочитать эту книгу? – недоуменно поинтересовался я, опускаясь в кресло.
– Две причины. Во-первых, как всякий англичанин, я сентиментален, воспоминания детства накрепко сидят во мне, и я не желаю с ними расставаться. Дело в том, что мой отец, человек передовых взглядов, дружил с Герценом, известным русским революционером и писателем. Посещая его, он иногда брал с собой меня и моего старшего брата Майкрофта. В один из таких визитов мы и застали в этом гостеприимном доме Достоевского, будущего автора этой книги1.
– Есть и во-вторых?
– Разумеется.
– Так просветите меня.
– Во-вторых, эта книга о преступлении, хотя я догадывался, что не только о нем.
– Но это же вымысел! – воскликнул я.
Холмс отложил смычок, набил трубку, закурил и, окутавшись клубами дыма, произнес:
– Да, действительно… А впрочем, для меня это было не так важно. Хотя, должен заметить, меня не покидают подозрения, что в основе сюжета лежит реально совершенное преступление2.
– В конце концов это не принципиально, – раздраженно сказал я. – Сюжет для автора столь серьезного произведения лишь средство наиболее точно и полно донести до читателя свои мысли. Насколько тщательно продуман сюжет, настолько облегчается задача писателя.
– Совершенно с вами согласен. Но именно в сюжете я вижу изъяны, которые дают мне право говорить, что книга не лишена недостатков.
– Вы можете обосновать свое утверждение? – с подозрением спросил я.
– Конечно, Уотсон, конечно! – засмеялся Холмс. – Ответьте хотя бы на вопрос: кто убийца?
Я пожал плечами, удивленный нелепостью вопроса.
– Лакей. Смердяков. Боже, как трудны для произношения русские фамилии…
– Насчет фамилий я с вами согласен, для меня они тоже представляют определенную сложность. Но что касается лакея, я не был бы так категоричен.
– То есть?!
– А почему вы считаете, что убил Смердяков? – невозмутимо спросил Холмс.
– Он сам рассказал об этом старшему из братьев, Ивану.
– Правильно. Сам рассказал. Иначе бы откуда вы об этом узнали, ведь автор описывает сцену убийства его словами. Полноте, Уотсон, вы же опытный врач, у вас не возникли сомнения, вы сразу же поверили этому признанию?
Я оторопело смотрел на Холмса, не в силах вымолвить ни слова. Между тем Шерлок Холмс продолжал, с видимым удовольствием попыхивая трубкой.
– Смердяков – больной человек, психика его расстроена. Тому свидетельство само его происхождение от сумасшедшей Лизаветы Смердяковой и Федора Павловича, который тоже не отличался тихим нравом, будучи раздражительным, взбалмошным, нетерпимым. Смердяков – типичный эпилептик, организм которого, и прежде всего мозг, измучен припадками. Пусть он не падал в погреб, пусть симулировал припадок, это ничего не меняет и не является подтверждением истинности его слов. На следующее утро его и вправду скрутило так, что он оказался в больнице и провел два дня в беспамятстве. И вы, Уотсон, думаете, что я поверю в признание этого человека?
Видя мое замешательство, Холмс улыбнулся.
– Вы можете сказать, что настоящий припадок у Смердякова начался утром, то есть после убийства Федора Павловича, а до того, следовательно, он находился в здравом уме и твердой памяти, из чего можно заключить, что он говорит правду. Но разве вы не знаете, что нередки случаи частичного помутнения рассудка за два, три, четыре часа до собственно припадка?
– Выходит, он оговорил себя?
– Нет! Он сказал правду, но ту правду, в которую верил сам. На самом же деле он лишь внушил себе, что убил он, внушил, находясь под сильнейшим воздействием слов Ивана Карамазова, произнесенных последним в их разговоре у калитки. Смердяков хотел убить, он готовил преступление, он столько раз совершал его мысленно, что когда волею обстоятельств был вычеркнут из им же созданной схемы, то горячечное сознание восстало против отклонения.
Голос Шерлока Холмса действовал на меня гипнотически.
– Видимо, все происходило следующим образом, – не торопясь говорил Холмс. – Смердяков слышит крик Федора Павловича, а потом и вопль Григория. Выждав некоторое время, он выходит в сад, видит открытую дверь, входит. Перед ним на полу окровавленный труп помещика. Смердяков подходит к иконостасу, забирает конверт, вынимает из него 3000 рублей, пустой конверт бросает на пол, дабы отвести подозрения от себя и бросить тень на Дмитрия, и уходит в полной уверенности, что это он убил Карамазова-старшего. Ведь все так точно совпало с тем, что ему десятки и сотни раз мерещилось.
Несколько минут мы сидели молча, пока я не рассмеялся.
– Нет, Холмс! Ваши слова – гипотеза, которая составила бы честь писателю, психиатру. Но вы же признаете только факты! А их как раз у вас и нет.
– Чем был убит Федор Павлович? – неожиданно резко спросил Шерлок Холмс, наклоняясь ко мне.
– Пестиком, – пролепетал я, озадаченный вопросом.
– Разве?
Я потянулся за книгой, но Холмс движением руки остановил меня.
– Не трудитесь. Я вам напомню. Смердяков говорит: «Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное, на столе у них-с, фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом». Заметьте, Уотсон, углом! Там почему же на суде фигурировал пестик? Да потому, что удары были действительно нанесены им! И тут вы, возможно, сами того не желая, оказываетесь правы. Пестик! Вот факт, на котором базируются мои рассуждения. Даже если бы ошиблись медики, осматривавшие тело Федора Павловича Карамазова, даже если бы они не обратили внимание на то, что ранения имеют совершенно иные характерные особенности, чем при ударе достаточно длинным округлым предметом, то суд присяжных, в те времена только-только введенный в России3, не упустил бы этой детали и исправил оплошность. Но если Карамазов-старший был убит пестиком, а не пресс-папье, как утверждал Смердяков, то и убийца не он. Это очевидно, Уотсон! Кстати, лакей уверял, что вытер пресс-папье и поставил его на место. Да будет вам известно, что уничтожить следы крови отнюдь не так просто, как думают некоторые, а потому любой человек, вооруженный увеличительным стеклом, сразу бы понял, в чем дело.
Я был не просто обескуражен доводами Холмса, я был раздавлен ими. А он между тем все так же методично ронял слово за словом.
– Вспомните последний разговор Смердякова с Иваном Карамазовым. Смердяков находится в состоянии крайнего нервного возбуждения, он балансирует над бездной, имя которой – Безумие. Не логично ли, в таком случае, допустить, что его мучают сомнения, что остатки разума протестуют против утверждения «я убил». И самоубийство Смердякова – это не раскаяние, не крушение надежд, это невозможность сосуществования в одном человеке двух полярных, взаимоисключающих «я»: Я-убийца и Я-не убийца. Измученное сознание лакея не выдерживает этой раздвоенности. Своим самоубийством Смердяков лишает суд не обвиняемого, но свидетеля, так как нет гарантии, что не найдется человек, который, выслушав его путаный бред, сможет разобраться в истинном течении событий. Другое дело, принял бы суд во внимание показания Смердякова? Ведь, что ни говори, а Смердяков психически больной человек, то есть человек с ограниченной ответственностью. Думаю, что нет.
Я слушал Холмса, а на языке уже вертелся вопрос. Когда Холмс умолк, я вскричал в возбуждении:
– Но кто же тогда убийца?
– Римляне вопрошали: «Кому это выгодно?». Прислушаемся к ним и определим побудительный мотив. Очевидно, что мотив этот – деньги. В сущности, в романе фигурируют две суммы, каждая из которых могла стать потенциальной причиной смерти Федора Карамазова: 3000 рублей, предназначенные Федором Павловичем Грушеньке, и 120000 рублей – наследство, которое в случае смерти отца получат братья Карамазовы. Итак, 3000 рублей. Кого они могли заинтересовать? Смердякова. Эта сумма, вкупе с той, которую он надеялся получить от Ивана Карамазова, позволила бы ему уехать в Париж. Иначе говоря, обладая этими деньгами, он мог реализовать мечту о собственном ресторане. Но Смердяков не убивал, так?
Я согласно кивнул головой. Холмс не заметил этого, было видно, что он сам увлекся своими рассуждениями.
– Кто еще? – спросил он и сам же ответил: – Дмитрий, средний брат. Ему эти три тысячи были необходимы, чтобы погасить часть своего долга Катерине Ивановне и тем самым обрести уверенность, что он еще не совсем пропащий человек. Однако, и мы это можем смело утверждать, Дмитрий отца не убивал. Повествование о действиях Мити той ночью ведет автор, а ему мы обязаны верить. Итак, делаем вывод: 3000 рублей не являются причиной убийства.
– Наследство, – прошептал я.
– Да, наследство! – торжественно произнес Холмс. – 120000 рублей, огромные деньги. Кто наследует состояние Федора Павловича? Иван, Дмитрий, Алеша. Братья Карамазовы. Дмитрий не убивал, это мы уже выяснили. Остаются Иван и Алеша. Алеша и Иван. Кто из них?
Холмс оторвал глаза от пляшущих в камине язычков пламени и посмотрел на меня. Мне стало жутко.
– Так кто же из них? – повторил мой друг. – Давайте проанализируем действия этих кандидатов в отцеубийцы. Иван. Мог ли он совершить это преступление? Мог. Правда, он говорит Смердякову, что уезжает в Чермашню, тем самым развязывая тому руки, давая, в сущности, согласие на убийство отца. Именно так трактует Смердяков слова Ивана, именно так и было в действительности. Уезжать-то Иван уезжает, но пребывает ли в Чермашне неотлучно? Указания на это, кроме его собственных слов, в романе нет. Почему не допустить, если предположить противоположное: каждую ночь Иван наведывается в сад отца, дабы лицезреть, как лакей Смердяков приводит в исполнение то, что он, Иван, внушил ему? Да, такое допущение возможно. Как развиваются в таком случае события? Иван видит Дмитрия, видит, как тот бьет по голове Григория и… убегает. По комнате мечется Федор Павлович. Смердякова нет. План рушится, и у старшего из братьев возникает мысль воспользоваться удобным случаем. Он проникает в дом и убивает отца. В последнее мгновение, успев скрыться в саду, он видит Смердякова, понимает, что тот не в себе, наблюдает за его поведением в доме (это ему позволяет настежь открытое окно) и решает тяжесть преступления переложить либо на его плечи, либо на плечи Дмитрия. На чьи именно, покажет будущее, но, разумеется, Иван с его аналитическим умом, предпочел бы видеть на скамье подсудимых брата, нежели лакея: брат, будучи осужден, лишится права на наследство, и тем самым доля Ивана возрастет на 20000 рублей. Именно поэтому даже во время разговора со Смердяковым, их последнего разговора, в котором лакей признается в убийстве Федора Павловича, Иван не хочет верить его словам – 20000 ускользают из его рук.
– Убийца он! – вскричал я.
– Вы, как всегда, торопитесь с выводами, Уотсон, – невозмутимо заметил Холмс. – При внешней цельности и логичности нарисованная картина не выдерживает никакой критики. Вспомните: Иван, говоря, об убийстве, прежде всего решал идею в принципе, идею права на убийство, идею целесообразности уничтожения зла, которое для него олицетворял Федор Павлович Карамазов, его отец. Конечно, мы понимаем, что разговором у калитки Иван не только наводил Смердякова на мысль, но впрямую подталкивал того к убийству Карамазова-старшего, хотя надо отметить, и не говорил прямо: «Иди и убей!». Но именно этот приказ звучит в подтексте его слов. А потому Иван, если согласится с тем, что убил Смердяков, является истинным виновником преступления. Но Смердяков не убивал. Возникает вопрос: «Мог ли убить Иван?». Действительно, мог ли он перейти, так сказать, от слов к делу? Выше я уже ответил на этот вопрос, и ответил положительно. Но ответ мой опирался исключительно на географию и время, я имею в виду отъезд Ивана в Чермашню, и никоим образом не затрагивал психологический аспект. Не забывайте, Иван человек трезвомыслящий, лихорадочное возбуждение, которое в конце концов приводит его к безумию, настигает старшего из братьев уже после смерти отца. Мог ли такой человек поднять брошенный Дмитрием пестик и хладнокровно размозжить череп родному отцу? Мог ли, понимая, что, если ему не удастся ввести в заблуждение следствие, двадцать лет каторги ему обеспечено? Сомнительно, Уотсон сомнительно! Не мне вам говорить, какой глубины пропасть разделяет слово и поступок. К тому же, опираясь на собственный опыт в расследовании преступлений, должен отметить, что человек, без конца рассуждающий об убийстве, как правило, никого не убивает; и напротив, человек, планирующий убийство, не говорит о нем на каждом углу, – он не может не понимать, что в таком случае подозрения падут прежде всего на него самого. Это, кстати, подтверждает тот факт, что чиновник Перхотин, расследующий данное преступление, сразу же главным подозреваемым делает Дмитрия, который был весьма несдержан в изъявлении своих чувств к отцу. Но угрозы Дмитрия, как и теоретические рассуждения Ивана, не свидетельствуют об их вине, как раз наоборот, они доказывают их невиновность. И последнее. Вспомните, Уотсон, действия Ивана после возвращения в Ско-то-при-го-ньевск. Черт побери! – не выдержал Холмс. – Названия городов у русских так же труднопроизносимы, как их фамилии. Однако я отвлекся… Итак, вспомните действия Ивана, подчеркиваю, действия, а не слова, в правдивости которых при желании можно усомниться. Его визиты к Катерине Ивановне, первый и второй приход к Смердякову, короткий разговор с Алешей, все это доказывает, что он не только не убивал отца, но убежден, что убил Дмитрий. Помимо прочего, и авторский голос Достоевского уверяет нас в этом. А теперь резюме: как и Смердяков, Иван мысленно убивал отца, и не раз, но Иван невиновен, хотя, поверив лакею, приходит к осознанию своей вины и перед отцом, и, в большей степени, перед безвинно арестованным Дмитрием; как результат, железный характер Ивана ломается, его рассудок погружается в мрак помешательства. «Прощайте, прежний смелый человек!» – вот последние слова Смердякова, адресуемые Ивану.
Холмс замолчал. Меня колотил озноб.
– Тогда… Но это невозможно! Вы отдаете себе отчет?.. – сказал я, запинаясь.
– Почему? – Шерлок Холмс коротко взглянул на меня и тут же отвел глаза. – Помилуйте, Уотсон, почему вы так уверены в безгрешности Алеши?
– Алеша – средоточие всего лучшего, что есть в людях. – Я был так возмущен диким, кошмарным предположением Холмса, хуже того, его уверенностью и его спокойствием, что не посчитал нужным скрывать своего отношения к его словам. – Как и вы, Холмс, я принадлежу к англиканской церкви, а потому мне чуждо учение гуманного православия, противостоящее закостенелости православия официального, однако, младший Карамазов, как носитель этого учения, мне импонирует: многое из того, что говорит Алеша, созвучно моим мыслям и убеждениям. Какой верой, каким сознанием собственной правоты проникнуты его слова у камня в эпилоге! Сколько доброты в его призыве к сгрудившимся вокруг него мальчикам! Какая кротость!
– И этой кротостью, этим смирением, – перебил меня Холмс, – продиктован его возглас: «Расстрелять!».
Я ошеломленно смотрел на Холмса и чувствовал, что задыхаюсь.
– Не забывайте об этом вопле души, – продолжал мой друг, – Когда Иван поведал младшему брату историю о мальчике, затравленном собаками, тот ни секунды не колебался в определении наказания, отбросив в сторону свои религиозные воззрения.
– Любой на его месте сказал бы то же самое! – убежденно заявил я.
– Не уверен.
– Вы циник, Холмс.
– Я реалист, Уотсон. Алеша в вашем представлении человек, по сути являющийся идеалом, и вы не желаете разрушать сложившийся образ, не желаете видеть в нем, в его поведении и словах каких бы то ни было изъянов. Но их вижу я. И допускаю, что, произнося свой приговор, Алеша показал на мгновение свое истинное лицо, скрытое до поры под маской благочестия. Прав Алеша, правы и вы, что поступок неведомого помещика заслуживает самой суровой кары. Но дело не в этом. Алеша мог – понимаете, Уотсон, мог! – вынести приговор человеку, даже если того правильнее назвать зверем.
Я молчал, а Холмс продолжал свой монолог.
– Дорогой Уотсон, я убежден, что зло и добро равно существуют в человеке, находясь в постоянной непримиримой борьбе. И Алеша не исключение. Пока рядом был его духовник отец Зосима, в душе Алеши брало верх добро. Но почему не допустить, что слова Ивана о ненужности, вредности существования злых и порочных людей возымели на Алешу столь же разрушительное действие, что и на Смердякова? Почему не предположить, что, впитав в себя слова старшего брата, Алеша сделал тот шаг, разделяющий замысел и его исполнение, на который оказался не способен Иван? Вспомните, что пишет Достоевский о чувствах Алеши в ночь после смерти старца. «Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на века веков». Не тогда ли, у гроба иеромонаха, единственного, кто в представлении Алеши воплощал добро и свет, принимает Карамазов-младший решение расквитаться с отцом за все то зло, что он причинил людям.
Холмс опустил свою худую руку на гриф скрипки и тонкими, нервными пальцами принялся пощипывать струны.
– В случае смерти отца Алеша становится обладателем целого состояния. Нужны ли ему деньги? А почему – нет? Эти деньги он сможет потратить на претворение в жизнь заповедей отца Зосимы, например, заняться воспитанием и оплатить учебу того же Илюшеньки, семья которого влачит полунищенское существование, Коли Красоткина, Смурова, тех мальчиков, в которых он, да и Достоевский, видит будущее России. Так что, Уотсон, отдавая должное Алеше, надо признать, что он имел основания желать смерти своему отцу!
Где он находился в ту ночь, мы не знаем. А что, если в саду отца? Как и все, он знал об угрозах Дмитрия. Хотел ли он остановить брата? Вряд ли. Скорее, он хотел стать свидетелем свершения акта возмездия, каковым ему, видимо, представлялось убийство отца. Итак, Алеша в саду. Он видит Дмитрия, стоящего под окном с пестиком в руке. Появляется Григорий и падает наземь, сраженный ударом. Дмитрий бросает пестик и сломя голову бежит прочь. Алеша в растерянности. Очевидно, что он не собирался убивать отца, надеясь, что Божья кара придет от руки среднего брата, но с бегством Дмитрия он становится перед выбором: самому стать орудием Божиим или оставить зло торжествующим. Он выбирает первое. К тому же он в относительной безопасности: Григорий жив и покажет на Дмитрия. Алеша убивает отца, который, конечно же, открывает младшему сыну дверь, потому что, если и доверяет кому-нибудь, помимо Смердякова, то только Алеше. Затем Алеша оставляет на тропинке окровавленный пестик и исчезает в темноте. Убийство совершено. Подозрения, как и предполагал Алеша, падают на Дмитрия. К чему мы приходим? Алеша становится богатым, очень богатым человеком: Дмитрий лишается права на наследство, потому что арестован и осужден, доля Ивана тоже переходит Алеше, поскольку сумасшедшие лишаются права наследования. Все 120000 рублей достаются младшему из братьев! Жаль ли ему Ивана и Дмитрия? Едва ли. Если вдуматься, они вполне подпадают под категорию «ненужных, вредных» людей. Почему, вынеся приговор «Расстрелять!», Алеша должен быть менее принципиален по отношению к своим братьям, которые, если и лучше негодяя, обрекшего на ужасную смерть несчастного ребенка, то ненамного, являясь по сути людьми никчемными, суетными, лишенными цели и веры. Нет, ему не жаль их. А если поступки в месяцы, последовавшие за убийством, не более чем стремление отвести от себя возможные подозрения? Впрочем, причин для волнения у него нет. Вот как описывает его автор: «…он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко остриженные волосы. Все это очень его красило, и смотрелся он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная». Завидное спокойствие, не правда ли, Уотсон? Обратите внимание, поворот событий избавил его от лжи и от связанных с ней угрызений совести: он искренен, уверяя всех, что Дмитрий невиновен.
Холмс принялся раскуривать трубку.
Взял трубку и я. Крепкий «морской» табак не помог мне разобраться в сплетении фактов, предположений, допущений и догадок, которые обрушил на мою бедную голову Шерлок Холмс.
– Однако, истины ради, – вмешался в мои беспорядочные мысли голос Великого Детектива, – надо признать, что многое в романе противоречит версии, что убийца – Алеша. Я мог бы привести ряд доказательств его невиновности, но ограничусь тем, что заверю вас в их серьезности, можно сказать, неопровержимости.
Я совсем растерялся.
– Но кто же тогда убийца?
– Может быть, права госпожа Хохлакова, и убийство совершил Григорий.
– Но ему-то зачем?!
– Слуга, «маленький человек», что мы о нем знаем? Ущемленное самолюбие, попранное человеческое достоинство, – все это могло породить в его душе ненависть к самодуру и хаму, каким был Карамазов-старший. Хотя, возможно, ничего этого и не было, но рана, нанесенная Дмитрием, лишила Григория рассудка, и, странным образом видоизменившись, боль, страх, гнев обратились против ничего не подозревающего Федора Павловича. Другими словами, убийство было немотивировано и совершено в состоянии аффекта. Не исключено, что именно так и было на самом деле. Кто знает…
Я ахнул.
– Так вы не знаете, кто убил?
– Разумеется, нет! – сказал Холмс и тут же добавил, лукаво прищурившись. – Зато это известно вам, Уотсон.
– Мне?
– Конечно! На мой вопрос об убийце вы незамедлительно ответствовали: Смердяков. Я не вижу достаточно весомых причин, чтобы вы отказывались от первоначального мнения.
– Позвольте, Холмс, но вы же доказали…
– Мой дорогой Уотсон, менее всего я стремился доказывать чью-то вину, я лишь хотел наглядно показать, что сюжет романа несовершенен, поскольку в ряде случаев нарушены причинно-следственные связи. И ничего больше! Теперь я понимаю, что напрасно сделал это, невольно поставив под сомнение достоинства романа, но, поверьте, я и в мыслях не держал этого! И обещаю вам, Уотсон, что постараюсь поскорее забыть эту, возможно, замечательную книгу, которая окончательно убедила меня, что я все-таки ничего не понимаю в литературе, и в будущем – анализировать поступки живых людей, а не литературных персонажей. Однако вижу, я утомил вас. Ну что ж, предугадывая вашу просьбу, я сыграю «Песни» Мендельсона.
Холмс поднял скрипку, взмахнул смычком, и наша уютная квартира в доме №221-б по Бейкер-стрит наполнилась чарующими звуками музыки.