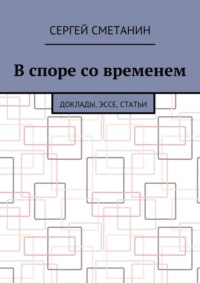Czytaj książkę: «В споре со временем. Доклады, эссе, статьи»
© Сергей Сметанин, 2018
ISBN 978-5-4490-6716-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Доклады, эссе, статьи
Тридцать три года писательства
Югорская диалектика
Основной источник моего третьвекового существования в Сургуте – зарплата на производстве. Бывал я на инженерных должностях, живал и на вольных хлебах, но недолго, трудовая книжка отражает сей факт с неумолимостью. И хотя ни одной из своих пяти книг я не издал за свой счет, полагая, что самиздат, это уж точно – любительство, мои детища литературного заработка не принесли. За первую в Сургуте художественную книжку «Созвездье фар», которую я готовил не менее шести лет, я рассчитывал в 1992 году получить солидный гонорар. Этого гонорара должно было хватить на половину «Запорожца». Мне повезло – я получил в три раза больше, около 9 тысяч, правда, к моменту выдачи денег на руки гиперинфляция так постаралась, что хватило их мне ровным счетом на две пачки печенья.
Известно, что профессионализм кроме всего прочего определяется тем, что профессионал, так или иначе, живет за счет профессии. В моем случае правильно было бы говорить: профессионально пишущий рабочий, член творческого союза.
Логично предположить, что героя все тридцать лет я искал в рабочей среде. Почему бы и нет? Семьдесят процентов населения Советского Союза были рабочими, более половины моих товарищей имели высшее образование, были женаты, вели добропорядочный образ жизни, все платили профсоюзные взносы, кое-кто даже был партийным. Редкий не имел за плечами приключений, приведших его в конце концов на Север, редкий не пережил увлечения общественной деятельностью, некоторые, как и я, занимались писательством.
Не надо думать, что рабочая среда однородна, сера и скучна. Напротив, порой удивляет, насколько разные люди выполняют производственную задачу, а в свободное время сидят в бытовке, обсуждая поход на автомобильный рынок, подробности ремонта квартиры или дачи, или рецепт приготовления баклажанов.
Объединяет рабочий класс Севера, впрочем, не только рабочий класс, но и многих и многих чиновников одно немаловажное обстоятельство. Называется оно – северные льготы. Тут надо заметить, что районный коэффициент и, так называемые, «северные» у большинства проработавших на одном месте более пяти лет составляют основную часть заработка. В Сургуте северная льгота у рабочих-нефтяников составляет 120%. Чтобы получить надбавку размером в сто льготных рублей, нужно наработать на восемьдесят три рубля с копейками. Или, другими словами, из каждой тысячерублевки, которая лежит в бумажнике северянина со стажем, заработаны только 454 рублей 54 копейки, а остальные 545 рубля 46 копеек добавлены государством в виде льгот.
Нечего и говорить, что все или почти все северяне – государственники. К сознанию того, что государство это – все, их ежедневно приучает их собственный кошелек, причем делает это весьма убедительно. «Государственный» тип мышления заставляет их по-особому относиться к выборам. Они голосуют за те партии, которые либо представляют существующую власть, либо обещают вести линию на укрепление государственности впредь. Те, кто не идет на выборы, резонно предполагают, что от их неявки на избирательный участок государство не рухнет, следовательно, можно считать, что они проголосовали «за», то есть, за сохранение теперешних устоев.
Экономически большинство северян-рабочих вынуждены вести денежное хозяйство. То есть иные источники дохода, как-то натуральная добавка от дачи, охоты или рыбалки нерегулярны и ненадежны. Вот счет в банке – это да! Правда, держателей акций «Сургутнефтегаза», «Газпрома», и других приятных обществ среди рабочих крайне мало. Оно и понятно, тогда бы они не работали, а жили бы на дивиденды.
Рабочий класс в северных «палестинах» – надежная машина по выжиманию северных льгот из государства. Даже бандиты, говорят, не трогают работягу. Зачем рубить сук, на котором так удобно сидеть? Гораздо проще обработать заезжего челнока, провести передел добычи многочисленных полулегальных мошенников, начиная от владельца точки по продаже фальсификатов, заканчивая чиновником, который по сведениям наводчиков «ест много тортов».
В среде рабочих на севере много людей культурных, имеющих высшее образование. На одном из очередных ремонтов газоперерабатывающего завода, в комнате для приема пищи собралось 12 рабочих. Из них только двое не закончили вуза. Остальные же могли похвастаться дипломами нефтяного, химического, строительного институтов, двое имели университетское образование.
И рабочая молодежь денег на образование не жалеет. Все понимают выгоду, которую приносит диплом. С дипломом легче двинуться по карьерной лестнице, легче, в случае чего, пережить кризис и найти другую работу.
Большая часть рабочих имеют родственников среди представителей других подразделений предприятия, на котором они работают. Это не «трайболизм» и не рабочие династии, а нечто среднее. Во всяком случае, это явление двояко влияющее на рабочий класс. С одной стороны, оно несколько размывает его интересы, с другой, помогает получать информацию о жизни предприятия, которая порой не то, чтобы скрывается, но как-то не рекомендуется к распространению. В общем и целом, родственные связи хорошо известны администрации.
Наверняка, они ею используются по назначению. Надо ли пустить какой-либо слух, создать общественное мнение, либо как-то повлиять на него – нет ничего удобнее, чем разговор за столом двоих-троих родственников. Но даже такой, изученный до дыр, послушный и преданный любой государственной идее рабочий класс неудобен для класса правящего. Не зря бродит в массах изречение, приписываемое одному из высших руководителей-собственников Богданову: «Самое вредное для производства, это рабочие». Безусловно, для капиталистического производства это так.
Рабочие вредны, потому что верят государству больше, чем предпринимателю, ведь северные льготы ввел не он. Рабочие вредны, потому, что продолжают надеяться на улучшение условий труда, при сохранении курса руководства на максимальную прибыль, а при случае могут пойти на забастовку. Рабочие вредны, потому что в отличие от автоматических установок, которые можно настроить и ждать запрограммированных результатов, плохо поддаются программированию. Они разные. Среди них встречаются и самостоятельно мыслящие. А самое вредное, что среди них встречаются коммунисты. Коммунист-рабочий – это высшая опасность для капиталиста. Это значит, что коммунистическая идея не «бродит призраком по Европе» с конца еще 19 века, где пусть бы она и бродила еще лет 500—800, а проникла туда, куда и замыслили ее поселить Маркс и Энгельс – в самое для них святое – в рабочий класс.
Это чревато ростом самосознания современных пролетариев, которых создала и создает действительность. Пусть на севере это полу-пролетарии, полу-государственники по чину. Пусть современное высшее образование обходится без диалектического материализма. Пролетариат – естественный продукт буржуазного общества. Оно его создает, и заботится о том, чтобы вокруг не было «книжек-зеркал» – не дай Бог, сам себя познает. Но запретить пролетариату смотреться «в воду» собственной памяти и собственной речи оно не в силах.
Помнит пролетариат и о законе единства и борьбы противоположностей, и о законе взаимоперехода количества с качеством (сиречь числа со свойством), и о законе отрицания отрицания. Помнит и применяет для познания действительности, какой бы сложной она ни была. Благо материалом для этого познания служит как сама действительность, так и собственная мыслящая голова, и родная речь. И не вышибить из его памяти эти великие три закона, не заставить о них молчать. Ты против? Ну, так пойди, умойся, да яичко съешь, – как говорила моя покойная бабушка.
Такая вот диалектика. Конечно, заменить рабочих роботами, которые, как показывают по телевизору, уже почти умеют играть в футбол, пока не реально. Воспользоваться половиной их сущности, купленной на «льготные» деньги реальнее. Вот и пыжатся югорские власти, пытаясь как можно более разнообразить если не качество товаров, то хотя бы вид этикеток и тары. Вот и создают в суровых климатических условиях иллюзию столичной жизни, со всеми ее дорогостоящими прибамбасами. Тут тебе и форумы, и фестивали, культура, туризм, образование, даже, по секрету Вам скажу, Литература. Но о югорской литературе, если читатель мне позволит, я расскажу в следующей статье.
Судьба иронии
Двадцать лет капитализма это не просто период спокойной жизни, по истечение которого неожиданно выяснилось, что где-то совершена роковая ошибка и Россия развивалась неправильно. Нет, это двадцатилетие есть годы борьбы, формирования и изменения классов, партий и личностей, их противостояния на грани между жизнью и смертью, не зря наша страна испытывает кризис наравне со всем миром, её население сократилось и продолжает сокращаться, перспективы по признанию многих специалистов очень неясны. Смутное время продолжается.
На протяжение этого времени многое было в поле зрения, что-то родилось, что-то отжило свой век, возникли новые средства массового прояснения и затуманивания голов, выработано, опробовано и проверено множество практических технологий.
Во-первых, прожитые десятилетия, вроде бы, показали, что капитализм, с которым советское общество рассталось будто бы навеки, жизнеспособен. Никто ведь не станет отрицать, что именно так надо называть строй при котором мы сейчас живём. Налицо диктат частной собственности, запредельная власть денег, бешеная свобода всего мещанского. А если уж при всём этом продолжаем существовать мы сами, то отрицать этот вольный или невольный симбиоз было бы нелепо.
Но посмотрим правде в глаза. Капитализм хвастался тем, что сделает население страны богатым. С этой задачей он явно не справился. Богатыми стали единицы. Большая часть русских людей живет бедно или в нищете.
Следствием этого, благодаря желанию высших классов удерживать положение господства, стало духовное обнищание русских. Для человека желающего воспользоваться свободным временем и развивать свои способности возведены немыслимые препоны.
Выходит, что реанимация мертвеца-капитализма в нашей стране состоялась, но в виде насмешки, так, что лучше бы её и не было. Разве это не ирония? Нет такой области жизни в которой этот зомби принёс народу хоть толику счастья.
Вот как обстоят дела в доступной моему взгляду литературе.
Отделение организации Союза писателей России, к которому я принадлежу, существует примерно столько же, сколько и новооживлённый капитализм. Её деятельность можно разделить на три неравных периода: первый, когда она под руководством Андрея Тарханова возникла и привлекла к себе внимание центра, второй, ознаменованный руководством Николая Коняева и третий, когда её возглавила Ирина Рябий. Последний период слишком короток и, наверное, им можно пренебречь.
Меня всегда волновали дела писательской организации. При мне она создавалась, причем за несколько лет с помощью спонсоров удалось построить Дом писателей – результат, который по-моему превзошли только в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и где-то на Кавказе.
Было нас тогда несколько человек, основной труд лежал на плечах Андрея Семеновича. Он и книгоиздательскими делами заведовал и с производственниками общался, и совещания собирал и сам по всему округу ездил.
Писателей, которые живут на доходы от писательского труда – профессиональных писателей в полном значении слова нынче крайне мало. Из моих знакомых я бы мог назвать три-четыре имени. Большинство вынуждены совмещать творческую деятельность с обычной работой. Как с иронией говорил В. В. Маяковский: «Землю попашут – попишут стихи!» Свойство это заставляет писателей относиться друг к другу сердечно, а членство в союзе ценить очень высоко.
Наше писательское отделение жило дружно. Мы были открыты и для других писателей, постепенно количество членов росло и остановилось где-то на 19. Второй период в жизни организации связан с тем, что самостоятельность была резко ограничена. Ликвидировали фонд помощи писателей, закончили со строительством.
Перечислять дела, которые были сделаны во втором периоде жизни организации, значит занять немало места в статье. Это и регулярный выпуск литературно-художественного альманаха «Эринтур» и газеты «Литературная Югра», и ежегодные писательские совещания, и семинары молодых литераторов, и выездные мероприятия в Сургуте, Федоровском, Нижневартовске, Мегионе, Излучинске. Огорчало лишь то, что альманах, в силу юридических заморочек запрещено было распространять и продавать, финансирование Дома писателей было крайне скудным а годовой бюджет организации скукожился до месячного заработка хорошего нефтяника. Но ежегодные совещания писателей давали возможность не потеряться, чувствовать себя сопричастным русской литературе, ведь редкие публикации ограниченные тиражи, да и сам характер литературного труда, располагающий к одиночеству служат этому изрядной помехой.
Понятно, когда Николай Иванович начал работу, он старался опираться на вновь принятых в отделение писателей, часть из которых перешли вместе с ним из Тюменской писательской организации.
К сожалению, среди них нашлись люди, которые говорили обо мне ответственному секретарю не самые лестные вещи. По простоте душевной он сам открыл мне внушенные ими страхи пред моими несуществующими интригами. Доверительной совместной работы так и не получилось. Тем не менее, считаю, что Сургут в это время был представлен достойно. Не зря именно тогда организация пополнилась большим количеством сургутян, которым должен был давать рекомендации ваш покорный слуга, причём проходили они и тайное голосование и последующее утверждение в Москве. А ведь ни одну рекомендацию не пришлось отзывать.
В последние годы наша писательская организация выросла чуть ли не вдвое. Значимым для неё было вступление Дмитрия Мизгулина, директора Ханты-Мансийского банка, замечательного поэта, стихи которого многие заслуженно высоко ценят. Честно говоря, в душе затрепыхалась надежда на какие подвижки в нашей писательской жизни. Рано пташечка запела.
Вот уже два года подряд в округе не находится денег на проведение писательского совещания. Три года сургутские писатели не знают нового высокопоставленного товарища в лицо.
Что ж, будем приглядываться друг к другу через интернет.
Но говорить о товарищах по литературному цеху, общаясь с ними так редко – неблагодарная затея. Лучше расскажу о себе.
На что я рассчитывал, вступая в Союз писателей России? Во-первых, на то, что получу возможность посвятить себя целиком любимому литературному делу, а не работать на производстве, как это было тогда положено по закону. Во-вторых, рассчитывал на помощь критики в оценке собственных творений. В-третьих, я узнал, что имею право на дополнительную жилплощадь, положенную по тогдашним законам каждому писателю для размещения библиотеки.
Первого от Союза писателей я не получил. На заре перестройки, когда я работал в фирме «Сиборггазстрой» оператором газовой установки, мне удалось добиться на работе идеального графика: четырехдневной рабочей недели с тремя выходными днями. Если учесть, что профессия оператора не слишком загружает голову и во внерабочее время не приходится сильно заботиться о том, что творится на рабочем месте, то ясно почему за два года мне удалось полностью подготовить к изданию первую книгу «Созвездье фар».
Но в последующем участок, на котором я работал, прекратил существование. Попытки жить литературным трудом не увенчались успехом. Издательство, редакция журнала, в которых пришлось работать существовали недолго. А выступления в детских садах и школах округа, на которые я вначале очень рассчитывал, давали всё меньше по простой причине: детей с каждым годом становилось меньше, детские садики один за другим закрывались. В Сургуте их количество уменьшилось втрое. Пришлось устраиваться на работу на почту, а потом к нефтяникам.
Критическая статья, которую обещал написать о моем творчестве ханты-мансиец Колмогоров, была начата в 2007 году, но так и осталась не дописанной. Прошлась по моему творчеству критическим пером Алла Цукор. Других писательских ориентиров дождаться так и не пришлось.
Расширить квартиру тоже не вышло. Дети незаметно выросли и разъехались, сложилась новая семья, которой старой «двушки» моспроекта с трудом, но хватало. И это всё? Но что-то же я получил от этого членства?
Да, в первые годы существования организации получил справку полномочного представителя организации в Сургуте, которая давала возможность обращаться за помощью к спонсорам в качестве официального лица. Потом на мое имя пришло несколько денежных переводов. Это была материальная помощь фонда организованного А. С. Тархановым.
Администрация города в лице председателя Департамента по культуре и спорту Черняка выделила мне немного денег на поддержание сайта «Поэзия земли Югорской». В то время я работал инженером в федеральной службе связи, могу сказать, что тогда эта сумма равнялась двухмесячной зарплате почтового работника.
Звание члена СП России позволило найти спонсоров на книги. На это бы и полугодового заработка не хватило. Тут потребовалось столько, что на почте мне пришлось бы зарабатывать не менее пяти лет.
Кроме того многие годы позволено было раз в неделю собирать литературное объединение в Доме Журналистов на территории комплекса «Старый Сургут». Когда необходимым оказалось доработать до пенсии, статус члена СП помог мне найти поддержку в администрации «Сургутнефтегаза» в лице заместителя управляющего по кадрам В. В. Кононова.
Наконец, выйдя на пенсию, пользуюсь помощью окружной думы. Администрация города помогла организовать 50-летний и 55-летний юбилеи. Кажется, ничего не забыл.
Жаловаться, как видите не на что. Гордиться тоже особенно нечем. По правде говоря, материальные запросы волновали меня меньше всего. Живу как все, ну и ладно. Лишь бы свободно заниматься творчеством, вести литературное общение с себе подобными, учиться у кого-то, а кого-то и наставить на путь истинный. Рано или поздно художественное творчество, если оно находится на высоком уровне, будет всё-таки востребовано, не вакууме живём, будет и на нашей улице праздник, думал я. Тем более подобные настроения подогревало развитие интернета, которое позволило, вроде бы, обратиться к читателю напрямую, минуя библиотеки и книжные магазины.
Для прямого выхода на читателя была создана страница «Сотворение мира», поддерживаю «Литобуч», «Северный огонек», «Фломастеры», пишу в «Литсовет», «Стихи.ру», «Проза.ру», много лет веду литературное редактирование страницы «Поэзия земли Югорской».
В нашей писательской организации пока подобной интернет-активности не наблюдается. Но разве это реальный инструмент увеличении числа читателей? Что значат несколько тысяч читателей из которых только десятки являются постоянными? По сравнению с возможной русской и русскоязычной читательской аудиторией – капля в море.
Впрочем, что это я всё о себе да о себе. В подобной ситуации находятся тысячи русских и русскоязычных писателей. Я полагаю, что в бывших союзных республиках, которые стали ныне ближним зарубежьем, дела писателей идут ещё хуже.
Нет, мне не приходилось сталкиваться с душещипательными трагедиями, историями неожиданных падений, даже самоубийц среди знакомых писателей нет, но десятилетиями приходится наблюдать практически нулевой рост творческих достижений. Ни громких имён, ни звучных названий, ни экранизаций, ни популярных песен. Без читателя писатель мертв.
Хорошо еще, что местная общественность порой составляет замену широкой аудитории. Принимают авторов библиотеки, школы, некоторые учреждения. Изредка даже по местному телевидению проходит информация об «интересном человеке». Можно ли это назвать полноценным литературным процессом, как это было принято при социализме, я не знаю. Скорее всё это напоминает обычную художественную самодеятельность.
Причём, нет никаких надежд на какое-либо улучшение или изменение ситуации в пользу писателя. Капитализм враждебен поэзии не потому, что так сказали классики марксизма-ленинизма. Посудите сами, оглянувшись вокруг: разве есть интерес у богатых людей выбрасывать деньги на ветер? Ветер враг того, кто держит бумажные деньги в руках. Нужда поэта в материальном обеспечении его нематериального дара пугает обывателя страшней урагана. Поэты? Уж лучше как-нибудь, но без них.
Интернет, открывший якобы неограниченную свободу слова делает богатыми провайдеров, даёт работу программистам, системным администраторам, менеджерам по продаже компьютеров. Но ни одному поэту, насколько мне известно, он пока не дал ни рубля.
Можно, конечно, помечтать о том времени, когда провайдеры спохватятся: падает выручка из-за растущего отказа пользователей от интернетовской прозы, надо стимулировать писателей, чтобы враз повысили уровень мастерства. Но такой поворот надо воспринимать со здоровой долей иронии.
Лучше мечтать об изменении общественно-исторических условий вообще. Возможно именно русским писателям суждено быть востребованными в условиях грядущего мирового социализма. Ну, не погибнуть же человечеству оттого, что кто-то не хочет расстаться с сундуком, а то и подвалом золота! Кризис капитализма неуклонно продолжает раскрывать на это глаза миллионам. А рецессия ползёт и ползёт. Не дожить нам до нового расцвета капитализма! Ирония истории в том, что Великая Октябрьская социалистическая революция, несмотря на свою выявленную перестройкой и реформами ничтожность, будет еще более великой, с самой огромной буквы «В»!
Лично я в этом убеждён капитально, с помощью батюшки-капитализма, который на моих глазах вытворяет такое, что всю мою жизнь и в кошмарном сне не могло присниться.