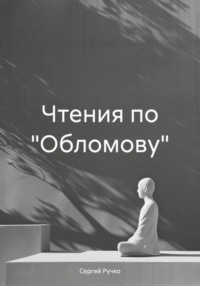Czytaj książkę: «Чтения по «Обломову»», strona 8
Глава 13
Вот кажется, нам что-то удаётся,
и мы берёмся тут же за другое…
К. Кавафис. Троянцы.
В sub_sist_аналитике мы не делаем попытку заново объяснить образ Обломова; в ней мы стремимся открыть его для нас. Отсюда растут корни нашего интереса, а именно из абсолютной закрытости обломовского образа. Обломов, по сути, изолированная субсистенция, утвердившаяся в своём разуме и верящая в незыблемость её индивидуального бытия. Открыть этот образ означает для нас нащупать саму истину, которая куда глобальнее, чем просторечные обвинения Обломова в обломовщине.
Эпоха, в которую творил И. Гончаров, далека от демократии и философии открытости. Страны еще пестуют ограничения практически во всей деятельности, потому что кантианское просвещение – это ограничение, которое налагает человеческий разум на животную волю (причем так же обитающую в человеке). Но, если разум оказался тем, что принадлежит исключительно человеку, то человеческая воля, разумеется, принадлежала чуждой человеку природной среде, из которой, однако, человек производит своё происхождение. Такая для нас запутанная и нелепая история происхождения видов и самого главного – человека, – для Гончарова была аксиомой ровно до написания им романа «Обломов». В этом романе всё смешалось со всем и стало решительно непонятно, о каком, собственно, разуме идёт речь. Если, как у Обломова, практически философский, то разве возможно к нему примерить образ Просвещения? Разумеется, не можем, поскольку дело Просвещения иметь разум в качестве орудия доброй воли, а не иметь создавать заново такой разум, который может служить ему орудием. Хотя, эти два суждения вполне могут сосуществовать друг с другом. Нам же следует продолжать делать попытки открыть истину обломовской любви.
Ольга в любви более решительна, чем Обломов. Она отдаётся ему. Терзаемая жаждой физической близости, уставшая и изнемогающая под гнетом обломовского бездействия, Ильинская раскрывается его объятиям, видения которых преследуют её все время этой бессмысленной связи, вмещающей в себя желание добиться от другого того, на что он совершенно неспособен. Она бы с радостью повторяла слова из «Поучений Птаххотепа», весьма подходящие нашему случаю:
«Если ты склонен к добру, заведи себе дом. Как подобает госпожу его возлюби, чрево её насыщай, одевай её тело, кожу её умащай благовонным бальзамом, сердце её услаждай, поколе жив! Она превосходная пашня своего господина!»
Ильинская в любви как-то естественно уподобляется пашне – пахотной земле под парами, – ждущей пахаря, который вспашет её и засеет зернами будущих всходов. Ольга наполнена подземным огнём, жаром, бушующим в её грудях и поднимающим сосцы их к небу. Её тело, местами белоснежное, а местами алое влечется выпустить внутренний огненный пар наружу. Но она не может это сделать самостоятельно. Ей нужен для этого мужчина, и не просто мужчина, а Обломов.
В этого скуфа и одороблу, помимо прочего, внедрился публичный образ деревенского мужика-пахаря. Сильными кряжистыми руками он направляет плуг по пахоте так же, как бы возделывал целомудренную похоть своей госпожи, высвобождая жар земли, питая им пламя воспламенившегося влечения. Пахота и похоть – слова, имеющие одну и ту же направленность, само влечение вышло из них и свило гнездо в теле Ильинской, а после в её мыслях, мечтах и наваждениях. Она – непаханая целина, призывающая к пахоте Обломова.
Распаханная нива, как чернозёмное чрево, вывернутое на поверхность, являющееся началом расцветания и созревания, что предстает этапами культивирования земли, вскрытием, следующим перед оплодотворяющей пахотой.
Это уже представляется выходом наружу доселе сокрытого содержания, вскрытием нарыва, фурункула или мозоля, натертого тесным сапогом. Другими словами не первоначальная радость от запланированного удовольствия – от поедания вкусной еды, просмотра интересного фильма, – а наслаждение облегчением, освобождением от внутренней болезни, даже высвобождением боли.
К похоти совсем близко охота. Охота и как желание и как влечение, у которого есть цель. То, что мы называем любовью, по сути, интерпретируется хотением, охотой, желанием. Другой желанный и охочий до того, кого он любит.
Облегчение есть по сути новое слово в нашем лексиконе. Оно ближе к теме индивидуального производства публичного образа, на чем стоит сегодня весь дискурс публичных образов. Возьмём, к примеру, Б. Гройса:
«Даже, если мы, движимые нарциссическим желанием, производим свои публичные образы – снимаем селфи, пишем картины и романы, – мы используем средства производства, предлагаемые нам цивилизацией, к которой мы принадлежим».
Производство публичного образа в этой цитате имеет второстепенное значение; первоначальным здесь оказываются или инструментализм или операционализм, как необходимые условия для производства публичного образа. В данном случае, как нам кажется, следует уподобить публичный образ индивидуальному паттерну, который никогда не бывает индивидуальным; ибо, что бы что-нибудь произвести, оно уже должно быть произведенным. Такова логика возможной индивидуации не индивидуума, а публичного образа благодаря самому себе.
Стало быть, и мы полагаем по-другому. Публичный образ обломовской любви в прямом смысле слова не является производным ни любовников, ни окружающей среды, в которую они включены, поскольку отсюда затруднительно вывести бытие самого по себе публичного образа. Средства производства здесь если и играют какую-либо роль, то роль эта оказывается решительно негативной, вставляющей скорее палки в колеса любви, чем помогающая осуществиться самым благожелательным образом.
Мы не производим публичные образы, мы им следуем. Обломов и Ольга в этой любви следуют публичному образу самому по себе, который субсистирует благодаря самому себе, а не производят каждый по-своему этот самый публичный образ. Столкнувшись с этим фактом, ими незнаемом, они, как в стихе Кавафиса вынесенном в эпиграф, устремились в разные стороны, прочь друг от друга, куда глаза глядят. В итоге, Илья Ильич не готов к европейской любви Ольги, а Ольга не готова к обломовской русской любви Ильи Ильича.
Почему И. Гончаров именно так разделил публичный образ? Этот вопрос следует отправлять не только ему, но и всей русской публичной мысли того времени, отчасти появляющейся еще и сегодня в работах современных критиков и публицистов. Конечно, это весьма злободневно, имея в виду нынешние отношения России и Запада. В этом смысле, мы можем утверждать, что старинный спор западников и славянофилов сегодня вновь обретает актуальность, несмотря на то, что сама идея его кажется весьма странной.
Мы пока оставим в стороне этот спор и последуем другой дорогой – едва видимым в чаще леса пролеском. Мы добавим в публичный образ любви, описываемый здесь, знание. И скажем сначала, что знания без любви не бывает, как и не бывает любви без знания. Обломову в любви к Ольге необходимо знание, а Ольге в любви к Обломову оно необходимо еще больше.
Земная любовь как пахота, вывернутая наизнанку земля, даёт знание. Из вскрытого пахарем тела земли выходят ростки знания, запускающего будущий рост любви. Но будет ли она в будущем такою же, как её планируют?
– У меня тоже есть планы, начатые и неконченные, – отвечала она.
Планы в любви не работают. Их здесь не должно быть. Они как-то даже плохо представляются. Объект А запланировал любить объекта Б так-то и так-то, с такими-то и такими-то результатами, в общем и целом приведшими к такому-то закономерному итогу, который венчает победоносная любовь. Это не любовь, это война!
Обломова к этому исходу их с Ольгой любви не пускает нечто совсем иное. До войны им еще далеко, но где-то посередине их романа мы прочитываем другой образ, который перекрывает им доступ к финалу. Гончаров, конечно, в романе объяснил нам, что отношения, построенные ими после гибели любви, построились на развалинах любви; что под институтом семьи и брака бьётся в смертных судорогах истинная любовь, разрушенная именно благодаря известному планированию; что поэтому, если в брак и есть любовь, то это – публичный труп другой любви.
И вот Обломов уже подле Ольги, она готова всецело отдаться ему, он касается её стана кончиками пальцев. Любовь на кончиках пальцев потому возникает здесь, что она не желает ничего ни знать, ни понимать. Единственного, что она именно сейчас желает это физической близости, соития, как ей кажется, соединяющего одного с другим, делающего одного из двух. Однако это деланье субсистенции «двух лиц в одном» не ограничивается физической близостью, которая здесь более выступает снятым гештальтом, чем автономным явлением. И Ольга и Обломов желают снять гештальты. Правда гештальты у них разные. Снятие одного делает невозможным снятие другого и наоборот.
Глава 14
Ольге плохо с Обломовым и плохо без него. Негативный гештальт предполагает саму по себе негативность, которую возможно, хотя и болезненно, снять. В реальности сумеречных помрачений их сознаний движется роман. Сознание, не могущее быть другим именно здесь, упрямо возвращает саму себя к негативному гештальту, снятие которого физическою близостью кажется тем, что может разрешить все проблемные вопросы этого затянувшегося отношения.
Разве мы читаем роман, когда читаем роман? Бывает, скользя глазами по тексту, ловишь себя на мысли, продолжающие некоторые другие мысли, совсем не прочитанные в тексте. При этом обычно говорят: «Смотришь в книгу, видишь фигу». С другой стороны это похоже на то, как я мыслю другой роман, когда читаю этот роман, и мыслю другие романы, когда читаю другие романы. Это элемент рассеянного чтения. Оно приводит к забвению и мыслимого и прочитанного. Решительно не так обстоит дело с концентрированным чтением, которое ничего не забывает и всё помнит. Мы вряд ли способны жить настоящей жизнью при условии запоминания того, что уже случилось. Было бы совершенно невозможно утверждать настоящее, если оно является пространством, состоящим из воспоминаний.
«Плохо быть с ним и плохо без него» оказывается универсальной формулой постижения смысла социальности конкретной ситуации. Текст не выразит её целиком. Он как лёд на хоккейной площадке затвердевает в границах обставленными публичными трупами.
Озвученная выше формула обозначает еще и страсть. Ведь обломовская лень, как и всякая вообще лень в понятии Гончарова, страсть:
«Прихожу сюда и я, мирный труженик на поприще лени, приобретший себе на нем громкую известность; здесь отраднее и слаще лениться, нежели там, в том мире, где на всяком шагу мешает труд или забота; один трудный подвиг предстоит ленивцу: уйти отсюда в роковой час». И. Гончаров. Хорошо или дурно жить на свете.
Быть сладострастнотерпегорцем – такова участь Обломова. Это не просто лень, которая не желает ничего делать или желает ничего не делать вообще, кроме валяния на диване, а скорее, лень усталого человека. Для такой усталости не обязательно перепробовать всё, что предлагает жизнь, что, по определению, бесконечно в границах единичного человека, тем более такого человека, который уверовал в своё негативное будущее при любом стечение обстоятельств. За усталостью следует отдых, отдохновение от славных дел в царстве женщин, где они у Гончарова обеспечивают праздной лени эту самую страсть.
Ильинская, между прочим, стремится быть именно женщиной, дожидающейся суженного из ратных подвигов в трудах и заботах, для того чтобы достойно вознаградить его праздным ленивым отдохновением от этих самых подвигов. Такой публичный образ супружеских или любовных отношений между мужчиной и женщиной до сих пор формирует эти самые отношения. Всякая женщина понимает его именно так, а всякий мужчина соглашается с её пониманием.
Но Обломов – сложный образ. Он – сложносоставная вещь, объект среди других объектов, которых радость новых влечений обошла стороною по причине постоянного давления извне. Усталая ленивость Обломова есть ответная реакция на внешние требования. В романе у Гончарова присутствует лишь один герой, от которого все остальные чего-то хотят, чего-то добиваются, даже требуют. В принципе это «что-то» в общем и целом является требованием делать свои дела. Никто из них, правда, не догадывается, что эти «обломовские дела» возникают в устах Обломова парафразами его снов. Как бы повела себя Ольга, если бы узнала, что намерение Обломова ехать в Обломовку, для того чтобы выправить в лучшую сторону жизнь крестьян в деревне самому Обломову привиделось во сне? И как нам теперь понимать всю эту ситуацию, при которой в реальности возникает абсурдная ситуация, где определенное множество людей требуют от одного человека, чтобы он свои сны осуществил в реальности? Как общеизвестно, в начале 20 века в России люди радикально начнут заниматься таким вот абсурдным осуществлением. И дозанимаются этим идиотизмом до момента, когда всякое такое делание лопнет с оглушительным грохотом.
Получается, что единственным здравомыслящим человеком во всей повести Гончарова оказывается именно Илья Ильич Обломов, который видит наперед всю бесперспективность практической активности своего времени. Один шаг вперед, два шага назад; рупь торгуем, два харчуем; водку продать, деньги пропить! Такими вот поговорками богат русский язык.
Обломов сталкивается с давлением извне, даже противостоит ему, оберегая своё естественное право жить так, как ему хочется. Остальные герои романа в той или иной степени являются зависимыми или от обстоятельств окружающей среды или от самих себя. Обломова, разумеется, возможно причислить к последним. Но здесь мы имеем нечто весьма сомнительное, говорящее о присутствии субъективных оснований в страстях лени. Мы должны избавить наших героев от их субъективности, потому что все свойства субъекта здесь оказываются свойствами окружающей среды. Не Обломов ленивый, а ленивой оказывается окружающая среда, в которой все, по большому счету, ничего не делают, а только делают вид, что что-то делают.
Однако лень в страсти явно отзеркаливает диверсус негативного смысла. В этом самом диверсусе смысла Обломов не может действовать без смысла, а смысла он нигде не находит, поэтому не действует. Аннигиляция становится объектом разума, целиком провалившегося в деятельную аннигиляцию, полагающую ничто всем возможным вообще действиям.
Мы упустили из вида момент увядания и распада старой доброй Обломовки. Она неминуемо как будто в соответствие нам неведомому плану катится под гору прогресса не в силах удержать себя на склоне. В будущем её разбитую, валяющуюся под горою, подберут «проклятые немцы» и начнут возделывать по своему усмотрению, как это делали, выражаясь словами В. Розанова, критики-инородцы Флексер и Айхенвальд, разделывая русских критиков, например, Белинского, увидевшего в Обломове очень много русского.
Обломов подобен Нарциссу. Но никто не называет Нарцисса ленивым; никто не называет нарциссический род страсти ленью; никто не заставляет Нарцисса что-то для кого-то делать. Не только к Нарциссу не предъявляются такие требования, а еще, например, от йога, живущего в пещере, ничего вообще никто не требует; помимо йога имеются и хиппи, которых кто угодно может обвинить в лени, однако, никто этого не делает. Обломов, йог, хиппи и Нарцисс имеют то сходство меж собою, что они тесно связаны с природою: озерами, реками, горами, пещерами, лесами и. т. д.
Современный мир вообще кажется, избавился от негативного представления о лени, потому что в этом новом мире всем безразлично, кто и как живет, кто и что делает. Практически все озабочены самими собою. Попадаются еще архаичные режимы власти, у руля которых находятся поклонники бронзового века; они как будто выродившиеся из тёмного средневековья, продолжают прибегать к морально-нравственной и прочей риторике, если и уместной в современном мире, то как пропаганда необходимая для безопасности самих этих режимов. Однако фокус Обломова заключается в том, что он сам есть винтик в механизме власти, даже притом что неизвестно какую именно функцию выполняет этот винтик-трутень.
Мы теперь знаем, что все дело этого винтика сводится не только к пониманию бессмысленности существования, но и еще к тому, что быть самому определенным смыслом. Разумеется, смыслами не заполнен человеческий мир. Если говорить словами Б. Гройса, этот мир заполнен публичными трупами, которые мы принимаем за смыслы, поскольку они и в самом деле ими является с той лишь разницей, что к нам они не имеют никакого касательства, они смыслы прошедшего.
Нет никакой возможности схватить или ухватить смысл, потому что нет пространства смысла, реальности его. Нельзя сказать, вот смысл или там смысл. Поскольку смысл не обнаруживается сам собою, то его и невозможно произвести самому, полагая смысл самому по себе проекту своего собственного существования. Производить смысл – это, как мы уже знаем, «про то, как извести» смысл, т. е. решительно уничтожить его в проекте, который и называют смыслом.
В парадигме субсистенциального суждения смысл угадывается только лишь как смысл, который становится. У него должна быть история становления смысла, в которой никакая единичная ситуация этого самого целого становления не обладает смыслом.
Вот почему ни Обломов, ни Штольц, ни Ольга не видят смысла в отношениях. Они еще не прошли процесс становления. В них заметна эта самая незавершаемость, которая создаёт напряженную неопределенность. Напряжение не отпускает героев романа. Они, как натянутые на деку струны, вот-вот готовы зазвучать различными аккордами. Но не звучат, не издают ни единого внятного звука.
Darmowy fragment się skończył.