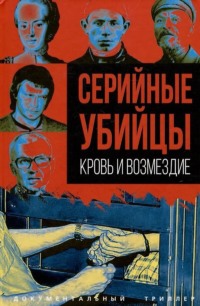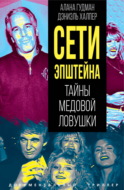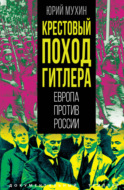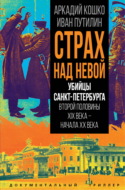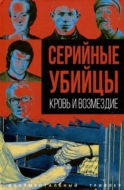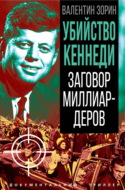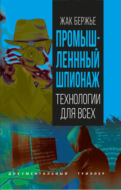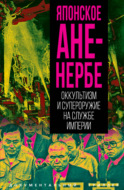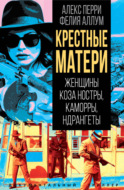Czytaj książkę: «Серийные убийцы. Кровь и возмездие»
Серия «Криминальная Россия»

© Алдонин С.В., 2024
© Издательство, 2024
Мучительница и душегубица
Имена преступников редко остаются в истории. Дарья Салтыкова стала «именем нарицательным» – наравне с Джеком Потрошителем. И называют её хлёстко: Салтычихой. Пожалуй, это было самое резонансное уголовное дело XVIII века. Недаром Радищев говорил:
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро,
Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех,
Крови – в твоей колыбели, припевание – громы сраженьев,
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб…
Мудрость русского века Просвещения – это и Михайло Ломоносов, и Екатерина Великая, и Александр Суворов. А безумие – это она, Дарья Салтыкова, урождённая Иванова.

Дарья Салтыкова. Портрет условный
Сколько легенд ходило о ней, да и в наше время они не забыты. Дарье Николаевне приписывали даже людоедство – в прямом смысле. Её зверства изображали на лубочных картинках. До сих пор на её могиле запутавшиеся люди устраивают суеверные ритуалы…
Что мы знаем о её тёмном прошлом достоверно? Точных данных немного, но они есть: следователи вели дело Салтыковой грамотно и въедливо, проверяли каждый факт. Это были талантливые и честные люди, будем помнить их имена – Степан Волков и Дмитрий Цицианов.
Родилась Дарья Николаевна в состоятельной семье петровских выдвиженцев Ивановых. Считалась красавицей. Вышла замуж за весьма завидного кавалера – гвардейского ротмистра Глеба Салтыкова. Состояла в дальнем родстве со многими сильными мира сего, включая славного фельдмаршала и московского градоначальника Петра Салтыкова и генерала Александра Бибикова – одного из образованнейших полководцев того времени. В неполных 26 лет она овдовела, оставшись с недурным состоянием и двумя сыновьями на руках. Смерть мужа – «сына роскоши, прохлад и нег», многообещающего вельможи – стала для Салтыковой неожиданным потрясением. Ярость она перенесла на своих беззащитных «рабов». Вероятно, она не сомневалась в собственной безнаказанности: барин для крепостных – царь и бог. Кого заботит судьба бесфамильных девок?
Люди маниакального склада, как правило, умеют вести двойную жизнь, вводя в заблуждение окружающих. И Дарья Салтыкова вела дела хитроумно. Следствие вскрыло целую паутину коррупции. Десятки московских чиновников получали дары от состоятельной помещицы и не давали ходу жалобам на неё. Конечно, они не ведали о масштабах кровавых расправ над крепостными Салтыковой. Доносчиков наказывали за «клевету» – и «шито-крыто». А Волкова и Цицианова подкупить не вышло. Не могла она и тягаться с императрицей… От материалов дела и в наше время волосы встают дыбом. Ни один автор триллеров такого не придумает.
Как правило, она сама начинала экзекуцию. Какая-нибудь ничтожная провинность вызывала прилив гнева, она била служанку поленом, драла ей волосы. А довершали дело гайдуки. Кроме побоев они не гнушались изощрёнными пытками: держали пленниц в воде на морозе, вырывали уши раскалёнными щипцами, хоронили заживо… Жертвами Салтычихи стали, по разным подсчётам, от 30 до 150 крепостных. И среди них – не больше пяти «мужеского полу». Тут, конечно, раздолье для психологов: неукротимый гнев молодой вдовы вызывали девушки, прислуживавшие в доме. Они были обречены на гибель. Следствие после серии обысков доказало вину помещицы в убийстве 38 человек. Скорее всего, их было гораздо больше.
Безумная помещица орудовала пять лет. Она уже не сдерживала себя и в распрях с дворянами… В 1762 году её жертвой чуть не стал дед великого поэта Николай Андреевич Тютчев. Об их знакомстве ходят невероятные легенды. Якобы Тютчев охотился во владениях Салтыковой и сначала стал её пленником, а затем и любовником. Всё развивалось прозаичнее. Был ли роман, судить трудно, но основания для ревности у мнительной вдовы имелись. Он женился на другой. Дарья Николаевна решила уничтожить супругов с помощью самодельной бомбы. Взорвать Тютчевых она намеревалась в их московском доме. К счастью, эта затея не удалась: гайдуки Салтычихи не решились на столь дерзкое предприятие. Тогда она приказала своим подручным напасть на Тютчева, как говорится, на большой дороге, однако он узнал об этом и заручился охраной. Пытать бесправных крестьян было гораздо легче, чем устраивать нападения на дворянина и офицера. Впоследствии Салтыкову признают виновной в «злоумышлении на жизнь капитана Тютчева». А в деревне Троицкое жестокая потеха продолжалась. Усадьба Салтыковой находилась в районе нынешнего посёлка Мосрентген, что в московском Тёплом Стане. Кстати, бесчинствовала Дарья Салтыкова вовсе не в преклонные лета, а в возрасте от 27 до 32 лет – даже для того времени она была достаточно молодой женщиной.
Один из доносов на Салтыкову (а их было больше двадцати) каким-то чудом дошёл до Екатерины, совсем недавно взошедшей на престол. Императрица приказала основательно проверить подозрения. Челобитную написали беглые крепостные крестьяне – Савелий Мартынов и Ермолай Ильин.
На отчаянный шаг эти крепостные решились после того, как Салтычиха зверски замучила их жен. История одного из них – Ермолая Ильина – просто поражает воображение: помещица поочередно убила трёх его жён. В 1759 году первую супругу, Катерину Семёнову, забили батогами. Весной 1761 года её судьбу повторила вторая жена, Федосья Артамонова. В феврале 1762 года Салтычиха забила поленом третью жену Ермолая, тихую и кроткую Аксинью Яковлеву.
Для Екатерины дело Салтыковой стало показательным. Судили не просто сумасшедшую, судили тёмную эпоху…
В представлении идеологов екатерининского времени история России от Петра до премудрой Фике была эдакой чёрной дырой. Время злоупотреблений и грубых нравов. Дело Салтыковой оказалось самым громким, но одновременно за самосудные расправы над дворней наказывали и других аристократов. Императрица несколько раз переписывала обвинительный указ. По риторике видно, что история Салтычихи ужаснула русскую Семирамиду: «урод рода человеческого», «бесчеловечная вдова»… На следствии преступница держалась дерзко, ни в чём не признавалась. Её пытались испугать зрелищами пыток, а Салтыкова только улыбалась.
Бывшую помещицу подвергли гражданской казни. Это не просто суровый ритуал и «поносительное зрелище». Под барабанную дробь на площади уничтожалось дворянское достоинство приговорённой. Лишили её и женского статуса: отныне Дарью назвали «он». Салтыкову возвели на эшафот, привязали цепями к столбу, на шею нацепили деревянный щит с надписью «мучительница и душегубица». На том же эшафоте подвергли порке и клеймению сообщников убийцы – двоих крепостных, по воле Салтычихи ставших палачами, и священника, который покрывал кровавые дела помещицы, отпевал и хоронил изувеченных, убитых девушек…
Для Салтыковой (которая, впрочем, к тому времени утратила фамилию) приготовили подземную «покаянную камеру» в московском Ивановском монастыре. Преступницу как будто похоронили заживо. Полное заточение в кромешной темноте. Только для приёма пищи ей передавали огарок свечи. В этом каземате она провела около одиннадцати лет. Потом режим стал мягче. О ней ходили городские легенды… Рассказывали, что бывшая барыня в заточении родила сына от солдата-охранника. Скорее всего, это досужие слухи. Хотя здоровье у бывшей Ивановой-Салтыковой оказалось крепкое: в заключении она прожила 33 года и 40 дней. Режим смягчили спустя 11 лет: Салтычиху перевели в каменную пристройку храма, в которой имелось небольшое окошко и решётка. Посетителям монастыря было дозволено не только смотреть на осуждённую, но и разговаривать с ней. На неё ходили смотреть, как на диковинного зверя.
По свидетельству историка, «Салтыкова, когда бывало соберутся любопытные у окошечка за железною решёткой ее застенка, ругалась, плевала и совала палку сквозь открытое в летнюю пору окошечко».
Кстати, ни одного достоверного изображения Салтычихи не сохранилось. На тех портретах, которые иногда публикуют в журналах, изображены другие женщины, однофамилицы и дальние родственницы. Есть лубочные зарисовки и картины XIX века и советских времён, но это – фантазии художников.
Нельзя по Салтычихе судить о русском дворянстве. Это аномалия – и психическая, и социальная. И всё-таки такая трагедия могла случиться только при крепостной системе, когда есть господа и есть рабы, люди «подлого звания», а в представлении некоторых – недочеловеки. Эти «преданья старины глубокой» следовало изжить. И дело Салтыковой стало первым шагом к отмене рабства на Руси. Ведь для сильных мира сего её история явилась грозным предупреждением: перегнёшь палку и окажешься в каземате, лишённый рода и племени. Есть управа и на «белую кость».
Могила Салтычихи на кладбище Донского монастыря давно привлекает любителей мистики. Некоторые почему-то просят от нее поддержки. Вряд ли в добрых делах…
Убийца в пушкинском лицее

Лицеисты
Для нас Царскосельский лицей – место почти идиллическое. Легендарное учебное заведение, которое поддерживал сам император Александр I. Лучшие преподаватели, самые передовые программы… Историки редко вспоминают, что в этом «пристанище наук и муз» действовал один из самых жестоких серийных убийц старой России. И, быть может, первый серийный убийца, которому приходилось скрываться, соблюдать конспирацию, скрываться от полиции. И самое интересное, что он был он любимым слугой – не чьим-нибудь, а лицеиста Александра Пушкина.
Таинственный душегуб
В 1812 году Царское село сотрясали жутковатые новости. Неизвестный убийца нападал на одиноких прохожих и расправлялся с ними, нанося несколько сильных и точных ударов ножом в грудь или шею. Бывало, что душегуб предварительно оглушал свою жертву и лишь потом брался за нож. Убитых он грабил, не гнушаясь ничем. Брал и дорогие часы, украшения, награды, срывал позолоченные пуговицы, снимал с пальцев перстни. Неизменно брал все деньги, разнообразные булавки, запонки, а иногда – и детали одежды. Для простолюдина – неплохая нажива. Для промотавшегося офицера – тоже. Для состоятельного человека это, конечно, не деньги, но иногда людей толкает на преступление не нужда, а желание удовлетворить порочные желания…
Трупы по утрам
Царское село – место, в котором жила избранная публика. Казалось, что там каждый знает каждого. Но эти преступления навели ужас на окрестности дворцов и богатых особняков. Никто ничего не видел и даже не слышал криков. Только по утрам находили окровавленные трупы. Когда это случилось в первый раз – случай постарались замять. Такие убийства в те времена были нечастыми. Руководство Лицея надеялось, что это просто трагическая случайность. Но вскоре в лицейском саду нашли второй труп. А за ним – еще одного ограбленного, который остался жив после ранений и, увы, не мог ничего поведать о приметах злодея. Тут уж все, кто отвечал за благоденствие Царского села, потеряли сон.
Убийства при царском дворе
В Лицее учились отпрыски самых знатных фамилий, все они были на счету у царя. А неподалеку вообще располагалась летняя резиденция императора. Дерзость убийцы была поразительна. Назревал нешуточный скандал, о котором, конечно, не писали газеты. Чай, у нас не Британия. Но в народе о Царскосельском Душегубе рассказывали самые невероятные истории – преувеличивая и количество жертв, и жестокость этих ночных акций.
Исчадие ада
Крестьяне, жившие неподалеку, люди религиозные, конечно, принялись фантазировать, что в Царском Селе орудует демон, исчадие ада, которого небеса послали в Россию в наказание за наши грехи. Вспоминали даже Петра Великого с его недостаточным почтением к вере православной. «Душегуб всех нас отправит замаливать грехи на тот свет», – примерно так рассуждали несчастные хлебопашцы. Лицеисты, которые быстро узнали о кровавых проделках неизвестного, предпочитали подшучивать над теми, кто боялся душегуба.
Кто преступник?
Оставалось только гадать – кто этот преступник? Обезумевший аристократ? Кто-то из обслуги? А, может быть, офицер или солдат, превратившийся в убийцу? Знали о нем немногое. Только то, что это человек высокого роста и недюжинной силы. И – что он умеет обращаться с ножом. Повар, сапожник или все-таки военный? Ведь он, как утверждали медики, бывало, с одного удара едва не срезал людям головы.
Присмотр «дядек»
Руководство Лицея всполошилось. Тайком преподаватели и солдаты устраивали неожиданные обыски. Лицеистам запретили прогуливаться вечерами без присмотра слуг – «дядек». У Александра Пушкина таким дядькой был Константин Сазонов. Этот плечистый парень, уроженец окрестностей Царского, был ненамного старше юного поэта – всего лишь года на три. Они ладили, почти дружили. Сазонов, как и Пушкин, жил в Лицее на полном пансионе, получал неплохое – по меркам «людей низкого звания» – жалованье. За такую работу обычно держались двумя руками.
Полиция взялась за дело. Правда, министр просвещения, старик Алексей Разумовский и директор Лицея Николай Кошанский противились вмешательству в жизнь «монастыря науки». Через некоторое время убийства прекратились – но кровавых случаев в Царском к тому времени было уже не меньше семи! Полиция об этих случаях не забывала.
Поездка на извозчике
Прошло почти два года. Зимой 1816 года Сазонов по личной надобности собрался в Санкт-Петербург. Он нанял извозчика за достаточно высокую для того времени плату – с него потребовали полтинник. И, конечно, дядька Константин решил, что цена слишком велика. Он решил улучить момент и обобрать извозчика до нитки. По обыкновению, он перерезал ему горло, но в карманах несчастного обнаружил только 24 копейки. Даже по тем временам – немного. Огорчившись, Константин сбежал с места трагедии. Но, видимо, его, как и других слуг, уже держали под подозрением. Вполне возможно, что кто-то видел, как он торговался с извозчиком, которого нашли мертвым. Словом, за Сазоновым стали следить.
Злосчастная монета
Разоблачили его не сразу. Прошло несколько дней после убийства извозчика, когда, на глазах у всех, Сазонов выронил украденную монету. И – непросто бросился ее искать, а покраснел, как рак, занервничал. Всем это показалось подозрительным, а пушкинский «дядька» тихо проговорил: «Эх, даром все дело пропало». Его тут же арестовали и допросили. Парень быстро признался во всех своих чудовищных преступлениях. Его узнали и выжившие жертвы – их было двое.
Слово поэта
Пушкину оставалось скрывать свое потрясение под маской иронии – ведь он два года, можно сказать, жил бок о бок с убийцей. Ежедневно рисковал. Он устал от расспросов о Сазонове – и решил закрыть эту тему, написав на своего арестованного слугу такую эпиграмму:
Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым.
Мой друг! Остался я живым,
Но был уж смерти под косою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель – лекарем моим.
Франц Осипович Пешель, которого Пушкин противопоставил Сазонову, был лицейским врачом, милейшим, веселым и безобидным человеком. Упоминание такого человека рядом с мрачным убийцей вызывало смех.
Соблазн для слуги
Чем же объяснить дело Сазонова? Убийства он совершал в 18–20 лет. Несмотря на внушительную наружность, был еще «зеленым», глуповатым парнем. Скорее всего, попав в лицейскую атмосферу, он просто не выдержал соблазнов. Слишком сытно и комфортно жили молодые аристократы, посылавшие его за сладостями и отмечавшие свои праздники пуншем. Он тоже попытался вырваться из нищеты единственным способом, который посчитал возможным – грабежом. А обращаться с ножом он умел: с раннего детства разделывал кур. И силу имел богатырскую.
Слог Гомера
Одной пушкинской эпиграммой творчество лицеистов, посвященное убийце, не ограничилось. Друзья Пушкина написали коллективную поэму, которую назвали по-гомеровски – «Сазоновиадой»:
Тихо все в средине града
И покой лишь обитает,
Из Лицея, как из ада,
Вдруг Сазонов выступает,
С смертоносным топором
На разносчика летит…
…И вдруг в одно мгновенье
Ему всю голову расшиб,
А мальчик в сопровожденье-с,
Его рукою же погиб
В юности легко смеяться даже над самыми кровавыми кошмарами. Особенно – за круговым стаканом пунша. Поэму опубликовали в рукописном журнале «Лицейский мудрец».
Британский путешественник
Пушкин ни в одном произведении не использовал этот сюжет. Но первое столкновение с таинственными преступлениями, несомненно, повлияли на его пристрастие к таким сюжетам, как «Пиковая дама» или «Выстрел». Однажды, много лет спустя, поэт разговорился с английским путешественником Томасом Рейксом. Речь зашла о криминальных преступлениях. В своих записках, опубликованных в Лондоне, он поведал об этом разговоре: «Как-то вечером в обществе зашёл разговор об убийствах, которые здесь не редки в низших классах общества. Поэт Пушкин сказал весьма серьезно, одного из самых наиболее интересных убийц ему довелось знать лично. Этот человек безнаказанно совершил восемь убийств, девятое было раскрыто». Значит, надолго запомнил Пушкин эту кровавую истории из тех времен, когда «в садах Лицея он безмятежно расцветал». Как-никак, к нему был близок один из первых русских серийных убийц…
Судьба серийника
О судьбе Сазонова после ареста мало что известно. Скорее всего, он сгинул на каторге. Во времена Александра I в России редко казнили – даже «мужиков». Хотя вполне могли и повесить и расстрелять после следствия – с разбойниками так поступали. И, если они не относились к высшим сословиям, все происходило тихо, без публичности. Центральная пресса о Царскосельском душегубе помалкивала.
Первый советский серийник

Василий Комаров
В этой истории всё проникнуто мрачной атмосферой послереволюционной разрухи и нищеты. Жестокое было время. Обычно в такие времена люди стараются помочь друг другу. Тем более, что настоящих богачей было маловато – и грабителям стало скучно. Но и в такой чрезвычайной ситуации проявляется преступный дух.
Василий Комаров родился в 1877 году в Витебской губернии. Ко Комаров – это из криминальной энциклопедии, а при рождении он получил фамилию Петров – по отцу Терентию. Последний был рабочим на железной дороге, немало, по крестьянским меркам, зарабатывал, звезд с неба не хватал, зато очень любил горячительные напитки. Попросту, был больным алкоголиком, хотя и выполнял свои обязанности.
У него было 12 детей. Почти все – пьющие и агрессивные. Один из братьев Василия Комарова закончил жизнь на каторге: он попал туда за убийство начальника. Как несложно догадаться, преступление осужденный совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. Василий мечтал воровать, пить, но избегать наказаний. Оказалось, некоторое время это возможно…
Комаров начал хлебать самогон в 10 лет. С 13 лет работал пастухом, а с 16-ти пил без удержу. При этом отличался крепким здоровьем и стальными кулаками. Друзья его побаивались. Вскоре Комаров ушел трудиться к отцу – ремонтником на железную дорогу. Там платили хорошо, но все заработанное Василий спускал на выпивку, и денег ему часто не хватало. Что ж, Комаров подворовывал у соседей. И весьма ловко. Не попадался. В нем проснулся криминальный талант. Видимо, он был рожден для преступного мира.
Потом – Первая Мировая. Василий ушел в солдаты. Вернувшись через четыре года в родной Витебск невредимым, решил обзавестись семьей и вскоре взял в жены односельчанку. Она была очень ревнива, но хобби своего мужа разделяла полностью: выпивали они на пару каждый вечер. Спивались на двоих. Он устроился работать на военный склад, и там попался на левой торговле. Петрову всегда хотелось жить чуть богаче, чем он того заслуживал. Пришлось отсидеть около года. Жена его ждала, но, вернувшись, он ее оставил. Во многом они были родственными душами, но Василий устал страдать от ее ревности.
Почему-то ему казалось, что рай земной находится в Риге – сравнительно неподалеку от Витебска. Туда он и переехал. Там женился на симпатичной польке Софье, которая не слишком усердно пила. Он в ярости бил ее вожжами. Супруга терпела побои: шла война, трудно было найти спутника жизни. В 1915 году семья Комарова перебралась в Поволжье, спасаясь от подступавших к Риге немецких войск. Оказаться под оккупацией им не хотелось. Потом свершилась революция. И Комаров попытался выдать себя за несчастную жертву царского режима. Ведь он сидел целый год! В определенных кругах его за эту «отсидку» уважали. И простодушные комиссары поверили ему, не заметили криминальных наклонностей. Сидел при царе, по происхождению – рабочий. Как такому не поверить? Большевики позволили Василию освоить азы грамоты, и он начал активно бороться с контрреволюцией, дослужившись до командира взвода. Говорят, тогда он участвовал в расстрелах. Убивал и офицеров, и бунтовавших крестьян. И это ему понравилось – лишать жизни тех, кто не способен ничем ему ответить. Полная власть над людьми! То, что вдохновляет маньяков – быть всесильным. Он даже побывал в плену у белых, но каким-то образом бежал. Хотя такого человека должны были расстрелять… Это одна из подозрительных страниц истории товарища Петрова-Комарова.
А потом он переселился в Москву – как новый хозяин жизни. Свою истинную фамилию – Петров – к тому времени он уже совсем забыл. Стал Комаровым окончательно. Ему хватило денег на покупку добротного по тем временам дома на Шаболовке. Откуда? Возможно, во время войны ему удалось кого-то крупно обокрасть. Но поговаривали, что он был платным агентом белой разведки. А это дело доходное. Но скорее всего, уже тогда он занимался грабежами. Во время НЭПа Василий купил лошадь и занялся извозом. Сначала – работал в разных организациях, возил товар. Подворовывал, добычу сбывал на рынке, но пойман не был. Когда он стал частным извозчиком, редко брал пассажиров. Основное время проводил на Конном рынке.
В 1921 году он впервые занялся делом, которое составило Комарову дурную славу. Он по привычке прогуливался между прилавками, поглядывал на лошадок. Некий крестьянин на Конном рынке хотел купить лошадь. «А вот я хочу свою продать», – подскочил к нему Комаров. Крестьянин и Василий договорились о сделке и отправились на Шаболовку к Комарову для окончательного расчета. Замечательную покупку решили замечательно обмыть. Водка (редкость по тем временам!) у Василия имелась в достатке. Крестьянин после двух-трех стопок опьянел, разоткровенничался. Сказал, что у себя в селе продаст эту лошадь дороже, сможет нажиться. Это взбесило Комарова. Он спустился в чулан, взял молоток – и долбанул гостя по голове.
«Так забивают скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него [Комарова] в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя», – писал о нем Михаил Булгаков, в то время – газетный корреспондент, освещавший это дело. В тот раз Комаров находился в квартире один. Жена и маленький сынок где-то гуляли.
Комаров действовал как опытный мясник: раздел убитого, привязал руки и ноги к животу, упаковал тело в мешок и оттащил на соседний заброшенный участок, где стоял полуразрушенный дом, который хотели перестроить в баню. Это местечко показалось ему удобным и для дальнейших делишек.
Он стал каждый день ходить на охоту на Конный рынок. Потом в его доме появлялся новый собутыльник. Однажды свидетельницей убийства стала Софья. Она стала во всем помогать мужу. Ведь он грабил своих жертв дотла – семья получала прибыль. Тогда он ударил несчастного топором по голове, было немало крови. Она все убрала. Вскоре на месте несостоявшейся бани Комаровы похоронили больше десяти человек.
Они были еще и верующими. После каждой расправы супруги усердно молились перед иконами за невинно убиенные души. А бывало, что хозяин дома, вопреки традициям того времени, приглашал к себе священников из ближайшей церкви и просил их провести молебен, а после в знак благодарности поил вином. При этом он не нервничал, не выглядел опечаленным или напуганным.
За первый год своей «серийной» деятельности Комаров отправил к праотцам 17 человек. Их больше негде было хоронить: заброшенный участок переполнился трупами, летом там стоял неприятный запах. Только слабая работа милиции в те годы еще на год отложило разоблачение маньяка.
Отсутствие привычного мечта складирования трупов не остановило Комарова. С тех пор после каждого очередного убийства он прятал тело в мешок и ночью вывозил на телеге к берегу Москвы-реки. Вода принимала всех. Однажды Комарова остановил милиционер, который поинтересовался, что находится в повозке. Убийца с невозмутимым видом предложил стражу порядка лично проверить мешок, но милиционер не захотел и просто отпустил Василия. После этого в такие ночные поездки он брал жену: так они выглядели менее подозрительными. Софья во все помогала ему. Только во время визитов с «клиентами» удаляла из дома детей. Ребятишек они к своим черным делам не примешивали. Зато кровь она смывала с крайней аккуратностью. Даже при обысках ничего не заметили.
В 1921 году в милицию начали поступать заявления о пропавших людях. История была одна и та же: пошёл на Конный рынок на Серпуховке и не вернулся. Потом на рынке нашли два трупа. Несколько человек всплыли на Москве-реке. Потом то и дело в недостроенных зданиях стали находить холщовые мешки с трупами. Способ убийства был одинаковым: удар по голове молотком или топором (чаще – обухом) – и удушение. В городе началась паника. Какие только слухи не ходили… Поговаривали о дьявольщине, а значит, зашаталась репутация советской власти: мол, из-за нее в Москву явился сам сатана со своими слугами.
Команду немедленно изловить маньяка дал лично Владимир Ленин – и на Комарова объявили настоящую охоту. За дело взялись лучшие криминалисты, которых собрали по всей стране. Они сразу определили, что все преступления совершает один человек. И установили его профессию: мешки со следами овса, в которых были спрятаны тела, маньяк завязывал особым образом. Сыщики поняли, что им нужен извозчик. Их в Москве тогда было более двух тысяч. Вот и ищи-свищи. Потом оказалось, что у одной из жертв голова перевязана детской пеленкой. Значит, у убийцы есть маленькие детишки.
А он продолжал свои черные дела. Часто приманивал жертв не только хорошей ценой на лошадь, но и водкой, которая, между прочим, в то время еще оставалась под запретом. В СССР выпускали только мягкие спиртные напитки, Комаров обзаводился «беленькой» на черном рынке или гнал самогон. И на рынке сразу видел, кто не прочь угоститься. Таких во все времена можно найти немало. А особенно – во времена сухого закона. И все-таки, «сколько веревочке не виться…». Была у Комарова одна слабость – он плохо конспирировался. Не менял места «охоты». На Конном рынке не него стали обращать внимание. Он редко брал клиентов как извозчик, при этом всегда был при деньгах. За ним стали следить.
Операцию по поимке «человека-зверя» продумали досконально. 18 мая 1923 года к нему нагрянули милиционеры – вроде бы, не вооруженные, под предлогом поиска самогонного аппарата. Комаров спокойно, с ледяным равнодушием их впустил, хотя в чулане у него лежал окровавленный труп очередного несчастного. Когда он понял, что это серьезный обыск – выпрыгнул в окно и убежал. Засады не было. Но в облаве уже участвовали сотни милиционеров. Его поймали в подмосковной деревне. Комаров сначала думал драться, взялся за топор. Но потом решил: так будет только хуже. И спокойно сдался на милость победителям.
Сперва Комарова и его супругу осмотрели трое лучших психиатров СССР. Их вердикт был единодушен – супруги вменяемы, правда, самого убийцу признали дегенератом на почве хронического алкоголизма. Суд над первым маньяком Союза проходил в здании Политехнического музея. О процессе много писали: ничего подобного до этого в Стране Советов не было. Всем хотелось разобраться, почему человек, честно (а, может, не вполне честно?) воевавший в годы Гражданской, стал чудовищем. Писатели, врачи, юристы – все чрезвычайно интересовались этим делом. Неужели дело только в алкоголизме? В одержимость нечистым в то время не верили, внятных объяснений ждали от врачей. Читатели ждали новых репортажей о «шаболовском душегубе». На суде вели фотосъемку. Комарову было 45 лет, но выглядел он изможденным стариком. Все-таки, быть серийным убийцей – дело неблагодарное, да и алкоголизм никому еще не добавлял здоровья.