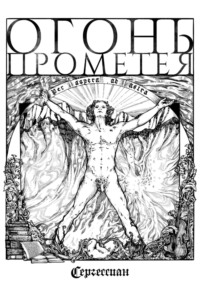Czytaj książkę: «Огонь Прометея»
«Разум (λόγος) – архэ человека».
«Большая этика», Аристотель
«Познай себя».
Древняя мудрость
Пролог
«Сколь дивен этот мир и сколь полон скорби… Жизнь – обреченная надежда и проникнутая надеждой обреченность; бесцельная осмысленность и бессмысленная целеустремленность… Рассвет и закат. Цветение и увядание. Все рождается, чтобы погибнуть. Все гибнет, чтобы дать место новому рождению…
Цикл бытия подобен вращающимся колесам моего экипажа и сродни оному стремится в неизвестность…»
Так размышлял я, глядя в окно кареты, когда из-за сизых волн леса, размывая мглу, выплывало жемчужное солнце осени. Свежесть пробуждения вливалась в мой дух струей животворящей. Величественное безмятежие природы, проявлявшейся передо мной, исполняло сердце трогательного волнения…
Мимо утопавших в трепетной дымке рощ и равнин, мимо полноводных рек и лесистых цепей гор, мимо порыжелых пастбищ и отдаленных селений, чьи смутные очертания проступали сквозь тающий туман, катила карета. Зеленые, желтые, оранжевые краски листвы и пылающе-алые гроздья диких ягод, бурая проседь поблекших лугов и темные гущи кустарников – несметной, околдовывающей вереницей переливались за окном. Средь бескрайней тиши разносились цокот копыт, гул колес и звон колокольчика; стаи перелетных птиц по временам тревожили высь небесную; где-то вдалеке протрубил олень…
И забывшись в созерцании элегичных ландшафтов, я до самых сокровенных фибр своего естества испытывал то, о чем писал Поэт, воспевший осень, «пленяющую нас самой печалью, что переполняет душу, не смущая ее, что не будоражит ее обманчивым наслаждением, но пронизывает всю, питая сладостным чувством, полным таинственности, величия и тоски…»
«Всему положен свой предел», – олицетворяли широко расстилавшиеся пейзажи; и когда карета въехала в сосновый бор, где под кущей раскидистых ветвей мертвенно покоился сумрак, вдохновенное забытье мое исподволь источилось, оставив по себе пустошь, на которой тотчас стали взрастать тернии давешних помыслов. И как скоро дорога вновь вышла на равномерно залитые приглушенно-мягким светом просторы, и окрест потянулись гряды гор и скалистые отроги, и извилистый поток перелесков, медной патиной подернутых, зазмеился по холмам, по низинам, я, открыв свой саквояж, вынул из него два письма, кои обосновывали необходимость моей нынешней поездки, но не разъясняли ее суть.
Первое – от профессора медицины доктора Альтиа́та, некогда бывшего моим лицейским преподавателем, отправленное post mortem («посмертно») более двух лет тому назад, и все это время надежно хранимое средь избранных моих бумаг. Я внимательно перечитал его:
«Здравствуйте, Део́н! Мы с вами давно не виделись и, очевидно, уж не свидимся. Хотелось бы сказать на прощание (хотя склонен верить, вы и без того все понимаете): несмотря на то, что порою выказывал вам определенный градус холодности, долженствующий остудить ваш ювенально-рыцарственный пыл, я заслуженно почитал вас за крайне способного и исключительного в своей глубокой самоотдаче ученика, которым можно лишь гордиться; но что всего важнее – человека высоких умственных и моральных достоинств. «Medica mente non medicamentis» («Лечи умом, а не лекарствами»). Правомерно, вы оправдали мои ожидания; мне, ex animi sui sententiam («согласно душевному убеждению»), подобало бы послать вам свой портрет с подписью: «Ученику, превзошедшему учителя» (как это принято у поэтов), – да только, право же, моя антисентиментальность отсекает на корню все нежные росточки, подчас пробивающиеся сквозь кору задеревенелого цинизма, каковой, увы, вернейший териак1 от хандры (aut lamentum aut risus («либо плач, либо смех»))… Я наслышан, что ваша врачебная практика идет как нельзя лучше, и славное имя ваше уже давно на благодарном счету в самых почтенных домах. Но куда приятнее мне быть осведомленным, что, оказывая свои услуги тем, кто может их себе позволить, вы с присущим вам благородством печетесь и о тех, кому жестоким роком или собственной слабостью (что чаще всего idem («одно и то же»)) уготовано страждать в нужде, предоставляя таковым всю возможную помощь pro bono («безвозмездно»). Впрочем, не забывайте, меру должно знать во всем – даже в благодеяниях (посмею утверждать: особенно в благодеяниях).
Мы, врачи, как бы играем шахматную партию со смертью, в коей на кону здравие и жизнь больного, а вы, Деон, хронически тяжело переносите проигрыши, но благо и ходы всякий раз совершаете lege artis («мастерски»). Вы бесперечь стремитесь стать в своем деле высочайшим, однако не из тщеславия, не из честолюбия, но в силу естественной человечности, – вы горите искренним желанием – испытываете чувство долга – «спасать людей». Я всегда гордился вами и всегда жалел вас. В душе вы больше поэт, чем врач; и кровь для вас не просто один из четырех «академических соков», диагностированных его святейшеством Гиппократом, но эпитомия самой жизни; вы никогда не могли сделать надрез с холодным сердцем, ибо никогда не занимались пациентом, но неизменно человеком – никогда ремеслом, но неизменно искусством. Очевидно, именно потому вы столь превосходный доктор; quia («ибо»): «Где любовь к людям, там и любовь к искусству». Как говаривал Гален: «Хороший врач обязан быть философом». А кто есть философ, если не тот, что миросозерцает более сквозь призму души, нежели линзу рассудка? Tamen («однако»), ни в коем случае не дозволяйте душе возобладать над рассудком: подлинная воля – акт рациональный, а не эмоциональный; коль скоро вы избрали своей стезей врачевание – нескончаемую дуэль со страданьями и гибелью – то обязаны непроницаемой броней сковать чувствительное сердце, – иначе оно подведет вас. И ни при каких обстоятельствах не забывайте золотые слова великого магистра нашего ордена: «Medicus curat, natura sanat» («Врач лечит, природа исцеляет»).
И иногда natura уже не способна исцелить. Так ныне со мною. «Ars longa, vita brevis» («Искусство долговечно, жизнь коротка»). На протяжении всей своей напряженной жизни я растрачивал ментальную и физическую энергии на тех, кто, по большей части, того, вероятно, не заслуживал, – вычищал авгиевы конюшни, так сказать, – следуя завету благороднейшего из безумцев: «Только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других»; и сия безрассудная «милостыня» привела меня к закономерному итогу – жалкой немощи. Я, Деон, едва способен держать перо (посему не обессудьте на усугубление и без того корявого «врачебного почерка»). Не удивляйтесь: мое сердце отроду было слабым, хотя мне и высказывали неоднократно, что оно у меня выковано из железа. Это письмо – последний всполох истлевшего угля… Уж священник черным вороном кружит у моего одра, предрекая скорую кончину. А я, heu («увы»), бессилен схватить трость да прочь прогнать эту докучливую гарпию: Fugite, partes adversae! («Сгинь, нечистая сила!»). Так вот по милости моей дражайшей супруги, bona fide («искренне») полагающей, что тем самым она богоспасает безбожную душу мою, каждодневно заявляется ко мне «лекарь духовный» и прикладывает ко лбу хладное распятие, да mala fide («неискренне») шепчет мне в нос свои нечленораздельные тошные молитвы, напитанные жгучим запахом жаркого с луком и чесноком. Если уж я сношу это, друг мой, то в мире, верно, не осталось ничего, что не смог бы я снести; ergo («следовательно»), сие есть смертное отчаянье. И не сбыться уж моей мечте: пасть достославной смертью Хрисиппа2…
Короче говоря, acta est fabula («представление окончено»). Лезвие Морты3 коснулось истрепанной нити моей судьбы. Но я воистину рад, что решающее движение не сделано ею, и in extremis («перед кончиной») имею возможность написать вам. Впрочем, ответа вашего я не дождусь, посему ж не стану и любопытствовать, как вы поживаете, – ведь не долог час, когда, глухой до всего земного, я буду покойно внимать немой музыке вечности… Не спрашивать – просить хочу я вас – вас, Деон, и никого иного – не надеясь, но зная, что вы не откажете мне в единственной просьбе.
Вот в чем сия просьба заключается: ежели когда-нибудь вас призовут от моего имени, то, оставив все свои дела, безотлагательно отправляйтесь, поскольку помогать людям возможно в любой день, тогда как случай спасти Человека может не представиться и вовек, а преминуть таковым – величайшее прегрешение на свете.
Философа Гераклита, прозванного «Темным», часто укоряли в надменности и мизантропии, но его попросту не понимали (ибо не смели понять), когда заявлял он: «Трех мириад мне дороже один, коли он наилучший». Верю, Деон, брат мой, что для вас в этом речении нет ничего темного, но, напротив, оно зрится вам ярким проблеском меж серых туч бытия. Vale («Будьте здоровы»).
P.S. «Непреодолимое взору глаз, одолевается взором разума».
P.P.S. Ради бога, не приходите на мои похороны; лично сам я там присутствовать не буду».
Я получил данное письмо на следующий день после написания; доктора Альтиата уже не было в живых (подозреваю, он задержал себе дыхание); и за минувшие два года часто вспоминал об этом послании, но ни разу не перечитывал. Затаенно ждал момента, когда в том появится насущность. И вот момент настал. Ибо сегодня в четвертом часу ночи мне с нарочным было доставлено второе из находящихся при мне писем – короткая, лаконичная записка:
«Доктор, просим вас срочно прибыть в поместье, что располагается в горах близ селения Амвьяз. По возможности скорее наймите быстрый экипаж. Возьмите с собою все необходимые хирургические инструменты и медикаменты. По прибытии экипаж отпустите.
Пожалуйста, не теряйте ни минуты. Вопрос жизни и смерти.
Ваш адрес оставил нам доктор Альтиат. Он поручился за вас, как за самого верного человека».
На втором листе, вложенном в конверт, подробно излагался маршрут от Амвьяза до горного поместья.
Подписи не наличествовало.
Осведомившись у нарочного, кто отправил его ко мне с этим посланием, я получил следующий ответ:
– Старик один. Как зовут его не знаю. Нельзя ведь спросить, – невесело усмехнулся сей шепелявящий юноша, – того, кто не разговаривает.
– То есть? – вскинул я брови.
– Немой он… иль прикидывается таким.
– С чего бы ему прикидываться? – поинтересовался я.
– А с того, что скрывает он что-то… – потупив взгляд, сказал гонец; и глухо примолвил: – Что-то нечистое творится в этом горном поместье.
– Что вы имеете в виду?
– То и имею… – буркнул юноша (тема сия, очевидно, была ему не по нутру, как кошке аромат лаванды). – Старик-то, по всему видать, слуга. Да только ж чей?.. Заезжает он по временам на своем возе к нам в Амвьяз провизией закупиться, да на почту заглядывает. А вот господина его – хозяина-то горного поместья – никто никогда (за тридцать-то лет!) в глаза не видывал, никто о нем и не слыхивал… Вот и ходят издавна разные слухи…
– Какие слухи?
– Ну… – замялся нарочный, уставившись в пол и скребя паркет мыском сапога. – Говорят, что прислуживает сей бессловесный старик колдуну какому, некроманту, вурдалаку – чудищу сатанинскому, иль хуже того, – юноша рефлекторно перекрестился, – самому врагу рода людского… Я, конечно, всякому такому не шибко-то верю, – наспех проговорил, смущенно почесывая затылок, – но все-таки ж… – протянул раздумчиво, – все-таки что-то там, в этом горном поместье, явно нечисто… Такие толки, знаете ли, на пустом месте не возникают…
Когда ж я поблагодарил его за скорую доставку, присовокупив при сем монету на чай, юноша с озабоченной признательностью во взоре сказал мне на прощание:
– Много любезен, ваша милость… Вы уж поступайте как знаете, не вправе я вам советы подавать… да только… совесть меня мучит: как бы это письмо вам на пагубу не пришло. По всему-то видно, что вы и не ведаете вовсе, кто вам оттуда пишет… И старик-то этот явился ко мне за полночь, землистый, что покойник… простаки, можно сказать, приневолил меня седлать коня и к вам галопом пуститься – в самую-то темень… Как околдовал… – потупился курьер. – Что-то такое было в его глазах… что-то тревожное… пугающее… что-то вот, знаете, прямо-таки необычайное… за душу берущее… И… – запнулся. – И… Ах! – досадливо махнул рукой. – Да что тут скажешь?.. Но вот лично я б туда, – воззрился на меня чуть не с мольбою, – избави боже, сударь, в это горное поместье, ни за что на свете по собственной воле не отправился б. Готов поклясться, никто из нашего селения туда шагу ступить в своем уме не отважится… Слухи слухами, да только ж… Помяните мое слово: что-то там не то, что-то там этакое, что-то там нечисто… какая-то страшная тайна кроется в сем горном поместье…
Весь этот разговор как вживую повторился в неприметно нисшедшей на меня дреме, и снова вязкая обеспокоенность забродила в груди…
Сквозь полусон я почувствовал: лошади встали. Затем прозвучал голос кучера. Я признал его, но произнесенных слов, что паром рассеялись, не успел осмыслить. Тогда, раскрыв глаза и сконцентрировав внимание, я услышал, как кто-то пылко восклицает сиплым, натужным криком:
– Верно! Верно, черт возьми! Да только даже не думай, говорю, туда ехать! Поворачивай, говорю, подобру-поздорову и мчись прочь, покуда цел! Ты зачем туда намылился в это проклятое место?! в это бесовское гнездовье?! А?!
Я выглянул из окна. Карета стояла посреди безлюдной, немощеной улочки, вдоль которой неказисто кучились ветхие постройки. Пожилой мужчина с жидкими, свисающими вниз усами и крупным сливового оттенка носом, экспрессивно размахивая клюкой, взывал к кучеру с ростр4 своего опьянения:
– Думаешь, я тебе тут шутки шучу? Думаешь, всякий вздор спьяну мелю? Думаешь, говорю, старик, мол, совсем из ума выжил? А ты вот послушай-ка, что я тебе днесь порасскажу! Тогда-то по-другому, голубчик, у меня запоешь!
– В чем дело? – возвысил я голос.
– А! – вскликнул старик, резво ко мне прянувши. – Вы, сударь, говорю, ужели впрямь в горное поместье направляетесь?
– Ужели… – сухо ответил я, отстраняясь вглубь экипажа от бьющего в нос перегара.
– А что это, позвольте поинтересоваться на милость божью, – с нахально-комичной деловитостью и несуразными ужимками закудахтал пропойца, – что это у вас там, сударь, за дело такое?
– Это вас не касается, – возразил я.
– И то правда! – осклабился он. – Да только ж вот не припоминаю, говорю, чтоб туда кто-нибудь наезжал особо, в эту богом забытую глушь… А вчера вот такая жуть приключилась, и поглядите-ка: как добраться интересуются!
– И что же, собственно, вчера приключилось? – спросил я.
– А вы разве не знаете? Нет?! Вот так вот… – покачивая взъерошенной головой, старик иронично зацокал языком. – Ну что за дьявольщина! Не знаете и туда-то катите? Боже правый! Вот уж чем дальше, тем чуднее! Какая ж это нечистая сила вашу милость в сей адский омут потянула?
Старик выпучил глаза и вопрошающе уставился на меня. Я же, в свой черед, сохранял хладнокровное безмолвие, полагая, что, дабы выяснить меня интересующее, мне отнюдь не обязательно раскрывать собеседнику интересующее его, – поскольку народ в массе своей устроен таким образом, что коль скоро испытывает тягу о чем-либо рассказать, то, дай срок, не только не потребует взамен уплаты, но даже будет готов сам приплатить, лишь бы его благосклонно выслушали. Моя теория себя оправдала.
– Так вот послушайте, – едва погодя, нетерпеливо сглотнувши, начал старик, сопровождая дальнейшую речь уймой гипервыразительных гримасничаний и жестов, – послушайте, говорю, сударь, что я вам с собственных глаз и ушей сейчас поведаю… Уж много лет поместье это в горах – «у черта на рогах» – под пугалом дурной молвы пребывает, кишит, что погреб крысами, богомерзкими слухами. Никто из Амвьяза туда – в это место треклятое (чтоб оно сгинуло!) – и близко-то сунуться не смеет. А вот, говорю, есть у нас тут один смельчак желторотый, решил в тех местах, значит, поохотиться; думал умник, видать, что раз уж туда охотничий сапог ступить стережется, дичь, чай, покойно эдак себе там расхаживает, что в райских кущах. И сижу я, значит, вчера себе в кабаке посиживаю, как врывается юнец сей сказанный, бледный, вот точно смерть сама, с ружьем в руках колотящихся; челюстей дрогнущих, говорю, свести не в мочи. Все аж с мест своих повскакивали!.. Ну, хозяин, не дурак, смекнул сходу, что случилось, поди, чего, и тут же стакан доверху ему наполнил чем погорячее, дабы парень оттаял чутка, что говорится. И вот, говорю, первый стакан он залпом опрокинул – застонал; тут же второй – слезами залился; вдогонку третий – голову руками этак обхватил да пялится отупело в одну точку глазами, вот точно стеклянными. Мы все его, говорю, обступили и спрашиваем: чего, мол, стряслось у тебя такое? Молчит. Потом опять навзрыд расплакался. Уж, говорю, не помешался ли, думаю. И вот наконец, значит, промямлил: «Я черта подстрелил!» – говорит. Все б и посмеяться рады, да на парня-то этого глядим и, говорю, не до смеха совсем уж. «Что ты такое там мелешь?» – спрашиваем. А он только-то и повторяет: «Я черта подстрелил!», – осушает один за другим и слезы глотает вприкуску, что виноград, гроздьями. «Какого черта?» – спрашиваем. «Страшного», – отвечает. И все тут! «Да где же? где?» – спрашиваем. А он смотрит, говорю, на нас зеницами помешанными и сквозь зубы-то колотящиеся цедит: «Близ горного поместья… там… там… логовище сатаны!» Так-то и упился вусмерть; домой на руках, говорю, только-только мо́лодцы наши его отволокли… – понуро вздохнул старик. – Голову седую свою на отсечение даю, что все вот так вот в точности и было! – вытаращив глаза, заверительно шлепнул себя по лбу ладонью (словно штемпель поставив). – Ни полсловечка не приврал! Богом клянусь!..
Я промолчал.
– Что ж вы на это, ваша милость, скажите?
– Ничего… – ответил я.
Старик, недобро ухмыльнувшись, отступил на шаг назад:
– Что ж это у вас там за дела такие… – пробормотал он, щурясь с рысьей подозрительностью. – Не передумали, значит, ехать-то туда?
– Нет, – был мой ответ.
– Ну так возница ваш верно у меня дорогу испрашивал; как говорил, так пускай и гонит. Да поможет вам бог! Ежели только… – с неуклюжей размашистостью старик осенил себя крестным знамением. – Ежели только, говорю, вы не на стороне врага его вековечного… – мутный взгляд вспыхнул злорадством (будто воспламенившееся болото).
– Трогай! – решительно кликнул я кучеру.
Чем дальше мы продвигались, поднимаясь вверх по ущелью, тем теснее обступали нас скалы, тем теснее становилось у меня в груди. Я не знал, что и думать обо всей этой таинственности, затянутой паутиной суеверий, обо всей этой непостижимой мистике, о дважды мне высказанных зловещих предостережениях, об энигматической недосказанности писем, у меня в саквояже лежащих. Я впал в ступор умственной растерянности, и время, как при горячечном сне, увлекая душу, уносилось стремниной беспамятства… пока я внезапно не заметил, что мы прибываем.
За усыпанной желто-алой листвою аллеей, под рдеющим пологом коей ныне катила карета, виднелось белокаменное здание и снежные вершины гор, сродни облакам, над ним застыло парящие… Миновав аллею, сквозь распахнутые ворота высокого кованого забора с пиковыми навершиями мы въехали во двор; кучер остановил лошадей посреди пустынной площадки. Я вышел из экипажа и оглянул дом – ординарную двухэтажную постройку в строгом стиле: с четырьмя широкими зарешеченными окнами на нижнем ярусе фасада и шестью окнами поменьше, с балконом по центру – на верхнем; под треугольным фронтоном громоздкого портика, образуемого цилиндрической колоннадой, черным порталом зияла дверь; по стенам расползлись ядовито-зеленые пятна мха и, цепляясь за кладку, льнули пожухлые узоры плюща, под дуновениями ветра уныло трепетавшие. Тыл поместья огораживали непреступно вздымавшиеся скалы: кто бы не воздвиг сию обитель, он воздвиг ее ради всезабвенного уединения.
Простившись с кучером, неспокойно взиравшим то на меня, то на тоскливое, объятое стылым безмолвием окружение, я (нарочито уверенно) зашагал через двор с (непривычно тяжелым) саквояжем в руке, и когда, уже подходя к крыльцу, оглянулся на удалявшуюся карету, шум хода которой постепенно тонул в бездонном, неисповедимом затишье, все чувства оглушающем, остро испытал леденящее душу ощущение беззащитности человека, к вратам фатальности подступившего…
I
Я взошел на крыльцо и только вознамерился взяться за дверной молоток, как массивная дверь предо мной отворилась. Тревожный взгляд вперился мне в глаза. Рослый, широкоплечий, облаченный в черное старец, чьи белые, как снега гор, волосы, словно бы люминесценцировали в тени прохода, пригласил меня войти – жестом оробело-учтивым; и затем как я переступил порог, он спешно – с гулким стуком – засов задвинул. Холл был угрюм и неприветлив; плотные гардины на окнах – наглухо задернуты; кругом – затаенный сумрак. Я ощущал, как суеверный страх, который, казалось бы, абсолютно чужд моему рационализму, ныне бесперечь овладевает мною, студеным туманом сползаясь в груди, молниеносно пробегая мурашками по коже. Старец, поведя рукой, пригласил меня проследовать за ним (он смотрел прямо мне в глаза, но тем самым точно хотел скрыть, что предпочел бы сего избежать). С мгновение помедлив, я сделал обильный вдох, словно готовясь нырнуть под воду, и насилу двинулся, смятенным предчувствием обуреваемый. Мы поднялись по старой парадной лестнице, и, пройдя вдоль обшитого темным деревом коридора (половицы скрипели под ногами, в щелях поскуливал сквозняк) с закрытыми дверьми по обеим сторонам (все представлялось необъяснимо странным), зашли в просторную угловую комнату.
Я опешил. Остолбенел. Сердце упало и замерло, разбившимся часам подобно. Кровь похолодела в жилах. Заледенела душа. Я почти утратил способность дышать. Не постигал, что думать, как быть, куда деваться. Скованные ужасом, оцепенели глаза.
Предо мною на кровати полусидело существо, русой гривой поросшее, (в белой сорочке, под одеялом по пояс) – и пристально глядело на меня взором, насквозь пронизывающим.
– Здравствуйте, – раздался глубокий и чистый мужской голос.
– Кто вы? – судорожно вымолвил я, не чувствуя собственного тела (как окаменяющим оком василиска пораженный).
– Человек, – был ответ.
Я обескураженно обернулся на седого слугу, точно бы уповая, что он разъяснит мне: куда, к кому и зачем я попал, – все теми же встревоженными влажными глазами смотрел он на меня, стянув бесцветные губы свои в призрачное подобие улыбки.
– Вам незачем переживать, – размеренно заговорил тот. – Вы муж науки и, несомненно, знаете, какие аномалии спорадически случаются в природе. Дело в том, доктор, что я таков, каков есть, ввиду редкостного заболевания, проявляющегося в избыточном росте волос. Мне понятны ваши чувства: с первого взгляда сей недуг может показаться устрашающим, – ведь недаром литературная традиция закрепила за людьми, сродными мне в данном отношении, прозвания лютых людей-волков, диких людей-обезьян и в одном известном случае – человека-льва, – вероятно, именно отсюда исходят некоторые легенды об оборотнях и зверолюдях. Однако за исключением превышающей норму косматости, физиологически я, будьте уверены, ничем не отличаюсь от остальных мужчин. У меня нет ни волчьих клыков, ни обезьяньего хвоста, ни львиных лап. Я безобиден и не представляю, как это вообще возможно кому-либо навредить; в жизни, бесспорно, есть вещи, за которые достойно погибнуть, но нет таких, за которые достойно погубить… И в знак того, что вам не следует испытывать ко мне ни малейшей опасливости, я дружески протягиваю вам свою человеческую руку.
Сказавши это, он поднял десницу, совершенно чистую и, сверх того, более походящую на грациальную девичью кисть, нежели на кисть взрослого мужчины. Мерная, благожелательная, а главное, разумная речь воздействовала на меня воистину успокоительно и – взволнованный, но уже не подверженный панике – я смело ступил вперед – принял протянутую мне длань.
– Мое имя Себа́стиан, – сказал сей человек, проникновенно на меня глядя; и я восхитился прозрачной глубинности его карих глаз.
– Деон, – представился я, стараясь с достоинством удерживать свой пристыженный взор.
– Да, я знаю… Деон… – произнес Себастиан; мирная улыбка окрасила его бледно-розовые губы, окруженные густой лицевой растительностью, что сплошь скрывала нос и уши. – Доктор Альтиат не единожды рассказывал мне о вас.
– Вы были хорошо с ним знакомы? – поинтересовался я (скорее, дабы выказать, что овладел собою, нежели оттого, что в тот миг меня это занимало).
– Присаживайтесь пожалуйста, – своим ровным тоном, в котором взаимно сочетались и величие и кротость, сказал Себастиан, указывая на обитый зеленым бархатом стул, подле располагавшийся.
Сев, я посмотрел на старца, в изножье кровати стоящего: он весь просиял, будучи утешен положительным развенчанием напряженной ситуации; мы синхронного обменялись дружественными кивками (и только теперь я различил, сколь он благообразен и сколько теплоты в его светлых очах).
– Да, – отвечал меж тем на мой вопрос Себастиан, – мы хорошо знали друг друга, – ведь доктор Альтиат издавна был моим врачом и опекуном, но прежде всего – моим другом. Он был благородным, сильным человеком, исполненным подлинной гуманности. Я каждодневно вспоминаю о нем с непременной радостью; горестно, когда лишаешься друга, но отрадно, когда сознаешь, что у тебя был друг, – да почему же был? и был и есть, ежели помнишь о нем, ежели чувствуешь его неизбывное соприсутствие в своей душе… – приветно мне улыбнувшись, Себастиан смолк на момент. – Доктор Альтиат, как вам, верно, известно, скончался скоропостижно, но заблаговременно предуказал, что в случае необходимости мы с Эва́нгелом можем обратиться за помощью к вам, Деон; он сказал, что вы замечательный врач и замечательный человек, что вам всецело можно довериться.
При сих словах, лестно напомнивших мне о моем долге, я спохватился и, встав со стула, склонился над Себастианом:
– У вас перевязано плечо…
(Мистический этюд тотчас прояснился в моем сознании.) Я задал утвердительный вопрос:
– Огнестрельное ранение?
– Да, Деон, – спокойно отвечал Себастиан, – в меня выстрелили из охотничьего ружья. Пуля прошла навылет. Но я потерял много крови.
– Позвольте осмотреть, – сказал я и, не мешкая, раскрыл свой саквояж. – Сперва мне нужно вымыть руки.
Старец, кивнув, немедля вышел из комнаты.
– Ваш слуга немой? – спросил я, выкладывая инструменты на прикроватную тумбу.
– Эвангел не способен изъясняться вербально, это так, но он не слуга мне, – заметил Себастиан. – Эвангел мой друг; справедливо сказать – отец; равно как и Лаэ́сий – мой покойный наставник. Покуда Лаэсий воспитывал меня и обучал наукам, Эвангел заботился обо мне (вернее, о нас троих); я никогда ничего ему не приказывал, он всегда был волен заниматься тем, чем пожелает, или вовсе уйти, но Эвангел любит меня истинно родительской любовью и почитает свое счастье в том, чтобы находиться рядом, оказывая мне поддержку, – принимает сие как долг – не как повинность. Некогда Эвангелу пришлось глубоко познать жестокость и безразличие социума, пережить гнетущее одиночество и безутешную тоску, – посему он нимало не сожалеет о том, что проводит жизнь свою здесь – вдали от людей, их утех и их забот, их мира и их войны.
– Как вы себя чувствуете? – засим осведомился я (испытывая, что еще не до конца отошел от постигшего меня потрясения и не вполне свыкся с внешностью Себастиана; но ныне он, гривой непостижимости облеченный, внушал моему духу не тревогу, а некий поистине благоговейный интерес).
– Чувствую общую слабость, жар (впрочем, не слишком сильный), некоторую стесненность дыхания и онемелую боль в пораженной конечности, – сообщил Себастиан.
Тут, внеся таз с водой и мыльницу, вернулся Эвангел. Я вымыл руки, подготовил требующиеся инструменты и приступил к осмотру ранения. Прежде всего я принялся снимать окровавленные бинты, попутно срезая ножницами припекшийся к ним волосяной покров; после аккуратно выстриг область вокруг прострела с обеих сторон торса. Все это было непривычно, странно, но при сем не возникало во мне ни малейшей гадливости, ни тем паче трепета.
– Да, – констатировал я, осмотрев ранение, – пуля прошла навылет. Рану необходимо тщательнейшим образом обработать и наложить швы. Это длительная и болезненная процедура. Вам надлежит предварительно принять опия.
– В опии нет нужды, благодарю вас, – деликатно (а вместе бескомпромиссно) возразил Себастиан. – Я стерплю.
– Это действительно болезненная и отнюдь не пятиминутная операция; в вашем состоянии она способна вызвать шоковую реакцию… – попытался я было настоять.
– Доверьтесь мне, доктор, – тихо произнес Себастиан; темно-карие зрачки его являли невозмутимую, обезоруживающую неколебимость.
– Вы уверены? – спросил я.
– Да, – был ответ.
В продолжении всего времени, пока длилась процедура, Себастиан не издал ни стона, – лишь порывистое дыхание выдавало физические мучения, кои он стойко претерпевал…
– Как случилось, что в вас выстрелили? – спросил я, наново перевязывая Себастиану плечо.
– Недоразумение, – отвечал он спокойно. – Вчера я отправился на прогулку по окрестностям. Обыкновенно мы с Эвангелом гуляем вместе, но на сей раз я уговорил его остаться дома, поскольку он простудился намедни… Стоял тихий вечер, проникновенно веющий прохладой. Я вошел под сень леса и, ступая по пестрому настилу опавшей листвы, бархатистым светом пригретой, долго бродил в мирной задумчивости, словно бы растворившись средь тиши глубокомысленной… Сумерки исподволь обесцвечивали краски рощи, планомерно заволакивая пространство мерклой пеленою; на исчерченном древесными ветвями небе все ярче просвечивали звезды; поочередно умолкали птицы; природа засыпала в нисходящей ночи… Пора было возвращаться. Я зашагал по направлению к поместью, как вдруг лицом к лицу столкнулся… с человеком… Это было не только неожиданно, но и в высшей степени необычайно для меня, – ведь уже много лет мне не доводилось лицезреть незнакомых людей. Посему я стоял в некоей растерянности, равно как и мой встречный, который, несомненно, до крайности перепугался: лицо у него было дико перекошено, и в руках звучно дрожало ружье (собака же его глядела на меня с изучающим любопытством, но без агрессии). Лишь только я попробовал заговорить, дабы поприветствовать и ободрить незнакомца, как он скоропалительно вскинул ствол и с ярым выкликом: «Изыди сатана!» – выстрелил в меня. Это было опрометчиво, но не смею обижаться (и вы, Деон, давеча оторопели моей наружности, несмотря на то, что узрели меня лежащим посреди светлой комнаты, – что уж говорить о встрече со мною в окутанной сумраком глуши). Вспоминая стихи Кальдерона: «Я человек среди зверей и дикий зверь среди людей»… После выстрела какое-то время я пролежал в беспамятстве. Когда очнулся, уже совсем стемнело. Я поднялся и, зажавши рукой кровоточащую рану, возобновил путь домой. Эвангел же, незадолго до сего события, движимый беспокойством, его радетельной натуре свойственным, вышел с фонарем во двор, ожидая скорого моего возвращения, и, заслышав отголоски выстрела, ринулся в лес. Меж тем я безнадежно плутал во мгле безвидной; голова шла кругом, ноги подкашивались, зубы безудержно стучали от всепронизывающего холода, из раны сочилась горячая кровь, а купно с нею иссякали последние силы. И вот сквозь отуманенный мрак я заприметил приближающийся ореол свечения, верно решив, что то был Эвангел, меня в потемках разыскивающий; я окликнул его. Эвангел помог мне добраться до дома, перебинтовал, уложил в постель, после чего написал вам письмо и выехал в Амвьяз, откуда отослал нарочного по вашему адресу, оставленному нам доктором Альтиатом… – Себастиан выпустил из уст легкий вздох. – Как и любая человеческая трагедия, сия свершилась по тривиальной причине недопонимания.